Текст книги "Под шапкой Мономаха"
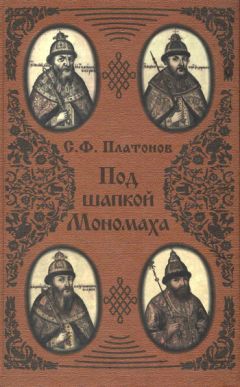
Автор книги: Сергей Платонов
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +6
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 40 страниц)
Когда в 1606 году совершилась канонизация царевича Димитрия и для церковного обихода потребовалось его «житие», оно было составлено (думается, в Троице-Сергиевом монастыре) в форме весьма литературной. Так как биография маленького царевича не могла иметь никакого содержания (ибо царевич, в сущности, еще и не жил сознательной жизнью), то «житие» было построено не на биографическом материале. Оно раскрывало перед читателем гибельный рост властолюбия Бориса Годунова, которое толкало его от преступления к преступлению. Стремясь к власти и престолу, Борис губит Шуйских, потом царевича Димитрия, потом царя Федора. Избранный на престол собственным замыслом и ухищрением, он своими преступлениями вызывает на себя кару Божию в виде самозванца. Как орудие Божьего промысла, самозванец имеет успех и истребляет Бориса со всем его родом. Исполнив же свое назначение, он в свою очередь истреблен благочестивым царем Василием Шуйским, которого Господь сподобил открыть и водворить в Москве мощи праведного царевича. Трагедия Бориса, павшего якобы жертвою своей преступной страсти, впервые получила в этой «повести 1606 года» литературное выражение, а чудесное явление мощей царевича было в ней объяснено, как награда свыше за неповинное страдание от властолюбца. Повесть, однако, не была принята в церковный оборот по обилию в ней политических выпадов и была для агиографического употребления сокращена и переделана. Но она дала схему и тон для всех последующих «житий» царевича, составленных в XVII веке и в Петровское время (жития Тулуповское, Милютинское, святого Димитрия Ростовского). Все редакции следуют этой схеме, и ни одна не вносит в изложение чего-либо исторически ценного. С другой стороны, «повесть 1606 года», понятая современниками как историческая хроника московских событий, была усвоена хронографами и «летопищиками» и в их компилятивном тексте получила широкое распространение в письменности XVII века. На ее основе выросло даже совсем легендарное, по выражению Карамзина, «любопытное, хотя и сомнительное», сказание «о царстве царя Федора Ивановича», в котором судьба царевича изложена с совершенно невероятными, наивно-сказочными подробностями. Вся эта группа произведений, пошедшая от одного источника, имеет для историка цену только как литературный эпизод, любопытные не фактическими данными, а эволюцией сюжета и взглядами авторов.
От этой группы «житий» и сказаний в стороне стоят некоторые особые рассказы об убиении царевича. Например, в официальном «Новом летописце» XVII века есть подробное повествование об угличских событиях, в литературном отношении самостоятельное. В одном из сборников знаменитого археографа П.М. Строева нашлось и еще одно особого рода повествование, по-видимому XVIII столетия. Из них рассказ «Нового летописца», наиболее обстоятельный, доставил много труда критикам. Его почитали самым веским свидетельством против Годунова такие историки, как С.М. Соловьев, Н.И. Костомаров, архиепископ Филарет. Но доводы их встречали решительные возражения со стороны, например, Е.А. Белова и А. И. Тюменева, специально изучавших угличское дело. Чем ближе подходит исследователь к общению со всей совокупностью текстов, относящихся к факту смерти царевича Димитрия, тем решительнее делается его отрицание данного памятника: «Рассказ «Нового летописца», – говорит А.И. Тюменев, – не выдерживает и той снисходительной критики, какую к нему применяет Соловьев. В самом рассказе мы встречаем много черт, которые именно заставляют нас заподозрить его. Ряд легендарных вставок и сказочных оборотов речи, ряд известий очень сомнительного свойства и заведомо ложных – все это никоим образом не позволяет видеть в авторе очевидца, современника или человека, писавшего на основании современных источников». Действительно, «Новый летописец» был обработан только в 1630 году (лет через сорок по смерти царевича), и его рассказ об угличской драме во многом уже принял вид эпически воспроизведенного предания. Состав его в основе напоминает «жития». Исходный пункт – в преступном властолюбии Бориса; оно ведет Бориса к ряду покушений на жизнь царевича: яд, много раз данный мальчику, не действует, ибо Бог не попускает тайной смерти царевича, «хотя его праведную душу и неповинную кровь объявити всему миру»; люди, предназначенные для покушения на царевича, отказываются от преступления (Загрязский, Чепчугов, действительная роль которых историкам неизвестна вовсе). Находятся наконец исполнители замысла – окольничий Клешнин (один из следователей, посланных в 1591 году в Углич царем Федором), Битяговские, Качалов, Волоховы (жертвы углического погрома). Во время прогулки поранили царевича Качалов и двое молодых людей: сын мамки Волоховой и сын дьяка Битяговского; старшие же вдохновители убийства остались в стороне. Убийцы от страха отбежали с места преступления «дванадесять верст», но кровь праведного вопияла к Богу и «не попусти их»: они возвратились назад и вместе с прочими «союзниками» своими были побиты «камением». Затем последовало пристрастное и обманное следствие со стороны Бориса и гонение на родню царевича – Нагих. Таково содержание рассказа «Нового летописца», безусловно подходящего к типу «житий» и родственных им сказаний. Оригинальнее повесть Строева. Она напоминает подробный дневник событий 15 мая 1591 года, описывает час за часом, что делал царевич в последний день своей жизни, и с протокольной точностью передает подробности покушения на него. На царевича напали, когда он был «противу церкви царя Константина», кормилицу «палицею ушибли», а царевичу «перерезали горло ножем». Однако ближайшее знакомство с построением и содержанием памятника заставляет сомневаться даже в том, чтобы его автор знал топографию города Углича (церкви царя Константина в «городе» писцовые книги не знают), а также и в том, чтобы он был современником события и чтобы текст его повести был старше 1606 года.
Если дозволительно по догадке определить время составления этой повести, то известный нам текст ее носит на себе черты XVIII, а не XVII столетия. Если исследователь останется в круге этих, характеризованных выше, произведений, не войдя в рассмотрение всей вообще московской письменности, посвященной Смутному времени, то он получит впечатление, что вера в преступность Бориса и насильственную смерть царевича Димитрия была всеобщей и непререкаемой у всех современников той эпохи. Однако такое впечатление было бы совершенно неправильным. Целый ряд наблюдений определенно говорит исследователю, что вопрос о виновности Бориса в смерти царевича оставался именно вопросом для многих современников события, несмотря на то что и позднейшие правительства, и церковь, и литературные произведения, рассмотренные нами, громко и настойчиво заявляли о злодействе властолюбца Бориса. Совесть московских людей не всегда успокаивалась на официальных уверениях, и наиболее смелые и искренние писатели пытались так или иначе обойти не предписанные «циркуляром» или «декретом», но тем не менее вразумительные и властные требования московской цензуры. О том, как они это делали, автору настоящих строк пришлось уже писать в одном из своих трудов, именно, следующее[53]53
Платонов С.Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI–XVII веков (СПб., 1910. С. 200).
[Закрыть]: «Русские писатели XVII века в их отношениях к Борису представляют любопытнейший предмет для наблюдения. Они писали свои отзывы о Борисе уже тогда, когда в Архангельском московском соборе была «у правого столпа» поставлена рака с мощами царевича Димитрия и когда правительство Шуйского, дерзнув истолковать пути Промысла, объявило, что царевич Димитрий стяжал нетление и дар чудес неповинным своим страданием именно потому, что приял заклание от лукавого раба своего Бориса Годунова. Власть объявила Бориса святоубийцею, церковь слагала молитвы новому страстотерпцу, от него приявшему смерть; мог ли рискнуть русский человек XVII века усомниться в том, что говорило «житие» царевича и что он слышал в чине службы новому чудотворцу? Современная нам ученая критика имеет возможность объяснить происхождение позднейших житий царевича Димитрия из ранней «повести 1606 года»; она может проследить тот путь, каким политический памфлет постепенно претворялся в исторический источник для агиографических писаний; но в XVII веке самый острый и отважный ум не был в состоянии отличить в житии святого достоверный факт от сомнительного предания. В наше время можно решиться на то, чтобы в деле перенесения мощей царевича Димитрия в Москву в мае 1606 года видеть две стороны: не только мирное церковное торжество, но и решительный политический маневр, и даже угадывать, что для Шуйского политическая сторона дела была важнее и драгоценнее. Но русские люди XVII века, если и понимали, что царь Василий играл святыней, все же не решались в своих произведениях ни отвергать его свидетельств, ни даже громко их обсуждать. Один дьяк Иван Тимофеев осмелился прямо поставить пред своим читателем вопрос о виновности Бориса о смерти царевича, но и то лишь потому, что в конце концов убедился в вине Бориса и готов был доказать его преступность. Он решался спорить с теми, кто не желал верить в вину Бориса; «где суть иже некогда глаголющии, яко неповинна суща Бориса закланию царского детища?» – спрашивает он, принимаясь собирать улики на Годунова. Но Тимофеев – исключение среди пишущей братии его времени: он всех откровеннее, он простодушно смел, искренен и словоохотлив. Все прочие умеют сдержать свою речь настолько, что ее смысл становится едва уловимым; они предпочитают молчать, чем сказать неосторожное слово. Тем знаменательнее и важнее для историка две особенности в изложении дел Бориса независимыми и самостоятельными русскими писателями XVII века. Если исключим из их числа таких односторонних авторов, как панегирист Бориса патриарх Иов и панегирист Шуйских автор «повести 1606 года», то сделаем над прочими такое наблюдение: во-первых, они все неохотно и очень осторожно говорят об участии Бориса в умерщвлении царевича Димитрия, а во-вторых, они все славят Бориса как человека и правителя. Характеристика Бориса у них строится обыкновенно на красивой антитезе добродетелей Бориса, созидающих счастье и покой Русской земли, и его роковой страсти властолюбия, обращающей погибель на главу его и его ближних. Вот несколько тому примеров. В хронографе 1616–1617 года, автор которого, к сожалению безвестный, оставил нам хорошие образчики исторической наблюдательности и литературного искусства, мы читаем о смерти царевича одну только фразу, что он убиен «от Митьки Качалова да от Данилки Битяговского; мнози же глаголаху, якоже убиен благоверный царевич Дмитрий Иванович Углецкий повелением московского боярина Бориса Годунова». Далее следует риторическое обращение ко «злому сластолюбию власти», которое ведет людей в пагубу; а в следующей главе дается самая благосклонная оценка Борису как человеку и деятелю. Успокоив и устроив свое царство, этот государь, «естеством светлодушен и нравом милостив», цвел «аки финик листвием добродетели». Он мог бы уподобиться древним царям, сиявшим во благочестии, «аще бы не терние завистные злобы цвет добродетели того помрачи». Указывая на эту пагубную слабость Бориса, автор сейчас же замечает:«… но убо да никтоже похвалится чист быти от сети неприязньственного злокозньствия врага», то есть диавола. Итак, об участии Бориса в угличском убийстве автор упоминает с оговоркою, что это лишь распространенный слух, а не твердый факт. Не решаясь его отвергнуть, он, однако, относится к Борису, как к жертве «врага», который одолел его «злым сластолюбием власти». Гораздо больше, чем вине Годунова в смерти царевича, верит автор тем «хитростройным пронырствам», с помощью которых Борис отстранил Романовых от престола в 1598 году. Эти пронырства он, скорее всего, и разумеет, говоря о «завистной злобе» Годунова. В остальном же Борис для него – герой добродетели. С жалостливым сочувствием к Борису говорит он особенно о том, как внезапно была низложена врагами «доброцветущая красота его царства». Знаменитый Авраамий Палицын не менее осторожен в отзывах о роли Бориса в угличском деле. По его словам, маленький царевич говорил и действовал «нелепо» в отношении московских бояр и особенно Бориса. Находились люди, «великим бедам замышленницы», которые переносили все это, десятерицею прилыгая вельможам и Борису. Эти-то враги и ласкатели «от многие смуты ко греху сего низводят его же, краснейшего юношу, отсылают и не хотяща в вечный покой». Итак, не в Борисе видит Палицын начало греха, а в тех, кто Бориса смутил. Ничего больше келарь не решается сказать об угличском деле, хотя и не принадлежит к безусловным поклонникам Годунова. Следуя основной своей задаче – обличить те грехи московского общества, за которые Бог покарал его смутою, Палицын обличает и Бориса, но угличское дело вовсе не играет роли в этих обличениях. Обрушиваясь на Бориса за его гордыню, подозрительность, насилие, за его неуважение к старым обычаям и непочтение к святыне, Палицын вовсе забывает о смерти маленького царевича и, говоря «о начале беды во всей России», утверждает, что беда началась как возмездие за преследование Романовых: «…яко сих ради Никитичев-Юрьевых и за всего мира безумное молчание еже о истинне к царю». И в то же время, как далеко не увлекает писателя его личное нерасположение к Годунову, умный келарь не скрывает от своих читателей, что Борис умел сначала снискать народную любовь своим добрым правлением – «ради строений всенародных всем любезен бысть». Князь И.А. Хворостинин так же, как Палицын, холоден к Борису, но и он называл Годунова лукавым и властолюбивым, в то же время слагает ему витиеватый панегирик; на убиение же Димитрия он дает читателю лишь темнейший намек, мимоходом, при описании перенесения праха Бориса из Кремля в Варсонофьев монастырь. Высоко стоявший в московском придворном кругу князь И.М. Катырев-Ростовский доводился шурином царю Михаилу и уже потому был обязан к особой осмотрительности в своих литературных отзывах. Он повторил в своей «повести» официальную версию о заклании царевича «таибниками» Бориса Годунова, но это не стеснило его в изложении самых восторженных похвал Борису. Ни у кого не найдем мы такой обстоятельной характеристики добродетелей Годунова, такой открытой похвалы его уму и даже наружности, как у князя Катырева. Для него и сам Борис – «муж зело чуден», и дети его, Федор и Ксения, – чудные отрочата. Симпатии Катырева к погибшей семье Годуновых принимают какой-то восторженный оттенок. И сами официальные летописцы XVII века, поместившие в «Новый летописец» пространное сказание об убиении царевича по повелению Бориса, указали в дальнейшем рассказе о воцарении Годунова на то, что Борис был избран всем миром за его «праведное и крепкое правление» и «людем ласку великую». Так, во всех произведениях литературы XVII века, посвященных изображению Смуты и не принадлежащих к агиографическому кругу повествований, личность Бориса получает оценку независимо от угличского дела, которое или замалчивается, или осторожно обходится. Что это дело глубоко и мучительно затрагивало сознание русских людей Смутной поры, что роль Бориса в этом деле и его трагическая судьба действительно волновали умы и сердце – это ясно из «Временника» Ивана Тимофеевча. Тимофеев мучится сомнениями и бьется в тех противоречиях, в которые повергают его толки, ходившие о Борисе. С одной стороны, он слышит обвинение в злодействах, насилиях, лукавстве и властолюбивых кознях; с другой – он сам видит и знает дела Бориса и сам чувствует, что одним необходимо сочувствовать, а других должно осудить. Он верит в то, что нетление и чудеса нового угодника Димитрия – небесная награда за неповинное страдание, но он понимает и то, что подозреваемый в злодействе «рабоцарь» Борис одарен высоким умом и явил много «благодеяний к мирови». Как ни старается Тимофеев разрешить свои недоумения, в конце концов он сознается, что не успел разгадать Бориса и понять, «откуду се ему доброе прибысть». «В часе же смерти его, – заключает он свою речь о Борисе, – никтоже весть, что возъодоле и кая страна мерила претягну дел его: благая ли злая…»
После всех подобных наблюдений можно ли утверждать, что для общества того времени преступность Бориса бесспорна и что угличское дело для его современников не представляло такого же темного и сомнительного казуса, какой оно представляет для нас? Канонизация Димитрия, совершенная в 1606 году, превратила этот казус в неподлежащий спору факт; но до обретения мощей царевича отношение к его праху и к его памяти со стороны правительства и народа было таково, что вовсе не давало повода предугадывать дальнейшее почитание и славословие. Царевич Димитрий не возбуждал к себе особого внимания и расположения, и смерть его, по-видимому, прошла без заметного шума и движения в обычном обиходе московской жизни. Надо помнить, что прижитый от шестой или седьмой жены (когда церковь не венчала и третьего брака), Димитрий не мог почитаться вполне законным: «…он не от законной, седьмой жены», – говорилось в официальных разговорах московских и польских послов. С такой, вероятно, точки зрения Димитрий не всегда даже назывался «царевичем». Любопытна в этом отношении одна запись в «келарском обиходнике» Кириллова монастыря, составленном в царствование Бориса Годунова. «Обиходник» перечислял «кормы», которые ставились монастырской братии в память и поминовение разных событий и лиц. Под 26 октября там записан «по князе Димитрее Ивановиче Углицком корм с поставца»: этот князь – сын Ивана III Васильевича, по прозвищу Жилка (умер в 1521 году). А под 15 мая (день смерти царевича) значилось: «…по князе Димитрее Ивановиче по Углецком последнем корм с поставца». Под этим «последним Углицким» разумеется Димитрий царевич, царевичем, однако, не названный. Когда же совершилась канонизация Димитрия, эту запись «обиходника» заклеили бумажкой и на заклейке написали: «…того же месяца в 15 день, на память благоверного царевича князя Димитрия Углецкого, Московского и всея Руси чюдотворца, праздничный корм с поставца». Так изменилась формула обозначения, обратившая «князя» в «царевича». Похороны царевича совершились тотчас по «обыске» следственной комиссии в Угличе; прах его не сочли необходимым отвезти в Москву к «гробам родителей» в Архангельском соборе, как возили в старину князей, умерших вне Москвы. Тот, например, Димитрий Иванович Жилка, о котором упомянуто в кирилловском «обиходнике», скончался в Угличе, но был похоронен в «Архангеле» в Москве подле гроба Димитрия Донского. Другой князь Димитрий, прозвищем Красный, брат Димитрия Шемяки, умерший в Галиче, был также перевезен в Москву (1441 год), и летописец рассказывает много любопытного о подробностях его кончины и о трудностях перенесения его тела, которое «дважды с носилиц срониша». Не было, казалось, никакого препятствия положить «Углецкого последнего» князя-царевича в московском Архангельском соборе; но этой чести ему не оказали. По слову летописца, царевича Димитрия «погребоша в соборной церкви Преображения Спасова» в Угличе. При этом угличане и самую могилу его вскоре позабыли. Родные царевича, высланные из Углича, разумеется, не имели возможности заботиться о ней, а царь Федор не видел в том надобности. Существует любопытнейшее свидетельство, что в 1606 году жители Углича не могли указать место погребения царевича духовенству, присланному из Москвы за его телом. Всем городом искали могилу (не совсем ясно, внутри или вне Преображенского собора) и «долго не обрели и молебны пели и по молебны само явилось тело: кабы дымок из стороны рва копанова показался благовонен, тут скоро обрели». Устранив с этого известия агиографический налет, получим бесспорный факт – заброшенной, даже потерянной могилы. Что мешало местным почитателям памяти царевича, если таковые были, чтить его могилу? Страх Борисовых гонений мог подавить желание украсить последнее убежище опального царевича, но помнить место его упокоения никто не мог запретить. Современники события 1591 года отметили, что царь Федор не был на погребении брата в Угличе, хотя и посетил в те дни, на праздник Троицы (23 мая), Троице-Сергиев монастырь. Они объясняли это хитростью Бориса, который будто бы зажег Москву, чтобы отвлечь от поездки в Углич. Однако московские пожары 1591 года произошли не в мае, а в июне и потому не могли стать помехой для царской поездки в Углич, где царевича схоронили, вероятно, еще до Троицына дня. Отсутствие царя Федора надо объяснить иначе. Царь вообще мог ездить и, по-видимому, любил поездки. Кроме обычных «ближних походов» кругом Москвы, он совершил, например, зимний поход под Нарву, где участвовал в военных действиях (1590 год). В 1592 году весною он объехал монастыри в Можайске, Боровске и Звенигороде. Через три года он опять был в Боровске. Но в Углич царь Федор не собрался ни разу ни на погребение брата, ни на большое церковное торжество открытия мощей князя Романа Угличского (1595 год). Причина этого не в физической слабости Федора; если она не случайна, то она кроется, всего вернее, в том, что Углич почитался тогда «уделом», местом выделенным из государственной территории и чужим; а любовь к брату Димитрию у царя Федора не была столь велика, чтобы подвинуть царя посетить «удел» и почтить своим присутствием похороны царевича, смерть которого вызвала в этом уделе погром и кровопролитие. Ко всему сказанному надо прибавить и еще одну любопытную и знаменательную частность, отмеченную польскими дипломатами того времени. Они указывали московским людям при переговорах с ними в 1608 году, что время и обстоятельства кончины царевича Димитрия были в Московском государстве основательно призабыты и что, когда московским воеводам пришлось обличать выдумки самозванца, они явно путались и ошибались. Так, черниговский воевода в 1603 или 1604 году писал остерскому старосте, что царевич закололся в Угличе в 1588 году, «шестнадцать лет тому назад», тогда как это было в 1591 году, тринадцать лет тому назад; и погребен царевич, по сообщению воеводы, был «в церкви соборной Пречистые Богородицы», а поляки знали, что в Угличе такой церкви нет, а есть соборная церковь Святого Спаса. Приведя и другие ошибки в том же роде, поляки справедливо полагали, что в них были повинны не сами воеводы, а московские их начальники, присылавшие им неверные сведения из Москвы, «учинил такое негодное порозненье Борис, господар ваш, и его дьяки», – говорили они.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































