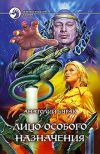Текст книги "Соколиный рубеж"

Автор книги: Сергей Самсонов
Жанр: Книги о войне, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 53 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
– Ну конечно, малыш, ты обгонишь меня. Но не раньше, чем я превращусь в старика на больничной каталке. Или хочешь, чтоб я вообще не летал, пока ты не подтянешься? – Я смотрю на его пухлощекое, нежное, но и резко очерченное в подбородке и скулах лицо, красивое отчасти промтоварной, открыточной смазливой красотой, – с неумолимой силою породы в нем проступает мой отец: отцовский лоб, упрямый подбородок, рельефный рот потомственного гордеца.
Он смотрит на меня с проказливой улыбкой, как во все тридцать тысяч дней нашего детства, когда мы, голые, как дикари Майн Рида, забирались в чащобу Мюрицского леса, сооружали планеры из старых одеял и, коченея на ветру, боролись с высоченными обрывистыми волнами в лагунах.
Я знал о прибытии свежего мяса в эскадру, я знал, что он закончил школу в Ангальт-Цербсте и должен в скором времени отправиться на фронт, но не знал о его назначении в нашу эскадру. Знакомьтесь – Эрих Нахтигаль. Или попросту Буби, Малыш. Еще не оперившийся птенец, из которого вырастет черт знает что. Обаятельнейший вертопрах и ходячее, а вернее, летающее нарушение параграфа 72. Самолюбивое животное с моралью жеребца-производителя и в довершение вышесказанного мой единокровный младший брат.
4
Увидеть Нику – только это гудело набатом в его голове. Вот чем воистину его, воздушного солдата, наградили – пятидневной побывкою, радостью, страхом отыскать эту девочку в миллионной Москве. Никто не слышит одиноких голосов великой прорвы лейтенантиков, совершенно уверенных, что любят только раз в жизни и что лучше той девушки нет никого. Никто не должен слышать молчаливого задавленного стона русских воинов, умудрившихся втюриться или тоскующих по покинутым женам и семьям в неурочное время войны; никому уж теперь никаких отпусков не положено, разве что по ранению. И за всю жизнь, за всю войну не выпадает большинству такого, что чугунной подковой обрушилось на голову капитана Зворыгина.
Застигнуть Нику… Но увидел Кремль – и о Нике забыл. Кремль, Кремль был явлен троим освобожденным из-под стражи «диверсантам» – небывалый, как будто накрытый черной давящей тенью, которая наползла на Россию два года назад и с тех пор ненамного подвинулась вспять под великим всенародным нажимом. Совершенно не тот красный Кремль, который они видели на репродукциях огромных солнечных полотен или издали, – этот был без рубиновых звезд, без зубцов типа «ласточкин хвост» и ступенчатого Мавзолея с заревым начертанием ЛЕНИН, с желтоватым Сенатским дворцом, разделенным на куски, словно торт, широченными черными маскировочными полосами, так что в глубь нерушимой фасадной стены уходили сквозной чернотой переулки: получался уже не дворец, а как будто обычный квартал, вереницы отдельных домов, так что ясно: прорвись к сердцу Русской земли дальнобойные «юнкерсы» – никакого Кремля не увидят они с высоты.
Но для них, отличенных и призванных соколов, все одно проступали в таинственной надмировой вышине и внимательно, строго глядели на них негасимые красные звезды. Одолели последний высотный барьер и как будто забыли, что не только с заломленной головой, но и сверху возможно увидеть священные звезды, что возможна подъемная сила своя и что небо везде – безначально и вечно свободно.
Окончательная справедливость всех советских людей неприступно молчала над ними. Никому ничего объяснять не должна, все должны – отстоять от любого врага, от себя самого, от вопросов своих эти стены, все исполнить, как надо, и тогда будешь призван сюда, поплывешь, под собою не чуя земли, под священные своды.
В ослепительно залитом вечным полярным сиянием пространстве, в белокаменном зале, соборе цепенела рядами плечистая молодая мужицкая масса: пехотинцы, танкисты, авиаторы, артиллеристы, моряки в кителях с золотыми погонами, возвращенными в Красную армию, пластуны в своих черных черкесках с мельхиоровыми газырями и красным башлыком за спиной, инженеры, конструкторы, бригадиры, шахтеры, колхозники в одинаковых темных костюмах, и все – с посуровевшими, прокаленными вышним сиянием лицами.
Дуновение силы – и тотчас из морозного этого света появились сперва адъютанты, а потом генералы с партийными секретарями, среди них и немного отдельно от всех – с клиновидной бородкой, Калинин! И уже вырастали, прямились, выходили из строя один за другим пехотинцы, уничтожившие пулеметный расчет или дзот, лично – восемь фашистов, застрелив пятерых и прикладом убив остальных, командиры подлодок, эсминцев, знаменитые снайперы с сотней зарубок на прикладах своих СВТ или «мосинок»…
Что-то ткнулось корягой Зворыгину в бок, покачнув его, выдавив из пилотской шеренги, и пошел в раскаляющий, отворяющий кровь, не сжигающий свет и, сцепив деревянное рукопожатие с председателем СССР, на мгновение увидел человека из дряблой, изношенной кожи, стариковски уставшего от награждений десятками, сотнями, принял два нестерпимо весомых футлярчика с Золотою Звездою и орденом Ленина и отчеканил, просипел зачужавшим, потаявшим голосом в небо: «Служу Советскому Союзу!» А за ним той же огненной, раскаленной, как сляб на рольганге, дорожкой подступили в веснушчатому старику Лапидус и Султан с аккуратно пришитым, заштопанным ухом.
Фотографические молнии вмуровали в газетную вечность застывшие в жалком победоносном ожидании летчицкие лица, и вот уже воздушное течение потащило геройскую массу в разверстые двери-врата – наверное, в новый сияющий зал, где будет бокал за победу. Их всех наставляли, куда им идти, к чему быть готовым… Зворыгин забыл.
– Товарищ Зворыгин. Идите за мной. – Безликий от бесперебойного «есть!» капитан дорогу ему преградил, всем видом своим исключая вопросы «куда?» и «зачем?».
Тащил коридорами, вывел под небо. Бывало, посланцы с командных высот необъяснимым образом отыскивали Григория в тылу, сажали в подогнанный черный «паккард», везли среди ночи в КБ, на завод, к волшебно возникшему в чистой степи секретному аэродрому, каких только новых машин Зворыгину ни припадало облетывать, на «мессере» даже трофейном резвился… Но здесь и теперь – вели его в глубь, а не из…
Фонарь над обычной подъездной дверью – и вниз… Десяток ступенек, одна дверь, другая. Изогнутые коридоры. Зворыгин почувствовал холод и тяжесть, ту толщину бетонных перекрытий, в сравнении с которой пять накатов – это спички, полутонный фугас – что плевок на асфальт… В обложенной дубом, обшитой зеленым линкрустом приемной сидели главком авиации Новиков и незнакомый старый генерал с голубым авиаторским кантом на пыточно тяжких погонах – несгибаемо прямо, точно каждому всунули под коверкотовый китель вдоль хребта по штакетине, и ни тот, ни другой на Зворыгина не повернул головы: приварило, тиски. Но на дверь, что открылась напротив входной, – как один человек, как собаки, словно под фонарем на «Внимание! На девять часов, тридцать градусов выше – „худые“!»
Запуская оттуда новый воздух и свет, появился в массивных дубовых дверях лысый словно колено и красный как рак человек и движениями словно обваренной, проводящей какую-то высшую волю руки как бы вмел подскочивших пружинками воевод в кабинет, а потом посмотрел на Зворыгина жадными, безучастными сторожевыми глазами и, назвав по фамилии, повелел и ему проходить. И Григорий, войдя в кабинет, рухнул сердцем.
Из-за того конца массивного стола, подымая волною подземного жара приближенных, выжигая весь воздух в огромном своем кабинете, прямо против Зворыгина медленно, тяжело подымался нестерпимо живой, осязаемый – Сталин.
– Проходите, товарищ Зворыгин. Не стойте в дверях, – зазвучал голос силы, направляющей жизни всех советских людей, – утомленный, негромкий, отчетливый голос, выговаривающий каждое русское слово с небольшим, но заметным старанием, пересиливанием неродного ему языка, и от этой неспешности и пересиливания каждое слово было весом со все самолеты и танки, урожаи, заводы страны, даже самое будничное, как сейчас, так что каждый немедленно, отдавая все личные прочности, принимал на себя справедливую тяжесть вот этого слова, как налитый вишневый свечением слиток – формующий пневматический пресс.
И Зворыгин пошел, поражаясь тому, что его не трясет, на усталый, отчетливый голос, который не только давил, вытесняя Зворыгина из него самого, но и страшно магнитил, наделяя способностью не задрожать, не сломаться и не оступиться. Он, Зворыгин, не чувствовал страха, забыл смертный страх, различая обжитый поношенный френч, шаровары защитного цвета, сапоги мягкой кожи, обтянувшие ноги наподобие плотных чулок, различая лицо человека – и похожего, и не похожего на несметные тысячи изображений Верховного, изваянных из мрамора, гранита, гипса, бронзы, написанных маслом, рисованных карандашом, запечатленных на бесстрастной кинопленке, вытканных знатными ткачами на коврах и вырезанных знатными оленеводами из кости, взращенных на земле из хлопка и составленных в голубой вышней пустоши из самолетов.
– Извините, Григорий Семенович, за то, что мы вас оторвали от ваших товарищей. Но если вы сейчас в Кремле для получения заслуженной награды, то мы хотели бы узнать от вас, как наши летчики сейчас сражаются на фронте. Примите мой сердечный привет и благодарность.
Раскаляющим жжением в груди он почуял вот этот привет, и рука его взмыла, поползла, одолела тугую полоску пограничного воздуха для того, чтоб сцепиться с его человечески теплой рукой! Пожимая, смотрел неотрывно в немного прищуренные, с магнетическим блеском глаза, что глядели в него с уважительным ясным вниманием, все уже про Зворыгина зная и видя его не насквозь, а как будто бы в целом, во времени: откуда он, Зворыгин, есть пошел, на чем возрос, кем был воспитан, и как он стал тем, кем является сегодня, и каким станет завтра – еще постальнеет или, наоборот, поржавеет, став негодным для этой и будущей небывалой воздушной войны и строительства СССР.
– Я всегда вам немного завидовал – летчикам. Человек в своей массе – существо земнородное и поэтому неба боится. И немногим дано подниматься в него и не только летать, но и бить в нем фашистов. Садитесь, пожалуйста. Все садитесь, товарищи. Скажите, Григорий Семенович, правду ли говорят, что немецкие асы по рации предупреждают друг друга о вашем появлении в воздухе?
– Товарищ Верховный… – Онеметь ему было нельзя. – На это я могу сказать, что к нашему шестнадцатому гвардейскому полку отношение у немцев в самом деле особое. На Кубани мы стали им очень интересны как личности. Это раньше мы все для них были иваны. Наши «аэрокобры» приметные, киль у нас красный, заводская окраска – олива. Раз-другой с нами встретились и запомнили по номерам, знают: этих, то есть нас, просто так не сожрешь – мы их сами сейчас будем кушать. Но немецкие асы-охотники разные: одни и в самом деле от близкого общения уклоняются, а для других это большое удовольствие – над тобою себя, как от Бога, поставить. Не хотят уступать нам господство, упорные.
– Значит, мы все еще не господствуем в воздухе? – В ровный голос добавилось что-то, от чего всех живущих и дышащих здесь охлестнуло подземной леденистою студью. – В чем тут дело, товарищ Зворыгин? Как вы думаете лично? Может быть, дело в качестве наших машин? Может быть, они сильно, – сделал он ударение на «сильно», – уступают немецким в защищенности, вооружении, скорости? – Каждым словом продавливал перемятых, отжатых людей – точно табак распотрошенной папиросы в чашку своей трубки. И Зворыгин уже догадался, что половина здесь присутствующих лично ответственна за производство новых самолетов, а другая – за незамедлительное выявление виновных в том, что наши машины слабее немецких. – Может, наши конструкторы недорабатывают? Или дело тут не в самолетах, а в летчиках? Может быть, мы Зворыгина перехвалили?
– Летать, товарищ Сталин, – произнес он священное имя, и спазм захлестнул ему горло, – можно даже на бабушкином утюге. Лишь бы руки из нужного места росли.
Что же он, поспешил оправдаться? Виноваты машины – не он? Что его за язык потянуло? Соколиная спесь? Или страх показаться Верховному слабым, негодным? Правда же была в том, что Зворыгин ответил бы точно так же – любому.
– Хорошо ты сказал, – Сталин вздернул чубук. – Вот пришел человек и берется своим мастерством компенсировать прямо в бою все ошибки наших авиаконструкторов.
И совсем непродышно от этих похвальных страшных слов его сделалось в небольшом кабинете, словно тяжкий лепной потолок опустился и сдвинулись стены, и какою-то долей рассудка Зворыгин постиг, что Верховный расчетливо наложил на кого-то из призванных свое давящее недоверие и что сам он, Зворыгин, был призван сюда, вероятней всего, лишь затем, чтобы тотчас послужить подтверждением его недоверия.
– Товарищ Верховный, машины у нас хороши. Недостатки, конечно, имеются и у «Лавочкиных», и у «Яков». Совершенной машины я еще под собой не имел. Та же «аэрокобра», заморский подарок, по скорости зверь, но на малых высотах – утюг утюгом. «Мессершмитт» их проклятый хорош, спору нет: он за газом идет, ровно как призовой жеребец, только тронь – замирает как вкопанный, а наш «Як» в этом смысле ну о-очень тупой: дашь газ – он пока-а-а раскачается, а газ убираешь – он прет все и прет. Но в горизонтальном маневре он «мессер» сожрет. Нет, «мессер», конечно, на редкость вертлявый, но я его на «Яке» только так на виражах перекручу. То есть каждый нормальный летун, кто сектором газа умеет работать рывками. – Едва только он нападал, как собака на след, на свое, становилось ему безразлично, перед кем он стоит.
– И машины хорошие, и Зворыгин хорош. Парадокс. – Верховный оборвал его с отечески-учительской усмешкой: знать о секторе газа и прочих мелких связках и жилках невеликих пернатых ему было излишне – он держал в голове только главное: «мы способны» и «мы не готовы», только силу дивизий, фронтов, авиации СССР, но улыбка его, расщеплявшая кожу в углах немигающих глаз, говорила о том, что Верховному нравится поглощенность Зворыгина истребительной музыкой, говорила: смотрите, вот каким должен быть настоящий наш сокол – вот какой должна быть в человеке приверженность правде.
Но слишком лучезарным был его ласкающий прищур, чтобы тотчас же следом не овеяло новой, страшнейшею студью всех призванных, что и так уже окостенели от обморожения крепким его недоверием.
– Почему-то мне кажется, что за каждым таким парадоксом стоят разгильдяйство и очковтирательство. Но вам лично, товарищ Зворыгин, я хочу принести благодарность за то, что вы говорите нам правду. А мне говорят: машины у нас просто великолепные. Самые лучшие машины в мире, говорят. Докладывают: справились. Догнали, перегнали. Взяли верх над немецкими асами. Празднуют! Все бы им только праздновать! Нацепили всего на себя! – ткнул прокуренным пальцем Зворыгину в грудь и как будто поддел, сковырнул приживленную ни за что Золотую Звезду, но казнил не Зворыгина, нет, а Зворыгиным, зворыгинской правдой главкома военно-воздушного войска и наркома авиационной промышленности – на лицах их не обнаруживалось жизни, всем вырвали что-то из глаз и вырезали языки, и только Зворыгин, помимо хозяина Русской земли, остался в звенящем от стужи его кабинете живым.
– Не взяли, но берем, товарищ Сталин. День за днем, понемногу, не всегда, не везде, но берем. Нам все чаще теперь попадаются их сопляки необученные – это сразу ведь видно по полету машины, что готовили их крайне спешно. Значит, некого больше стало бросить на нас. Это факт медицинский, это вам уж никто не соврет. Есть, конечно, у них еще части отборные, те же «черные волки» и «мельдерсы» – с ними мы еще горя хлебнем.
– Неужели никто не может поставить вот этих отборных фашистов на место? Почему есть такие немецкие асы, которые могут уничтожить десятки советских машин, а у нас таких летчиков нет? Это что? Пропаганда фашистской печати? Почему мы не можем добиться такой же личной результативности? Ваше мнение, товарищ Зворыгин.
– Товарищ Верховный. Каждый немец, он жмет на свой личный рекорд: подобрался, свалился, убил и удрал – вот их смысл, вот их главная тактика. Он свое самолюбие кормит, фашист. А наша главная задача – сбережение людей. Пехотинцев прикрыть на земле, бомбовозы родные прикрыть. Лучше я никого не убью, чем позволю убить одной бомбою много своих. Вот идет эшелон их лаптежников или «юнкерсов» – бомберов на позиции нашей пехоты – мы его разбиваем. Это первая наша задача. А гоняться за их «мессершмиттами» мы где угодно не можем – без небесной покрышки пехоту свою оставлять. Все согласно идее народного братства, товарищ Верховный. Глубоко справедливая, верная тактика. Потому что мы вон уж, под Курском – не они же в Москве.
– А если мы дадим вам возможность летать, где вам хочется? Вам и вашим товарищам лично? Если мы вас отпустим с цепи? Сможем мы в таком случае нанести немцам больший урон?
– Без сомнения, товарищ Верховный. Охоту в глубоком немецком тылу мы ведем… иногда, но задачи прикрытия с нас ведь никто не снимает.
– Почему не снимает? Почему мы не можем разграничить задачи? Мало летчиков? Мало машин? Товарищ Шахурин, скажите, сколько мы производим самолетов за сутки? Товарищ Новиков, скажите, можем мы срочно сформировать специальное подразделение свободных охотников? Наберется у нас классных летчиков для начала на полк? Для того, чтобы мы хорошенько смогли щелкнуть по носу этих зарвавшихся асов?.. А как вы, товарищ Зворыгин, отнесетесь к тому, чтобы стать командиром такого полка? А мы подумаем о том, чтобы со временем развернуть этот полк в полноценную авиадивизию.
– Я отнесусь, товарищ Сталин, к такому предложению с восторгом. – Он, Зворыгин, услышан Верховною силой: отвела ему в воздухе столько свободы, сколько сам он хотел и не мог попросить; целиком ее воля совпала с его личной волей и тягой к самоосуществлению. – Мне бы только к земле в связи с новым назначением не прирасти.
– Молодец! Молодец, что опять рвешься в небо, на фронт. А мне тут говорят, что Зворыгина надо беречь. Что Луганского надо беречь. Говорят: мы назначим Зворыгина начальником отдела подготовки молодых истребителей. Генеральскую должность дадим, чтоб его не убили на фронте. Говорят: мы отправим Зворыгина представителем нашей боевой молодежи в Америку. Из Зворыгина сделаем символ нашей непобедимости в воздухе. Символ! Если всех так беречь, что мы немцу покажем тогда? Иконостас ему покажем? Это Гитлер пускай запрещает летать своим Борхам и Хартманнам. – И железным арапником захлестнуло Зворыгину сердце: Борх, Борх! – Ну, товарищ Зворыгин, хотите в Америку? Генеральскую должность хотите?
– Нет, товарищ Верховный, в Америку я не поеду. Разве тушкою только.
Верховный смотрел в него с нижним прищуром намученных долгой бессонницей век – все так же лучезарно, уважительно и даже с любованием: вот каким должен быть его, сталинский, сокол, – но в глубине была и не кончалась настороженность травленого зверя, и Зворыгин почуял, что Сталин не верит ему, прозревая в Зворыгине нарождающееся отчуждение, видя в нем, сквозь него миллионы солдат своей армии, зная, что и Зворыгин, и все миллионы воюют, как надо, служат Русской земле, как еще никогда не служил ей народ, но потом… В Ленинграде еще умирали от голода, Белоруссия и Украина еще были под немцами, а Верховный уже заглянул своим нечеловеческим взором в отдаленное «после войны» и увидел солдат-победителей, исполинскую, страшную силу, которой сам черт уже будет не брат, – как вернется в Россию она с верой в новую жизнь, с верой в то, что он, Сталин, все устроит иначе – без кнута и холопства, с верой в подлинные справедливость и братство, и давно уже не о войне думал Вождь, а о том, что ему делать после победы со своими солдатами, чтобы его не раздавило тяжестью их веры.
– Ну что ж, приступайте, товарищ Зворыгин, к выполнению новой задачи. Собирайте под вашей рукой все лучшие кадры. Полагаю, что штаб ВВС вам окажет всестороннее содействие. Я советую вам быть настойчивее в требованиях. Лучший полк должен быть оснащен самой лучшей техникой, вооружением и боеприпасами. То же самое касается обеспечения вас продовольствием, амуницией и бытовыми условиями. Кстати, как у вас дело обстоит со снабжением?
– Снабжение хорошее, товарищ Сталин. Можно сказать, великолепное. Неудобно вот даже перед всеми другими родами за такие харчи.
– Неудобно пусть будет тому, кто свой хлеб получает и кушает даром, – отмахнулся Верховный и начал выбираться из кресла, подымая Зворыгина, всех, подскочивших, как варом охлестнутые, догоняя и перегоняя Верховного, распрямляясь, вытягиваясь до того, как он сам распрямится. – Ну а ты – заслужил!
И увесисто шлепнул своего летуна по плечу, проварив до нутра: обожающая благодарность качнулась в Зворыгине, всплыв из каких-то донных отложений родовой крестьянской памяти, перегноя столетий, в течение которых двунадесять колен его предков бесхребетно сгибались и валились в дорожную пыль перед маленькой крепконогой лошадкой и лисьим малахаем монгольского сотника, замирали во фрунт вдоль пути золотой кавалькады, круглоглазо лупясь на схождение благодатного пламени самодержца российского, и Зворыгин сейчас же не простил себе эту влюбленно-холопскую дрожь, понимая, почуяв: Верховному нравится вызывать в человеке эту страстную дрожь обожания, нравится – заглянуть человеку в нутро и достать его хлюпкую от благодарности душу.
– Ну а может, вы лично, товарищ Зворыгин, нуждаетесь в чем-то? Ваши близкие, ваши друзья? – Попроси без стеснений! Желание есть? Невозможное, как воскрешение из мертвых? Сделай мне одолжение – проси чего хочешь!
Вождь смотрел ему прямо в глаза, видя, что все родные Зворыгина в мерзлой уральской земле, зная все о зворыгинском раннем сиротстве под детдомовским розовым светоносным плакатом «Счастливые родятся под советской звездой!», и, быть может, ему надо было услышать от Зворыгина именно это – молчание. Чтобы он не спросил: «где мои?», никогда не спросил: «почему?» и «зачем?», не спросил даже: «где их могилы?», целиком, навсегда осознав, что вопросов таких вообще нет в системе измерений Верховного.
– Лично в чем-то нуждаться буду после войны, – выдал он заводское изделие ширпотребной штамповки, ходовую, вмененную каждому истину, но сейчас это так прозвучало, точно он не нуждается в вышней согревающей милости, точно лично Верховный ничего ему дать для дальнейшего, большего счастья не может – все свое он, Зворыгин, взял сам и живет красотой боевого полета в никому не подсудной воздушной свободе.
Он смотрел машинисту Истории и хозяину страшного времени, человеку из старой, поношенной кожи в глаза, неотрывно смотрел все огромное это безвоздушное, сердцебиенное время, и глаза их, встречаясь, говорили друг другу много больше, чем все их слова, и немного не то или даже совсем уж не то, что Верховный и воздушный солдат его армии произносили. Глаза «Самого» говорили, что он верит всему, что Зворыгин сообщает ему о текущем положении дел на воздушных фронтах, что Зворыгин воюет как надо и что надо воспитывать на примере Зворыгина новых, желторотых еще летунов, но что он также знает, что Зворыгин – кулацкое семя и уже в силу этого нет в нем, Зворыгине, цельного, безраздумного, беспрекословного обожания Партии; что Зворыгин строптив, своеволен, никогда не признает оглобли, но он, мудрый Сталин, хорошо понимает, что дикий, не признавший хозяина сокол быстрее летает, бьет добычу точней, чем обузданный, прирученный гнездарь.
Глаза же Зворыгина не то чтобы прямо говорили всю истину, но конечно же скрыть не могли, что он знает, что он для Верховного навсегда под сомнением, так же, как и любой из отмеченных и обласканных русских военного времени; что он видит и слышит, как Вождь то ласкает, то давит словами и голосом то одного, то другого наркома и маршала и что страх постаревших за час на полжизни людей ему нравится… Да и глупо, смешно применять слово «нравится» к обращению сталинской крови: ощущать свою силу, значительность каждого своего шевеления пальцами, бровью, зная, как безотвально ловят каждое слово его, каждый жест все вот эти наркомы и маршалы, заставлять их угадывать истинный смысл своего невнимания, хмурости, пренебрежения, стариковского даже кряхтения и кашля, подавая надежду, перед тем как убить, и давая вздохнуть, захлебнуться восторгом «прощен!» на качнувшейся виселичной табуретке. Глаза же Зворыгина выдавали, что он незнаком с этим страхом, что потребности что-то угадывать в отношении себя по движениям Верховного у Зворыгина нет, быть не может, и что этому вот сухорукому старику надо думать о смерти, о минутности силы своей – да и думает тот еженощно об этих вещах в одиночестве. И Верховный конечно же видел все это в глазах у него, отпуская его со словами:
– До свидания, товарищ Зворыгин. Мы будем за вами следить.
Ушел он от Сталина как во сне. И не мог понять, где он, – стоя под сине-черным, беззвездным, несказанной какой-то светосилой наполненным небом, видя перед собой смутнокрасную неприступную стену с утонувшими в черной непрогляди зубцами. И не мог сам с собою ужиться, зажить в окончательном, цельном понимании, кто же он – этот вот пожилой человек в старом френче, воплощение, источник, причина мирового порядка на одной шестой суши от Полярного круга до туркменских пустынь. Не этим ли умом был выношен план создания новой страны, не этой ли волею было разогнано великанское переустройство зворыгинской родины из деревянной, черноземной, соломенной, лапотной в несгибаемо и непреклонно железную – от сгоревшей во мраке ледяной искры замысла до алтарного зарева сталелитейных махин, непрерывного тока чугунного пламени, до всемирного рокота беспримерных по мощи турбин гидростанций? Разве не этой волей были слиты воедино все таланты и воли двухсот миллионов и направлены на освоение беспредельных степных и таежных пространств, овладение реками, покорение неба? Разве же не под этою властью – за три пятилетки! – совершен был рывок от гривастых живых тягачей, деревянных борон и округлых движений жнецов к самолетам? Не эта ли сила дала Зворыгину больше, чем все, – то одно, что ему было нужно для подлинного бытия, для его самоосуществления, – крылья?
Ничего же ведь не было бы в его жизни, появись он на свет под другой, не советской звездой, будь зачат он на два или три пятилетия раньше. И вот так бы и прожил он всю свою молодость в неизбывной и неизъяснимой тоске по простору высотному, и никто не сказал бы над его головой, надо всеми крестьянскими головами в России: мы зовем вас туда, нам нужна ваша сила и тяга наверх, может каждый, кто хочет и кому от природы дано, обитать теперь там, на воздушной свободе. Никогда не увидел бы он фанерный биплан наяву, а потом – краснокрылый, величественный, совершенный по стройности и чистоте, перешедший на марки, открытки, плакаты самолет «Рекорд дальности», совершенно секретно построенный для перелета через Северный полюс в Америку. Никогда не увидел бы он на заводе «Серп и Молот» большого плаката с начертанием, ударившим в сердце, оборвавшим и вновь запустившим его с новым смыслом: «КОМСОМОЛЕЦ – НА САМОЛЕТ!!!» Ясноглазые и белозубые парень и девушка в одинаковых шлемах и летных очках простирали вдаль руки, указывая на стремительный очерк абстрактного, неизвестной породы биплана, и в глазах их плескалась живая вода – вышину они пили, не в силах ни насытиться, ни оторваться.
Он пахал на железном заводе подручным сталевара мартеновской печи: распиковывал летки, выпуская из огнеупорной утробы стальную желто-рудую кровь и малиновый шлак, выскребал закозлевшие чугуном желоба, выходил в рекордисты – и ринулся, как кобель за потекшею сукой, на Ходынское поле: вот, вот я! тут написано, нужен вам каждый. И бегал каждый день после смены куда указали – за Петровский дворец авиаторов, пешкодралом двенадцать километров в Центральный, преподобного Чкалова, аэроклуб.
Пообедавший ячневой кашею с каплей машинного масла, забывал голод хлеба, за смешной школьной партой страшась не нажраться иным – требухой самолета, матчастью, умным хаосом движущих сил и нагрузок, обращаемых собственной человеческой волей в единую скоростную летящую, петлевую, качельную, винтовую, падучую жизнь.
Колокольный бой сердца, паровой молот крови, обессиливающий стыд покушения на первый отрыв от земли, по убожеству и дерзновенности будто бы равный посягательствам первых строителей аэропланов, махолетов на мускульной тяге, птерозавров, летатлинов из китового уса, сыромятных ремней, кропотливо нащипанных перьев, красноталовых прутьев и шелка. Проскочила под пальцами искра, запуская в щенке вечный движитель. «Так, от себя ручку с плавностью, газ…» – повторял он немым говорением в сидячей молитве… И какой же приимчивой стала через несколько жалких мгновений штурвальная ручка и какою податливой, преданной сделалась через несколько месяцев. Перестав коченеть от макушки до пяток, он держал ее, как виноградные пальчики, чувствуя, как ничтожное телодвижение передается машине, как оседланной лошади, девушке, что идет с тобой рядом в настрое «не смей – значит, можно», так что кажется, только подумаешь, а машина сама уж скользит на крыло.
Даже контур открытой кабины сбоку выглядел лункою для помещения яйца, из которого должен был вылупиться ошалелый птенец. «У-2» был машиной чрезвычайно послушной, бесконечно прощающей все прегрешения юным рукам и мозгам: затащить ее в штопор можно было лишь силою, ровно как бугая-пятилетка или, скажем, пугливую лошадь, не идущую в быструю и глубокую воду, и с диковинной легкостью тут же из штопора выйти – стоит лишь отпустить прикипевшую к пальцам самолетную ручку.
А потом появились на Тушинском поле купцы – настоящие, невероятные в темно-синих своих гимнастерках с краснозвездною «курицей» на рукаве.
Он крутил черта, как только мог, обжигаясь стыдом, представлением, как грязно у него все выходит: как под церковью с длинной рукой христарадничал – вот как; ставил дыбом машину, как лошадь на полном скаку, выбирал рукоять на себя до упора и резко, всею силой давал одновременно левой ноги и штурвальную ручку в правый крен до отказа, и земля вместе с белыми облаками над ней начинала навстречу ему завораживающее и, казалось, неостановимое круговращение. А когда перестала трясти «кукурузник» земляная шершавая дрожь и ступил он на новую землю, показалось: стоит под смеющимся небом один. Кто-то кликнул его, словно тюкнув топором по колоде, и Григорий сорвался на клич, ровно как безголовый петух, – прямо к этим матерым героям, увлеченно и весело выбирающим из своих синих пилоток переспелые вишни.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?