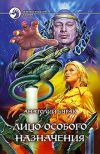Текст книги "Соколиный рубеж"

Автор книги: Сергей Самсонов
Жанр: Книги о войне, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 53 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
По дворам самых крепких кремней, ровно как на работу артельщики, стали ходить поселившиеся на селе городские партийные уполномоченные – конфисковывать скот и имущество, а самих утвержденных к раскулачиванию мужиков вместе с малой детвой и зажившимися стариками выселять из домов, и теперь каждый день Гришка видел на дворе сельсовета чьих-то справных быков, кобылиц, жеребцов и дрожащих от холода, сбившихся в кучу овец, еще издали чуя ни на что не похожий парной запах скотьего база.
Говорили: Демидовых, Шлыковых, Строевых, Вострецовых угнали за какой-то хребет, и при слове «хребет» представлялся Григорию просто высокий увал на такой же равнинной земле; он решил, что «хребет» – это где-нибудь за Семилуками или Воронежем – может, два, может, три дня скрипучего санного ходу; географию он пока знал только в общем и целом – что страна победившего трудового народа огромна, простираясь от вечных арктических льдов до туркменских пустынь-Каракумов.
Двор Зворыгиных – крайний в селе. Он бежал и с разбегу катился по черному льду из натопленной школы на двор, в зипуне, полушубке, обшитых свиной кожей валенках и с холщовою торбою через плечо, и еще издалече услышал захлебный, на цепном издыхании, лай кобеля Калаша – было все недвижимо в природе, и никто ничего на дворе не крушил, не горели ни дом, ни амбар, ни сарай, но как будто гудел в ледяной пустоте над оснеженной крышей неумолчный набат, прогорела и выстыла добрая белогрудая печь, сердце дома и движитель жизни, никого не осталось живого, от кого с неослабною силой должно было растекаться по дому тепло.
Точно кто Гришку пнул сапогом изнутри – подорвался к раскрытым воротам, увидав на дворе захламленные чьим-то знакомым добром, на вершок утонувшие под наваленной тяжестью сани. Полетев, как с горы, ткнулся в чью-то овчинную тушу, чужого, оказавшегося горлопаном-комбедчиком Прошкою Рваным: ноздри рвали ему за украденного жеребца, а теперь этот черт волочил со двора тяжеленный, обложенный войлоком и обшитый тугой черной кожей отцовский хомут – на ощеренной морде его расплылась и дрожала паскудная пьяная сладость.
Из раскрытых амбарных воротец клубами вырывалась пахучая хлебная пыль, несся хохот, плескались в темных недрах дрожащие взбудораженные голоса… Незнакомые уполномоченные в порыжелых шинелях и свои, коренные, гремячинские, многорукий и многоголовый комитет бедноты, будто впрямь из огня выносили из амбара тугие, распертые белой крупчаткой мешки, огромные, как мельничные жернова, жмыхи, холщовые свертки с мороженым салом, чуть ли не переламывались с пудовыми мешками на горбу и шатались в обнимку с пузатыми кадками, беспрерывно валили, швыряли добро на просевшие сани, как в топку, – поскорее набить, закормить ненасытную пасть, много большую, чем эти сани и чем весь разоренный зворыгинский двор. Лишь один Капитон Необуздков недвижимо стоял у раскрытых ворот, заложив руку за борт тужурки и глядя поверх мельтешивших голов в неживое, стальное, морозное небо, точно докладывал об исполнении туда и получал оттуда новые приказы; на ремне у него, как всегда, был наган, только сила вот этого человека была не в нагане, а в том, что он лично ничего из добра на санях не возьмет.
Почему же нигде нет отца? Где он? В доме? Повернувшись к крыльцу, Гришка тут же запнулся о чей-то сапог и упал, обдирая запястья о снежную корку, и тотчас с небывалой пронзительной силой заржал встрепенувшийся Орлик, заметался, забился всем своим вольнолетным, крутым естеством – как будто растекавшееся по двору невидимое пламя захватило теперь и его. И, подстегнутый ржанием Орлика, Гришка вскочил и, узрев на снегу у сарая безногое серое что-то, наконец осознал, что он просто не думал, не хотел и боялся увидеть отца на коленях. И насколько живым был мятущийся Орлик, настолько обездвижел отец.
Подхватился к нему и, вцепившись в дубовые плечи, затряс:
– Папка, папка, ты что-о-о?! Ну вставай, ну вставай!..
И не мог расшатать эту мерзлую тяжесть, всей цыплячьей силенкой корчуя отца из земли, вымогая, взмолившись, чтоб отец оказался тем, прежним, настоящим собой, и тогда еще можно будет выправить и возродить покривленную жизнь, но отец посмотрел на него неугадывающе, безучастной пустой чернотой, и волна самой горькой обиды на такого отца, осуждения и непрощения плеснулась в Григория, и на этой прибойной волне он куда-то поплыл от отца, не почуяв, что это судьба, обрядившись в великую волю народа и партии, навсегда отрывает его и от матери с малой Светланкой, и от бабки Настасьи, предрекшей наступление последних времен, и вообще от земли, что вскормила его.
Столько лет прошло, а он не в силах этого ни вспомнить, ни забыть. Как собрали их всех – Силендеров, Ефимовых, Колычевых, Прусаковых, Шалимовых, Борских – и погнали по синей, лиловой, сияющей кристаллическим снегом степи – неизвестно куда из села, вроде бы на восход, в направлении Воронежа, потому что холодное красное солнце светило им в лица. Как шагали они за санями, груженными последним, близким к коже барахлишком, которое им, кулакам, порешили оставить для жизни пустоглазые уполномоченные; от студеного воздуха намокали глаза, слезы в них становились стеклянными, и ломило в груди после каждого вздоха. Грудные детишки, только-только вдохнувшие воздуха жизни, непрестанно кричали и плакали, и Светланка их – тоже, червяк, и внизу живота и под сердцем у Гришки будто лопалось что-то от того, как кричала она, разевая на полную рот и вбирая колючий, обжигающий воздух, как будто разрывавший какие-то необходимые для жизни слабые преграды в ее ничтожно маленькой груди.
Столько лет прошло, а он не может этого ни вспомнить, ни забыть. Как в Воронеже их посадили в телячьи вагоны цвета крашенных луковой шелухою пасхальных яиц – продуваемый ветром, щелястый, изнутри закуржавевший ледник на железных колесах, без фанерных щитов и без печки, но зато с обрешеченным малым оконцем и проделанной в днище поганой дырой; как везли восемь суток, и на пятые сутки Светланка реветь перестала, а мать все совала ей вислую, в синеватых прожилках, горячую грудь – самый-самый горячий кусок человеческой плоти в вагоне, а потом закричала так зарезанно-выпростанно, точно снова Светланку рожала, только уж не давила ее из себя, а напротив, не хотела ее отдавать, не пускала, точно злые когтистые руки до срока выдирали дите из нее. Но и этот утробный ее гиблый вой, что и зверю, наверное, никакому неведом, никого уж не мог полоснуть до живого, горячего сердца – и даже его самого, остамелого Гришку, не резал, потому что проточная студь начала уж вливаться в него обещанием тепла и покоя, и желание отдаться вот этому доброму холоду, стать таким же тупым и немым, как обросшие инеем доски, как промерзшая на десять сажен земля, стало неодолимым.
А отец обезумел, казалось, – утаенной железной занозой ковырял и расшатывал толстые доски настила и выламывал щепки из днища, расширяя сливную дыру, и никто уже не понимал, что он делает и для чего, а не то что не мог воспротивиться. Трое суток работал отец – так мертво были сплочены простуженные доски, так засели их гребни в пазах, – а потом с неправдивой, немыслимой властною силой захватил его, Гришку, за шею и, пригнувшись к нему, продышал в ледяной головенке ничтожную, с гривенник, но уже не могущую затянуться проталинку:
– Слушай, Гришка, меня, хорошо только слушай! Как мы встанем опять, я тебя через энту вот дырку и выпихну. Не цепляйся, прошу, лезь в нее, а потом отползай… но гляди уж, гляди, чтоб тебя не приметил никто. Никого – так беги, как от смерти, беги, понял, сын?! Мы на станции встанем. Может, в городе прямо. А потом иди к людям, к машинистам на станции. Скажешь им, что бродяга, от этапа отбился. Уж за поездом вслед не погонят тебя. В сиротский дом какой определят. А иначе никак! На измор нас везут. Нам-то с мамкой уже никуда. Ну а ты еще, может, спасешься. Понимаешь меня? Это надо сейчас. Пока мы еще в центре России, тут пока еще есть человечья гуща, в ней согреешься, может, а дальше – Урал, мертвый камень пойдет, там застынешь. Нету больше нас с матерью, слышишь? Нету больше, Григорий, у тебя никого. И одно заруби от меня: никогда не живи, как телок, – куда потащили, туда и бежит за железным кольцом. Это мне уже поздно брыкаться – я у них на железном учете, а ты… Нету вольного хода, а ты все равно разворачивай жизнь в свою сторону. Хочешь чем, хоть своим еропланом живи, до него доберись и его под собой заимей вместо Орлика, только бы по нутру тебе было. И еще. Никогда не иди против русских людей, как бы русские люди тебя ни обидели… никого не губи без потребы, разве только за жизнь саму, понял?.. если в горло вцепились тебе. А то будешь как я – сам с собою в нутрях воевать. Кровь-то красная вон – почему? Это чтоб было страшно убивать или ранить. А была бы она как вода или синий суглинок – так уже бы не боязно, лей, не жалей. Но чужие придут убивать наших, русских, людей – их руби беспощадно, не спрашивая. В бою убить врага – святое дело… Ну все, сынок, прости, что не сберег я вас, кого любил. – И взглянул напоследок горячей, затравленной чернью в него, насовсем от себя отрывая, и выдавил через обындевелую дырку наружу.
5
Ни красных псов, ни гула бомбовых обвалов в неприступных кавказских горах, тысячелетнее молчание которых мы нарушили. Я потягиваюсь на балконе: прямо передо мной – темный склон Машука, оплетенный ползучими длинными клочьями туч, словно сизыми змеями; облака проплывают чуть не вровень со мной; на западе синеет господствующий над местностью Бештау – три из пяти его вершин египетскими пирамидами рисуются сквозь дымку; на востоке – подножные россыпи крыш Пятигорска, а за всей муравьиною, спичечной скукотою не тронутых ни бомбежками, ни артобстрелом жилищ громоздятся, вздымаются, борются дымно-синие волны Кавказского шторма, а на самом краю еле-еле виднеется цепь чистых белых вершин, начинаясь громадой Казбека и кончаясь громадой Эльбруса.
– …Карайя, Карайя… – напевает дурацкую песенку Буби, начищая поставленный на табуретку сапог. – Герман, черт, сколько можно лупиться на эти вулканы? Надевайте штаны, командир, и пикируйте следом за мной: город – наш. Или ты вознамерился провести в медитациях все эти дни? Проваляться в постели, рисуя в блокноте свои схемы атак и защит, как какой-то помешанный физик или там шахматист с паутиной на скукоженном члене? Ну когда нам еще предоставится столько свободы да еще и в таком цветнике?
Мы поселились здесь вчера – наш добрый Реш добился в штабе флота предоставления отпуска нам с Кенигом и пятерым особо отличившимся щенкам.
Лилово-серая тулья фуражки Малыша, разумеется, сплющена и бескостно свисает с околыша: по последнему крику фронтовой истребительной моды из нее вынут гнутый каркас; его куртка, конечно, распахнута, чтобы все могли видеть Железный крест 1-го класса у него на груди. У меня же «немецкого серебра» – и не спрячешь: шейный Рыцарский крест украшают Дубовые листья. Наш отец нами горд – наш несчастный, презренный, хромой, проигравший свою Мировую войну честолюбец, хотя я предпочел бы всем этим суповым олимпийским венкам годовой запас белого мозельского.
Мы спускаемся вниз, огибаем Машук по обсаженной молодыми дубками дорожке, подымаемся в гору, выходим к павильону «Эолова арфа». По кремнистой тропинке спускаемся к длинному розоватому зданию прошлого века – галерее с бюветами минеральных источников.
– Это бывшая Елизаветинская галерея, – просвещаю я Эриха. – Здесь Печорин впервые увидел свою княжну Мери.
– А присунул он ей в тот же день? Герман, все они – мертвые. Подавайте мне новую эту… как бишь ее?.. Мери. Мери, Лотту, Урсулу, Наташу, Татьяну. Где девки?
Девок нет – лишь одни искалеченные, с костылями и в гипсе солдаты. Василиски воздушного счастья, мы глядимся совсем неуместными в этом ползучем, ковыляющем таборе – я тяну Малыша в полукруглую арку: говорят, где-то тут есть кафе с замечательными шашлыками и местным вином. Так и есть: меж стеной галереи и скальным массивом расставлены столики. Опускаемся на табуретки, появляется черноволосая, удивительная стройная девушка с диковатым красивым лицом – настоящая Бэла из книги, на которую Буби плевать.
– Скажи, скажи ей, что она хорошенькая! – Оскользнув ее с ног до макушки свежующим взглядом, Эрих смотрит горянке в лицо прозрачными, как родниковая вода, бесстыдными глазами. – Ну, скажи ей по-русски! Пусть она посидит вместе с нами!
– Нам две порции вашего шашлыка и бутылку вина, – говорю я девице. – Вы варите кофе?
– Кофе нет, господин офицер, – принужденным, подвально-подмороженным голосом отвечает она.
– Ну?! Что она сказала?! – провожает ее Буби жадным, остывающим взглядом.
– Что не против отдаться тебе прямо здесь и сейчас. Брось, Малыш, только тронь, и она тебе палец откусит. Или будет с тобой как бревно. Мы с тобой для нее не мужчины.
– А кто? Почему она в черном? Она что, носит траур?
– Ну а в чем ей к тебе выходить? В штофном платье в обтяжку? Черное – это для таких тупых, как ты. Чтобы было понятно, что с ни с кем, кроме мужа, она не ложится. Так ее воспитали, так у них повелось испокон.
– Все-то, Герман, ты знаешь. Вот сейчас подойдет – и посмотрим, что она мне откусит. От страсти.
Позабыв о горянке, он поет мне про наши недавние свалки с иванами, про своих первых сбитых и тех, кому не посчастливится завтра:
– Знаешь, я хочу тоже раскрасить свой «ящик». Чтобы каждому русскому было понятно, что я – это я. Чтоб они, обозлившись, бросались на меня, как на красную тряпку. Что бы изобразить – есть идеи? Надо быть хорошо различимым, суть в этом. Красный ты взял себе. Знаешь, радует, что я не Борх. Быть еще одним Борхом, вторым – я с ума бы сошел. Вечный ужас сравнения с тобой. Говорили бы «Борх», а потом уточняли бы: «младший». Я бы стал твоей тенью. А так я могу быть отдельной величиной. И мой переворот на вертикали назовут переворотом Нахтигаля, а не Борха.
Ну да, наш отец не был создан однолюбом, как лебеди или Тристан. Даже если тебя избрала наша мать, для тебя одного ее сладили, подарили ее в доказательство, что Господь тебя любит, то ведь это не значит, что ты никогда не захочешь променять первородство… прости меня, Эрих… хорошо, на нетронутый абрикосовый пух, на другую, которой не пробовал. Мне, конечно, казалось тогда… да я сдохну с наивной убежденностью в том, что, будь я мужем мамы, никаких других женщин для меня бы не существовало. «Как мужчина мужчину» я отца не простил. Я был совершенно не против единокровного сообщника по играм, я получил еще одного брата, это здорово, но мы же требуем от собственных родителей совершенной любви, на которую сами, скорее всего, не способны, и если их любовь друг к другу не выдерживает общедоступных испытаний жирной новизной – «хочу вон ту, и ту, и всех», – то, значит, и не было этой любви, то, значит, и ты не вполне настоящий.
В Мировую войну, когда мама носила законного Руди, отец занялся перелетной актриской с переливчатой птичьей фамилией и моралью кукушки. Почему эта Магда не прикончила Эриха еще в первооснове – предпочтя девять месяцев тяготиться мальком лососевого цвета, если, выдавив этого крикуна из себя, тотчас выбросила одеяльный конверт в монастырский приют, – мне осталось неведомо. Важно то, что она написала отцу: ты нечаянно завел эти часики, жизнь, и живи с этим знанием, как хочешь. Может быть, она предполагала тянуть из отца материальные блага – не имеет значения. Важно то, что письмо это было прочитано некой роковой доброхоткой (полагаю, вернейшей материнской подругой Ренатой цу Дона, чьи бедра в жокейских рейтузах увлажняли мои подростковые сны). Эрих мог бы стать диким, озлобленным узником одного из казенных питомников, вообще задохнуться по дороге сюда, в королевичи воздуха. Эрна Борх приказала доставить бастарда в поместье. Не могу назвать это «милосердием», «великодушием», «нравственной силой». Ни в одном из решений нашей матери не было ничего, что бы пахло унылой, насильственной, фарисейской святостью. Она смотрелась в зеркало, укладывая волосы, а не умасливая душу. Просто мать понимала, что детство – это право на рай, что детей надлежит баловать без пощады, помня, что ожидает их всех, что когда-нибудь им предстоит закопать в землю мать и отца.
И сейчас материнский приемыш и выкормыш пьет со мною дрянное вино и глядит на меня безмятежной ледяной синевой так, как будто живет на вершине, летит в непрерывном сознании: бог! в эту жизнь, это небо запустили его неспроста, это только другие умирают за Рейх, исчезая бесследно, а его возлюбила, бережет и спасает неотрывно следящая за своим пасынком вышняя сила.
Он всегда состязался со мной, отставая уже в силу разницы в возрасте, но – всегда догоняющий – никогда не питал ко мне темной, удушливой зависти. Можно было, конечно, счесть это законной, хорошо всем известной влюбленностью младшего в старшего, образец для отливки, но ведь эта влюбленность когда-то кончается, вытесняясь обидою, гложущим чувством, пониманием, что ты будешь ниже всегда. Он, конечно, отчаянно самолюбив. Быть первым после Борха он не хочет. Но что я вижу и поныне: чужое превосходство в чем-то не вызывает в нем холопской, каиновой злобы – наоборот, естественное восхищение, ведь это же так здорово, что кто-то способен на такие эволюции, хотя ты сам – лишь бедный родственник вот этой красоты.
– …Просто надо быть в небе селитрой, бенгальским огнем. Ты еще ничего не подумал – и все совершил. Как зовут того русского, что измывался над бедной собакой? У меня безусловный рефлекс, я – собака. Скорость – это мой хлеб, это слюни, которые я пускаю на русского, – разглагольствует Эрих, заставляя меня усмехаться его детской манере говорить с переполненным ртом.
Всего-то пару месяцев назад он был для всех загадкой, и даже я не представлял, что может вырасти из этого птенца – не в игровом домашне-школьном небе, а в реальности. Папаша Реш определил его и собственного сына Августа в мой стаффель – вместо убитых Хенчеля и Курца. Таскать родного брата на хвосте, носиться с ним, как курица с цыпленком, непрестанно следить, чтоб никто из иванов его не обидел, – увольте. Я не то что с болезненной силой почуял биение родственной крови в ста метрах у себя за хвостом, но к моей летной сути, холодной свободе примешалось особое чувство, вероятно, похожее, на жестокую жалость отца, который растил сына воином и впервые повел его в настоящую рубку. Я, наверное, понял, что чувствует Реш к своему пухлощекому рыжему парню с веснушками, Августу. Это не было повиновением Авраама воздушному Господу: Реш хотел видеть в сыне солдата, и выдавливать Августа в тыл, останавливать то, что сам Реш в нем завел, было поздно, – мы вели на охоту подающих надежды орлят, совершенно безопытных, глупых, но не бескогтистых, с жадной силой хотящих попробовать крови.
Я не чувствовал смертного страха за Буби – я боялся увидеть его в небе жалким и вымучивающим у природы то, чего изначально ему не дано и дано быть не может. Конечно, он рос у меня на глазах – в замечательном планерном клубе, построенном нашей золотой, неуимчивой Эрной на личные средства, – вовсе не для повального привлечения юных германцев к воздушной войне, а для нашего с Буби самоосуществления. Я конечно же видел, что он вытворяет в пустом или обеззараженном небе; только здесь, на Кавказе, не будет зачарованных зрителей и безответных мишеней. «То, что ты исполняешь, годится для промышленных ярмарок, – объявил я ему, погоняв его над безопасной Солдатской до конского мыла. – Вообрази себе, русские тоже живые – и в угоду тебе оставаться в прямом или горизонтальном полете не будут. Все движения должны быть боевыми, Малыш». – «Красота – это высшая необходимость, – тотчас передразнил он меня, воздевая трясущийся перст к небесам и добавив столетнего старческого дребезжания в голос. – Ну хоть ты-то занудой не будь. Хватит Реша с меня».
Право слово, один только я мог терпеть этот вечный нарыв у себя на хвосте. Он, разумеется, держал пари, что лишится невинности в первом же вылете. На первой же охоте под Моздоком он надругался надо всеми азбучными истинами. Мы вышли на косяк бетонных самолетов[35]35
«Бетонный самолет» – одно из прозвищ, данных немцами советскому штурмовику «Ил-2».
[Закрыть], идущих на штурмовку под прикрытием четверки вертких «ЛаГГов». Обязанный сидеть на жердочке Малыш всею мощью мотора обрушился на замыкавшего строй мясника, полетев под уклон вслед за мною с клокочущим воплем «Хорридо!». Я ращу в своей рамке зеленый кленовый стручок и уже разрезаю его по продольной оси, нажимая гашетки, как тут – в наведенном луче возникает мой братец, – я едва успеваю отвести на деление нос, поперхнуться огнем и не выжечь дорогое отродье из жизни. Он несется за русским, как селезень за вожделенною самкой, начиная выметывать струи в пологом пике, никакого сомнения не оставляя, что вонзится сейчас краснозвездному увальню в хвост. Розоватые метки уходят в пустое – одаренный кошачьей реакцией Буби отворачивает от бетонного монстра за кратчайшее дле-ние до сшибки, в ту минуту, как девять русских штурмовиков с удивительной ладностью переходят из левого пеленга в оборонительный круг, и я вижу его «мессершмитт» в эпицентре вот этой воронки.
В пожирающем ужасе перед «не жить», на одном детском чувстве потерянности (как он не постеснялся признаться потом) ошалевший мальчишка взвивается над каруселью и почти по отвесу врезается в снежную плотность кучевых облаков, очутившись на Северном полюсе совершенно один и не сразу вспомнив в темной от крови высоте свое имя.
Закрутив хоровод с раздражающе-цепкой, назойливой парой индейцев, вынимая свою Минки-Пинки из их образцовых клещей, в сотый раз исполняя этот «Детский альбом», эти «Двадцать четыре пьесы для „мессершмитта“», я бросал беспокойные взгляды в голубые разрывы облаков наверху – до тех пор, пока не уловил абрис Буби, прожигавшийся сквозь пелену и опять исчезавший. «Не бойся, Малыш, я слежу за тобой. Поворачивай вправо, вот так! А теперь опускайся, я тебя подберу… Мальчик мой, это я, это я у тебя за хвостом!.. Мать твою, что ты делаешь?! – Олух Господа нашего сделал восхитительно чистую полупетлю, уходя от меня, как от русского, смерти. – Запад, запад, Малыш, посмотри на Эльбрус, поворачивай, ну же!» – На минуту избавившись от назойливых «ЛаГГов», я его обнадеживал, отогревал, став для брата божественным голосом, добрым эфиром, мозжечком, отдающим команды рукам и ногам. Я довел его до Gartenzaun, посадил на домашнюю землю… и врезал по его отвернувшейся физиономии, по наполненным злобой, стыдом и невольной мольбой о пощаде глазам: «Надо было отцу кончить в презерватив».
В наказание его полагалось сослать к оружейникам и мотористам – набивать пулеметные ленты и надраивать ветошью плоскости, воздевая глаза к самолетному небу, на жизнь настоящих, – но когда из огромного раструба репродуктора на телеграфном столбе захрипело: «Внимание! Больше дюжины русских мясников у Прохладного!», я качнулся к своей Минки-Пинки, придавая поникшему брату значение отброса, и, не сбавив летящего шага и не оборачиваясь, крикнул: «Что стоишь, обезьяна? В машину! Покажи мне, зачем ты живешь». Он сорвался за мной, как собака.
Мы увидели русских на час, двадцать градусов ниже – восемнадцать цементных машин под прикрытием полудюжины «ЛаГГов» стандартной окраски. В этот раз брат остался на жердочке, словно приваренный, прикрывая мой хвост и обшаривая надо мною пространство глазами. Мы ударили по мясникам одновременно сверху и снизу, до последней секунды оставаясь для них невидимками за облаками и на фоне кремнистой земли, и Гризманн распорол замыкающему беззащитное брюхо, в то мгновение как я, рухнув на головной штурмовик, отрубил тому скальпельной трассой плавник оперения, но разрушить их стайный порядок у нас все же не получилось. Эти заматерелые твари давно отучились шарахаться от своих же собратьев – встали в оборонительный круг, прикрывая друг другу хвосты с неизменной раздражающей стойкостью и терпеливостью. Вот что могли иваны противопоставить нашему искусству – привычно-жертвенную роевую неразрывность.
Их вертящееся колесо мерно-остервенело и неуязвимо смещалось в глубь советского «материка», циркулярной пилою взрезая звенящий голубой монолит, и Малыш, разумеется, видел хоровод броненосцев впервые, не считая, конечно, свежайшего подвига сослепу, когда он, не желая того, очутился в подобном железном кольце. Даже я не рискнул бы вписаться по горизонтали в такую карусель мясников – слишком близко друг к другу держались они, а в отвесном падении ускользающий хвост не отрубишь, и вообще надо бить в уязвимое брюхо, мчась за ними в пологом пике, опускаясь под них, а иначе снаряды и пули, ударяя в броню, распадутся на искры.
Буби сделал все так, точно он занимался подобным всю жизнь. Необычайно редкое в живой природе скоростное превращение из отчаянно-глупого, совершенно слепого птенца в абсолютно свободного и пронзительно-зрячего господина пространства и времени. Не хватило бы многих недель, не хватило бы жизни, если б не был задуман таким человек: тут надо с самого начала нести в себе зачаток будущей свободы, иметь особое устройство глазоаппарата, сверхпроводимость нервных кабелей под кожей, что-то в самом хребте, чтобы в двадцать три года это сделалось для человека простейшим умением.
«Пять-один, пять-один, вижу дырку в строю, атакую!» – этот крик даже не разъярил меня – переполнил свинцовой усталостью: неизлечим, нет такой избавительной лоботомии – но уже через миг я увидел то, что Эрих увидел на мгновение раньше. В идеальном кольце мясников появился ничтожный разрыв, и невинный ребенок, спикировав по единственной верной прямой и вогнав себя между железобетонными монстрами, сделался новым, инородным звеном в неразъемном кругу, восхитив меня, освежевав чистотой беззаконного проникновения.
«Я видел их всех и каждого гада в отдельности. Я выбрал одного и больше не выпускал его из вида. Ждал, когда он немного отстанет, или тот, что шел следом, отпустит его. И пожалуйста, вот вам! Я увидел просвет, мне как будто бы кто-то поднес нашатырь, я как будто уже был внизу, часть меня была там и кричала: „Давай! Загони свою «шишку»[36]36
«Шишка» (нем.: Beule) – жаргонное название «Мессершмитта-109» серии «Густав».
[Закрыть] прямо в этот за-зор!“ Весь фокус был в том, чтобы попасть вовнутрь их гребаного круга, а не идти на внешний радиус, чего эти кретины ждали от меня», – говорил он потом мне с улыбкой воровского восторга и тайного обладания лучшей на свете железной дорогой.
Бетонный самолет со всеми броневыми плитами, заклепками и пожелтевшими от старости коммунистическими звездами вмиг оказался в такой близости от Эриха, что прицел «мессершмитта» перечеркнул ивана накрест, как наведенное монахом на искусителя распятие. И с огромной, ликующей силой рванулось из брата то дикое, что бушевало внутри, – мне, конечно же, ведомо это чувство звериного, разрывающего возбуждения, торжества и полнейшего опустошения. В этот миг выпускаешь на волю свою настоящую сущность, получаешь свидетельство о рождении в воздухе – это я испытал в 41-м в Ливийской пустыне. Убивая впервые, сам становишься слеп и беспомощен: перед глазами ничего не остается, кроме окрашивающей воздух копотною кровью и устремившейся ко дну твоей добычи.
Эрих будто услышал меня и быстрей моего подгонявшего крика рванул свою «шишку» из ведьмовской круговерти в зенит – прямо из скоростного потока ошметков и щепок, которые могли попасть в его открытый радиатор, словно кусок в дыхательное горло. Тотчас дал нужный крен для спирали и, уйдя от огня, разорвал наш эфир торжествующим «Abschuß!»[37]37
Abschuß! (нем.) – «попал!», «сбил!».
[Закрыть]. Так визжат только дети, убежав от погони. С той минуты он не замолкал.
«Да я просто поверить не мог, что зашел ему в хвост. У него же ведь целая вечность была для того, чтоб уйти от меня круто вправо. Ну а он будто окоченел и летит от меня, как по рельсам. Я как будто бы даже взмолился к нему, говоря, что ему надо делать. Словно кто-то во мне, кто желал ему только добра, закричал: „Уходи! Я совсем не просил тебя подставлять мне свой хвост“. Я почти не почувствовал радости – я стрелял в паралитика на инвалидной коляске. Мне хотелось проникнуть вот в эту тупую башку и спросить: русский, как можно быть таким медленным?»
Он раскраивал русских со скальпельной точностью и бахвалился тем, что, стреляя по конусу, может перебить пулеметной трассою трос буксировщика метров с пятидесяти («Этот псих чуть меня не убил! Его надо лечить электричеством!»), глазомер позволял ему убивать с безопасных дистанций, не влезая в собачьи свалки, но Буби явно предпочитал выпускать свои «Марсовы струи» на предельном сближении – он хотел, чтобы «запах русской крови шибал ему в ноздри». Это не было самоубийственной дуростью – наоборот: чем ближе подойдешь к плюющему из задней турели бомбовозу, тем меньше будет площадь поражения, размах пулеметной косы бортстрелка, в то время как ты сам уже не промахнешься, разглядев на туше мастодонта все заклепки.
– Убивать с высоты, оставаясь невидимым, быть для русского как бы божественной карой – в этом тоже, конечно, есть своя красота, но я уже не чувствую от этого большего удовольствия. Так я наколочу еще десяток самолетов и получу за это Крест с ботвой, как ты, но ты же понимаешь: не важно, скольких ты сожжешь, – важно как и кого. Да, того пресловутого красного черта, что крутил тебя под Малгобеком жгутом… только не обижайся, ты же не обижаешься?.. – заливается он на ходу, похлестывая сломанным прутком по нависающим над головой еловым лапам. – Слушай, брат, а нельзя было обойтись без столетних могил? У нас так мало времени, что убивать его на мертвых – это грех. – Мы идем по мощеной дорожке меж старых могил, православных крестов и гранитных надгробий, утопающих в рослом густом сухостое. – Знаешь, что я подумал? Если б этот твой Лермонтов жил в наше время, он конечно же был бы пилотом. Я тогда бы с ним встретился и прикончил его. Это была бы смерть, достойная поэта. И почему он дал себя убить? Почему стрелял в воздух? Сколько лет ему было? Разве он был урод, инвалид, импотент? И потом: жизнь не может надоесть навсегда. Если ты говоришь себе: «Хватит», «Не хочу больше жить», то ведь это не значит, что завтра ты опять не захочешь.
За первые два месяца он сжег без мала три десятка самолетов, в том числе и двух красных чертей из элитного «Лейбштандарта Иосифа Сталина», разумеется, страстно желая сшибки с их вожаком, «певуном», фамилия которого, скорей всего, Зворыгин. Я уже без сомнений выпускал Буби перед собой – как охотник со сворки собаку, что почуяла запах матерого зверя.
Я смотрел на то, как он играет виражную, петлевую, качельную, вертикальную смерть, и все явственней видел родство стилей Буби и русского. Я же видел, как этот 13-й номер пикирует, непрерывно качаясь, как маятник, и дрожа, словно стрелка взбесившегося парового котла, для того, чтоб пройти между ливневых трасс наших «юнкерсов». Та же склонность к легко наказуемым крайностям, та же балансировка на скорости меж катастрофой и полным господством над жертвой были мозгом костей Малыша. Но Малыш только начал вырабатывать в воздухе свой артистический космос, а русский давно уж зачистил врожденный инстинкт красоты, за первые два позора отточил на самой увертливой, трудной добыче свои боевые крючки. Играя с ним, я видел, осязал его математическую, композиторскую силу и не думал, а знал, что и ночью на койке он настойчиво, неугомонно продолжает искать, как еще нас возможно убить, – я как будто отчетливо видел мозоль от химического карандаша на его среднем пальце и тысячи поворотов короткого, стертого грифеля, проходящего тысячи иммельманов и бочек на тетрадном листе. Это было усердие честолюбивого отпрыска простолюдинов, ощущавшего пропасть, вертикальный разрыв меж собой и своими врагами-германцами – мной. А Буби жил своими данными, и только – в самом деле, казалось, не могущий столкнуться ни с какою крылатой преградой, как бы ни было в небе темно от чужих и своих самолетов, «как бы сам того ни захотел».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?