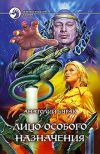Текст книги "Соколиный рубеж"

Автор книги: Сергей Самсонов
Жанр: Книги о войне, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 53 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
«Ты знаешь, Герман, я боюсь за Нахтигаля больше, чем за Августа и всех наших щенков вместе взятых», – сказал мне Реш печально и покорно, с признанием неспособности что-либо изменить, и я его понял; мы с ним понимали друг друга всегда, как будто каждый был и старою собакой, и хозяином.
Слишком рано проникший в «первый класс» скоростей, Эрих мог заиграться, «как Лермонтов». Я не думал о маховике самомнения, расхолаживающей легкости первых побед, что иным вундеркиндам начинают казаться залогом дальнейшего превосходства над прочими. Меня тревожило другое: никаких «не могу» и «пока еще рано», перехода на следующий уровень для таких, как Малыш, просто не существует – он не видит делений шкалы. Только гипнотизирующий шпиль колокольни. Даже если и правда, что Эрих может сделать с любым русским все, что захочет, то это не значит: может прямо сейчас.
Август Реш и другие мальчишки начинали свою жизнь в эскадре с ощущения предельной своей уязвимости: как жалко все, что они могут. Страх ошибиться – вот что их ведет и оснащает их бесшерстые тела как будто бы крысиными вибриссами. Страх – лучший учитель для каждой посредственности, страх – вечный двигатель отбора самых осторожных.
Мы спускаемся в город. В бродильном чане под названием «Верхний рынок» Малыш бросается на все, что попадется на глаза: вот перемазанные в собственном помете огненные куры, то безучастно-смирные, то всполохами бьющиеся в туземных смуглых жилистых руках, вот скрипуче гогочущие гусаки с оранжевыми, точно резиновыми клювами, вот черный блеск ласковых глаз попрошаек из-за гор абрикосов, алычи, винограда, вот стопки горячих прыщавых чуреков из допотопных каменных печей, вот кожаный фартук сапожника, гуталиновый запах стоянки седоусого чистильщика все равно чьей господствующей обуви, вот мальчата с тележками предлагают услуги носильщиков нашим солдатам.
Эрих лезет к прилавкам, набивает сушеным инжиром карманы, объясняясь при помощи яростных пассов с торговцами и на чистом немецком называя их «жадными тварями» и «дикарями», – офицер высшей расы в окружении неграмотных горских крестьян в поседевших овечьих папахах и войлочных шапках.
Входим в парк – по центральной аллее прохаживаются парочки: офицеры под ручку с нарядными девками, записные красотки, выгуливающие страхолюдных подруг, – ничего не меняется на железной дороге от первого взгляда до въезда в депо, разве что на охоту сегодня в этот парк заявились чужие, элегантные немцы, фашисты, враги. Та же неумолимая сила животных желаний выгоняет на улицы бывших советских гражданок, убивая в них страх перед чуждыми, непонятными, иноязычными убийцами их братьев, их мужчин… да, наверное, только женщин определенного рода. Есть же ведь и другие, не так ли? Мы же верим, что есть и другие, – мы же помним своих матерей.
Без сомнения, мы привлекательны именно чуждостью нашего лоска, элегантностью наших мундиров, фуражек, сапог, мы магнитим их, словно белолицые конквистадоры краснокожих туземцев. В страшных немцах они ощущают мужское начало – никакого сравнения с потомками крепостных и колхозниками. Подневольный, зависимый русский мужик – та же баба по сути, и красота таких врагов, как мы, волнует и дурманит. Этот непостижимый народ вообще удивляет сочетанием нечеловеческого, травяного, червячного, корневого упорства с чисто женской податливостью, бабской падкостью на проявления силы.
Впрочем, это мужчину влечение ослепляет и глушит, а у женщины секс неразрывен с инстинктом самосохранения – отдается тому, в ком почуяла силу, понадеявшись, что защитит; не угонят в неволю, не тронут детей, не сломают тяжелой работой, если даст свое тело в обмен на консервные банки добавочных офицерских пайков.
Встали на каблуки, создавая кобылий размах при ходьбе. Нарядились по самым последним журнальным лекалам. Верно, видели жизнь настоящих красавиц в кино, промтоварную моду буржуазной Америки и проклятой Германии, приносили портнихам картинки. Малиновые дамские «пилотки» и «тюрбаны», натуральные губы, превращенные яркой помадой в зазывные наливные «сердечки», нарисованные наслюненными карандашами чулочные стрелки от попы до щиколотки…
– Ты посмотри, какие птички! – выдыхает Буби, обшаривая взглядом ближнюю к нам парочку: под юбками ритмично вспыхивают, меркнут, округло вылепляются увесистые ляжки; гарцующие девки, конечно, ощущают идущую от Эриха упругую волну, но ничуть не сбиваются с шага и не оборачиваются, в то время как тела их говорят совсем иное.
Мне кажется, их бедра толкаются, как сильные животные в мешке, приглашая окликнуть, настичь, заговорить на страшном языке, а Малыш не из тех, кто полезет за словом в карман, даже если в кармане у него, как сейчас, только «эй! эй, девушки!», «komm zu mir, пуду фас угосчать, фотка, шнапс, на здоровье», «я давать подаруньки» и «ты очьень красивая».
– Нет, я не понимаю нашего с тобой братца, – говорит он вдруг тихо, перестав восхищенно присвистывать, но с таким же охотничьим блеском в глазах. – Что такое должно быть в его голове, чтобы предпочитать мокрым кискам рты и члены подобных себе? Даже если ты год на войне, за решеткой, в окружении одних мужиков, трахай руку, подушку, представляя себе Ильзе Вернер и Марику Рекк, но, пожалуйста, только не мужицкую задницу. Впрочем, Руди, он, кажется, предпочитает… Тем более! Так еще непонятнее!
– По-моему, ты сам себе ответил. Ты-то ведь и представить не можешь, что чувствует женщина.
– Вот это-то я представляю отлично! Рай небесный, приятель, от моей мотор-пушки в штанах.
– И опять ты ответил себе. Он чувствует, как женщина, и только. И, может, наше удовольствие ничтожно и смешно в сравнении с их, женским, беспредельным.
– Ты с таким знанием об этом рассуждаешь, что я готов поверить, что ты сам попробовал подобное. – Буби мечет в меня шутовски подозрительный взгляд: на меня глядит чистый ребенок, не понимающий, как можно быть устроенным иначе, чем он сам.
Малыш отлит по меркам «белокурой бестии», но Руди… Конечно, он – Борх, мы живем высоко от земли, но порою я все же задумываюсь о влиянии наших народных вождей и людей безопасности, с 33-го года начавших вколачивать каждому немцу в сознание, что и когда он должен делать, чтобы считаться истинным германцем, а не швалью.
Если б не эта идиотская история с исполнением музыки Руди в Британии, он бы так и остался невидимым, словно рыба в ночной непроглядной воде, но теперь его не выпускают в Швейцарию, видно остерегаясь, что он вслед за Маннами скажет, что в Германии к власти пришли людоеды (а то кто-то не знал, а то сами британцы не вырезали сотни тысяч туземцев в колониях), и теперь наша служба безопасности может заняться и прочими этажами его бытия.
Мой брат не ходит к Нойер-Зее, где гомозятся истомившиеся павианы и ночные мотыльки, он не ищет любовников на ночь, предпочитая единичную привязанность, оставаясь подолгу один, но сейчас и бездетность, говорят, преступление. Если ты одинок, не женат, не даешь опороса…
Мысли эти текут в моем черепе, в ту минуту как я нагоняю брюнеток и говорю на русском, глядя в настороженные мордочки и глаза боязливых голодных дворняг:
– Одну минуту, дамы, стойте. Вы вызываете у нас большие подозрения. Мой друг сказать, что он недавно видеть вас в кино, вас, вас, – киваю я одной из девок. – Прекрасное лицо, которое он вспомнить. Говорите нам правду! Вы есть советские артистки, точно? Отвечайте!
Ужасная дешевка, но для этих – приманка, пожалуй, излишне изысканная, вполне бы хватило «эй, вы!», «есть-пить, подаруньки, буль-буль, вкусно кушать», прямого бесстыдного взгляда прозрачных глаз Буби, который уже объясняется с девками на языке горилльих щипков и оглаживаний. Одна из сестричек, Камилла, визжит, притворно-возмущенно отбивая лапающие руки и уворачиваясь от Буби, точно от собаки, которая тычется носом в лицо.
– Буби, угомонись, – говорю я, – а не то первый встречный патруль разлучит вас с концами. Брат, куда они нас с тобой тащат? – Я отшатываюсь от своей смугловатой брюнетки в красной фетровой шляпке-таблетке и луплюсь на нее, как прозревший инквизитор на ведьму. – Я, кажется, понял! Партизанки, шпионки!
– Ну конечно, ага, завлекаем. Чтобы самую важную тайну узнать. Из чего у немецких офицеров подштанники!
Обе прыскают и прикрывают ладонями рты. Восхитительная непосредственность – где уж тут гордо вздернутый носик и поджатые губы высокой цены? Мой следующий вопрос уже бессмыслен, но, чтобы не молчать, я спрашиваю Зину: неужели они нас совсем не боятся?
– А чего вас бояться? Культурные. В кои веки встречаем галантных мужчин, а не наших скотов, – отвечает она то, что мы хотим слышать от них, что давно заучила: мы – «рыцари», принесли долгожданное освобождение от большевистских дикарей, оборванцев и хамов, красоту и культурную прочность надушенной одеколоном и отмытой со щеткою цивилизованной жизни.
Ловлю попутный «хорьх», и вот мы уже катим по задернутым кисейной дымкой улочкам смиренного и призрачного города, меж двухэтажных грязно-розовых домов с парусами белья и расстеленными на просушку коврами. Я сижу впереди, Буби – между сестричками, обнимая и тиская на поворотах обеих. Круглоголовый унтер-мекленбуржец тормозит – дорогу нам перебивает человеческое стадо. Из неподвижной полумглы, из тишины стреноженным давкою ленточным гадом выползают немые, ослепшие люди, слишком, слишком тепло для короткой прогулки одетые, словно раньше тебя ощутили приближение долгой суровой зимы; мне хорошо уже знакома эта склонность таскать на себе и с собою все самое ценное.
Высокие черные шляпы и дамские шляпки, пальто на ватине, облезлые заячьи шубки, шерстяные платки, лисьи чучела – старики, молодые мужчины, понурые женщины, востроносые и черноглазые дети, похожие на любопытных грачат. Монотонное шарканье ботиков на резиновом и деревянном ходу, добротных шевровых ботинок, разбитых сапог… Только дети пищат и скулят, извещают родителей, что обмочились, обкакались. Матерей и отцов, старших братьев не слышно, зато слышны покрикивания наших невидимых солдат и офицеров: «Los! Los! Быстро, быстро!» Проплывают потертые на углах чемоданы, корзины, узлы, саквояжи врачей и портфели бухгалтеров с благодарственными именными пластинами за хорошую службу, престарелый скрипичный футляр в длиннопалой и тонкой подростковой руке, похожие на ожерелья папуасов связки луковиц на старушечьих шеях…
Все кажется мне нереальным: я подглядываю за течением этой угасающей жизни нечаянно и беззаконно, без малейшей надежды принять в ней участие. Куда и зачем эти люди идут? Вернее, куда мы их гоним? Вот идет молодая сухощавая женщина, взгляд ее выражает только необходимость идти, в руке ее – тяжелый чемодан, перевешивающий тяжесть живую – двухгодовалую малышку, которая сосет не то расквашенный сухарь, не то нажеванный ей матерью кусок ржаного хлеба, слишком черствого, чтобы ребенок мог разгрызть его сам, не поранив свои слишком нежные десны. Мать не видит меня, а ребенок разлепляет опухшие веки и глядит на меня безмятежными сонными плошками, полными бесконечно живого чернильного блеска, – божество, важный маленький идол, что плывет над толпой на всесильной материнской руке.
Я сижу впереди, рядом с непроницаемым унтером, и в отличие от Буби могу разглядеть эти лбы, черепа, эти пышноволнистые иссиня-черные, густо обындевелые или рыжие волосы, эти птичьи носы и, конечно, глаза старых битых собак и потомственных жертвенных агнцев – это гонят евреев, и я понимаю, куда. Словно раньше не знал. Просто раньше не видел. Будто этого нет, занимаются этим другие, только те, кому не повезло, те, кто больше ни на что не годятся или, может быть, вызвались сами. Санитарная служба, холопы. Ведь не думаем мы об откачке дерьма, отоплении и подобных вещах, о желаньях и мыслях безликих, расторопных людей, выполняющих эти работы за нас и для нас. Я живу высоко над землей. Мы роем могилы в воздушном пространстве – для сталинских соколов, а не евреев. Я должен что-то чувствовать в связи с однонаправленностью этого движения, а вернее, в связи с тою девочкой, что на меня посмотрела, но во мне сейчас нет ничего – пустое помещение для думания и чувств. Я наглухо запаян изнутри, я вижу и слышу вот эту проточную жизнь сквозь прозрачную твердость того, что я есть, сквозь натруженный ростом кристалл своей сути.
Кто-то гневно стучит по капоту:
– Эй, гауптман! Что вы делаете здесь?! Уберите машину! Вы перекрыли полдороги, вы не видите?! – Молодой остролицый погонщик в полевой униформе с петлицами оберштурмфюрера – от него растекаются спешка и насилу смиряемое бешенство; гладко бритые серые щеки ввалились, малокровные губы подергиваются. Он что, плохо видит? – машина совсем не мешает движению колонны. Быть может, бордель на колесах, с его точки зрения, тут неуместен морально: «нам рук не хватает, а вы…»? – А ну, сдай назад! Живей! Убирайся! Вы слышите, летчики, вам здесь не место! – Мне кажется, он все последнее время, два года войны страдал от поноса и приступов рвоты, его и сейчас выворачивает, но он пересилит себя, равно как вчера, во все дни.
– С чего это, оберштурмфюрер? Какой приказ нам это запрещает? Мы едем за город на отдых, и нас никто не останавливал. В чем дело? Мы, кажется, не набиваемся в попутчики и зрители.
– Эти проклятые орпо[38]38
Орпо (нем. Ordnungspolizei, OrPo) – «полиция порядка»; полиция Третьего Рейха, подчиненная СС.
[Закрыть] опять не выставили оцепление… – страдальчески морщится он, говоря сам с собой, изнутри оковавшего все его существо скучно-неумолимого долга, ежедневной и жизненно необходимой работы, и, услышав меня, вдруг ломается в изможденном лице и кричит: – Что-что вы сказали?! Не хотите иметь с нами общего?! Не хотите смотреть?! У нас руки по локоть в дерьме, а вы чистенькие?! Благородные рыцари неба! А кто просил нас вычистить Минводы к декабрю?! Не ваш фон Рихтгофен?! Не ваш фон Манштейн?! Мне показать тебе его приказ?! На нас свалить хотите это все, чтоб говорить потом: мы рук не замарали?! Ну не марали, да, но и дышать с жидами одним воздухом вот что-то тоже не хотели! – И, задохнувшись, выкипев, стравив все, что копилось в нем и не выблевывалось вместе со съестным, махнул рукою обрубающе и припустил по ходу следования колонны, подгоняя ее и зажеванный ею, – словно в ту же бездонную жрущую глотку, в неподвижную нежную дымку благодатного горного воздуха.
– Что он там развопился? – наконец отрывается Буби от убавивших громкость сестричек: все это время он смотрел на них прозрачными, как родниковая вода, бесстыдными глазами, прямо говорящими о его немудреном желании; не смотрел на дорогу, счастливец, осознающий как реальность только то, к чему он прикасается, то, что силой берет, осязает, вдыхает, – только сладкую тяжесть покорно привалившихся тел, только бьющий ему прямо в ноздри запах русского страха. Для него это были всего лишь «какие-то пленные», хорошо, что Малыш не увидел всего так, как я.
Вереница ползущих, семенящих в туман, словно в райское небытие, растворяется в воздухе, – мы снимаемся с места и катим между тех же убогих домов и деревьев. Я вспоминаю споры с Руди, говорившим: «Их ты тоже готов принести в жертву собственной подлинности?» Будто если б не я, то и жертвы бы не понадобилось никакой. Я вспоминаю устрашенного фон Герсдорфа: «О, вы, воздушные счастливцы, не представляете себе и сотой доли тех масштабов…» И почему это людей так ужасает именно количество, когда на самом деле все наоборот: реален лишь отдельный человек, а жалеть миллионы, людскую халву невозможно – это цифры в бухгалтерских книгах, это длинные, как бычьи цепни, показатели сделанного.
Сострадательное отношение ко всем теплокровным мне неведомо так же, как зависть к сильнейшему или необъяснимая ненависть к представителям определенного вида, другого народа. Сострадательное отношение ко всем теплокровным приводит к растерянности, невозможности выстроить что бы то ни было. Я не чувствую жалости к старым, пожившим, волокущим на спинах ежедневные мысли об ужине и лотошной торговле овощами и фруктами, толстобрюхим, берущим у сильных в кредит свою жизнь, притворяющимся глухонемыми и спящими, когда мы забираем и ведем на убой их соседей… Все они, скажем так, заслужили того, чтоб исчезнуть безлико и скотски, но девочка – у нее же все новое: ослепительно-чистая, крепкая кожа, даже взглядом боишься коснуться ее, из нее может вырасти что-то иное, тут всегда есть надежда, пока… детство – право на рай, ты забыл? Для нее все ни с чем не сравнимо, для нее мир пока что звенит снежной музыкой Руди, отобрать жизнь-отбросы у выросших, выгнивших – это вовсе не то же, что отнять у нее мир-сокровище, рай. А отнять у нее мать, отца? Кто тогда для нее раздобудет, разжует, рассосет, сунет в клювик этот черствый сухарь? У Рейха нет средств на прокорм сотен тысяч еврейских детенышей, так что будет «гуманнее» придавить ее сразу же.
Я, само собой, не понимаю, зачем истреблять травоядный, бесклыкий народ. Что за страх движет фюрером, что заставляет нас видеть в евреях угрозу вроде палочек Коха? Национал-социализму нужно было превознести германца до небес, неразрывно спаять миллионы ощущением «немцы – абсолютная сила» – это было исполнено, нам показаны низшие расы, которым суждено быть у нас в услужении. Ну так пусть и служили бы, ведь они так угодливы, пусть бы делали деньги для Рейха, гранили алмазы, починяли часы, сапоги, собирали моторы для наших танков и самолетов и клепали обшивку впотай. Не надо быть добрым хозяином, у добрых хозяев рабы отвыкают от боли и страха, но хороший хозяин свой скот понукает и бьет, а не режет. Разделение живущих на расы рабов и господ неизбежно и неодолимо. Угодно разделять по крови – да пожалуйста, делите хоть по росту. В реальности все сводится к господству немногих сильных надо всеми остальными; нет иерархии народов – по крайней мере, навсегдашней, окончательной; есть только расставленность личностей по вертикали, и мой русский знакомый – тому подтверждение. Зачем убивать? Тут конечно же сразу упираешься в сталебетонное «лишние рты» и «возможны восстания». Так гоните их в шею. А то я прямо так и вижу иудейскую орду с полезшими из пастей волчьими клыками, переродившихся ростовщиков, старьевщиков и стряпчих, миллионы берсерков с летящими по ветру пейсами – что ж мы шарахаемся от носатых людоедов с наших собственных антисемитских плакатов? Ведь изначально речь и шла, насколько мне известно, о выдворении евреев из Германии, и только. И ни в одной из колыбелей мирового человеколюбия не пожелали приютить вот этих бедолаг – акционеры Англии, Европы и Америки подсчитали расходы и выплюнули телеграммы: «Оплатить проживание не можем. Помним, любим, скорбим».
В общем, если бы я извивался на адовой сковороде комфортабельной совести, я сказал бы сейчас, что вина в равной мере лежит на всех наших европейских соседях… А здесь, в Пятигорске? В Белоруссии, на Украине? На самих же евреях, мужчинах, которые с травоядной покорностью отдали нам своих жен, матерей и детей. Кто сказал, что бесклыкость, неспособность ударить, убить не вменяется жертве в вину? Я сказал бы, что мы не хотели, но нам это сделать пришлось. Но ведь я понимаю, что кто-то из отдавших приказ о тотальном judenfrei[39]39
Judenfrei (нем.) – освобождение от евреев.
[Закрыть] всех земель на Востоке не подчиняется неодолимым обстоятельствам, а хочет – убивает еврея в себе, равно как и дегенерата, урода, калеку в себе, не желая быть слабым и веруя, что, разбив это зеркало, станет иным, совершенным и несокрушимым. Во мне нет никакого еврея, а если и есть, то он мне не мешает делать то, что хочу и люблю, но вдобавок тому, что люблю, мне приходится проводить волю тех, кто не терпит и не допускает живого тепла, безмятежного сонного взгляда, дыхания, беготни, смеха, крика, присутствия этой девочки в мире. Нет, не так. Просто именно тем, что люблю, я и делаю исчезновение малышки возможным.
Въезжаем в пасторальный пригород, подкатываем к домику с фасадом в три окна. Проститутки хохочут, отбиваясь от лапающих рук Малыша; я прицепом тащусь вслед за ними в опрятную комнату с ширпотребным ковром на стене. Подхожу к патефону, наугад вынимаю из стопки пластинок одну… возникают хрипящие звуки, слова: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор…» Это марш авиаторов, сталинских соколов, в нем наивный и радостный пафос покорения воздуха. Я почему-то думаю о том, что эта песня музыкальной заставкой возглавляла всю жизнь «певуна», фамилия которого, скорей всего, Зворыгин, направляла, вела его сызмальства, говоря: вот каким должен быть человек, вот каким можешь сделаться ты. Я думаю о сущностном родстве железных маршей СССР и Рейха: они же ведь тоже убивают кого-то, солдаты социалистической державы, маньяки мировой резни богатых, – своих дворян, своих интеллигентов… в общем, всех, у кого нет наследных мозолей…
Я думаю о том крикливом неврастенике с запавшими щеками и воспаленными глазами кочегара, о солдатах СС, что сейчас гонят стадо евреев к обрыву. Как они это делают? С упоением собственной властью над вздрагивающей, переполненной собственным сердцем скотиной? И тем слаще вот эта предельная власть, что ты знаешь и чувствуешь, что ты сам точно так же дрожал бы, обмочился, обгадился и сломался бы так же легко. С наслаждением? Вряд ли. Разве только немногие. Отворачиваясь от ошметков, летящих в лицо, подавляя жестокие рвотные спазмы – из долга? С мясницкой сноровкой, с механической точностью, деловито и споро, заученным и привычно-естественным телодвижением? Соревнуясь с другими командами в скорости очищения поля ответственности и рассчитывая на поощрения наградами, отпусками и званиями – радуясь, когда делают все, как один человек, без осечек, без промахов, без пробуксовки, или злясь на того, кто сбивается, отстает от командного ритма?
Что ведет их, что тащит? Радость повиновения Führerbefehl[40]40
Führerbefehl (нем.) – воля фюрера.
[Закрыть] и служения народу – исполнение высшего предназначения? Ощущение святой, наконец-то достигнутой нераздельности каждого немца и целого, Volk, обязательство все отдать Рейху и естественная невозможность жить и действовать собственной волей и правдой – вне железного строя? Или просто могучий первобытный инстинкт выживания, здравый смысл и вечное человечье желание сытой, обеспеченной жизни, гарантированных жалований и приличных пайков, понимание, что ныне служба в ваффен-СС и полиции – это самый простой, а для многих единственный способ обеспечить семье миску супа, и только? Почему же «и только»: с самолетною скоростью сделать карьеру нынче можно не только в люфтваффе – будь железным, свободным от дрожи перед всеми утробными «мамочка!» – и взлетишь из фельдфебелей и лейтенантов в имперское небо, получив два дубовых листка на петлицы, наконец-то поднявшись из ничтожества в люди; кроме твердости и непреклонности, от тебя ничего не потребуется, а безжалостность-то из себя может выдавить каждый.
Никогда я не мог поселиться под кепку, в мозги никого из «обычных», «простых», составляющих стержень народа. Никогда не смогу я понять, что испытывает фельджандарм, подымающий передо мною шлагбаум, и как понимает жизнь лавочник, зазывая прохожих купить у него пару шейных платков и решаясь на службу в СС. Их мотивы и выбор не имеют значения в том смысле, что я совершенно над ними не властен.
Столетиями Борхи служили всемогущему невидимому Богу, монашескому ордену, германским императорам и прусским королям, насаждая их власть в новых землях огнем и железом, получая за это наделы и новых холопов в Померании, Польше, Ливонии, оставляя куски своей шкуры в боевых мясорубках, вызревая, оттачивая родовое умение умерщвлять человека холодным оружием. Я такой же – мой смысл в воздушной войне, я хочу делать это, быть тем, кем рожден, – коллективная воля германцев к войне и господству отпустила меня на свободу быть собою самим.
Но мне кажется, я сейчас думаю обо всем, кроме главного. Отвлекаюсь на эти попутные мысли, как идущий в больницу к умирающей матери, сыну, отцу – на газеты в витринах или встречных знакомых. Я сижу за накрытым столом, пью дрянной, очень сладкий коньяк, Буби держит одну из сестричек у себя на коленях и поит ее из бокала силком, как ребенка.
Я уже говорил, что пилоты обитают в раю? Ничего постороннего не содержится в нашем пустынном, скоростном, беспредельном, сияющем мире. Полнота торжествующей жизни-войны, простота и летящая цельность героев античного времени, сгораемая кровь, отточенная сталь и всегда, каждый раз воскресающий вместе с тобой изначальный вкус свежего мяса, ледяного вина и горячих девчонок.
Буби с шумным ловцовским дыханием тащит Камиллу в соседнюю комнату, на ходу распуская ременную сбрую, ухватившись зубами за ворот неподатливой блузки, запуская ладонь под надежно зачехленную грудь и с проклятиями запинаясь на каких-то железных крючках, очищая литые, переспелые ляжки от юбочной кожуры снизу вверх, сросшись с девкою в загнанно дышащее двухголовое, четверорукое целое и качаясь, как в шторм, вместе с ней от стены до стены, на пределе размаха колотясь в переборки.
Остаюсь с этой… как ее?.. Зиной? И, взглянув на меня, как на грядку, которую ей предстоит прополоть, поползла ко мне первой, сама, становясь в представлении собственном кошкой, грациозной тигрицей и вымучивая на лице выражение роковой обольстительницы, неотрывно, проказливо глядя в глаза точно знающим, как осчастливить меня, распаляющим взглядом, который вмиг наполнился недоумением и нищенской жалобой: что не так, господин офицер? Я взял ее за лохмы, потянул – прижмурившись от страха, подымаясь, она изобразила понимание и полную готовность к причудам высшей расы, гадая: на колени? четвереньки?.. не сводя с меня преданных глаз попрошайки, и та полусонная двухгодовалая девочка, с цыплячьей силой обнимавшая одной рукой за шею мать, поглядела в меня без пощады – как будто спрашивая: «Кто ты?» В глазах ее не было страха, в них плескалась живая вода, и с какою-то волчьей тоской я рванул ее за волосы и, не чувствуя меры, ударил головой о косяк.
6
Как бык за своим вдетым в ноздри кольцом, он все же побежал на Зубовский. Проживающий в черепе неугомонный сосед-абонент говорил: ты ее не найдешь. Говорил об отдельной квартире в каком-нибудь дипломатическом доме с постовым милицейским сержантом у чугунных ворот, о счастливом замужестве, о концерте в четыре руки, сковородках, кастрюлях, прямо в эту минуту скворчащей яичнице, о наполненном и округлившемся, выпирающем в мир животе, о нагрубших грудях и о прочих священных паскудствах. И душило предчувствие правды, от которой его отделяет лишь неистовое нежелание догадаться о самом простом, совершившемся: не твоя, не твоя, не твоя – заворачивало вспять, подрубало, но еще сильней было и тащило его сквозь толпу то же глупое, неубиваемое и как будто бы вещее предощущение счастья, что вкогтилось в него, когда Ника впервые на него посмотрела.
Он не думал о будущем. Не просил непонятно кого, чтобы Ника никого еще не полюбила, не просил прописать ее в мире, населенном одними бабьем, старичьем и детьми, заморозить ее естество, омертвить ее чувства, сохранив, упокоив ее для него, как царевну в хрустальном гробу. Если он и просил сейчас Бога о чем-то, то только о том, чтоб застать ее в этот единственный день по известному, прежнему адресу. Он хотел ее видеть. Хоть еще один раз посмотреть в ее царские, пыточные, беспощадно родные глаза. Может быть, он хотел просто вытравить Нику из сердца, все готовый принять – да и кто б его спрашивал? – и почувствовать освобождение, как только увидит притаенное за поворотом незрячее счастье ее.
Отвлекался на встречных гладко выбритых бодрых и снулых гражданских мужчин, от него отводивших глаза; на киоски торговли витаминизированным хвойным напитком, газировкой и квасом, на цены; на замшелых старух и измотанных магазинно-базарной гоньбой простолицых, заветренных женщин в шерстяных, сильно пахнущих керосином платках в черно-серую клетку – на Зворыгина глядя, у многих дрожали глаза: интересно, каким это органом, чувством понимали они, что Зворыгин явился с переднего края, если он не увечный и не обожженный? А быть может, и не понимали, но при виде одной его формы вспоминали своих сыновей.
Нападал на других, молодых, вызывающе прихорошившихся женщин в совершенно нерусских, «парижских» кокетливых шляпках и даже в засиженных черной мошкой вуальках, с сильно поднятыми над фаянсовым лобиком вороными и желтыми валиками туго свитых волос, с нарисованными, как у старых фарфоровых кукол, бровями, с наливными губами-сердечками, намалеванными темно-алой помадой поверх настоящих, куда более узких и длинных, чем требует мода. Гарцевавшие на каблуках, заключенные в коконы «Красной Москвы» неприступные фифы на Зворыгина взглядывали с выражением оценивающим и чуть-чуть благосклонным. Аэлиты в надзвездной пустыне, разъедрить их в собачьей позиции.
А вообще безучастные были у столичного люда глаза: навидались сполна и калек, и военных героев с чешуей орденов. Разве что пацаны в лыжных байковых шароварах и курточках-бобочках (низ – из отцовских галифе, верх – из мамкиной клетчатой юбки) поедали Зворыгина преданно-жадными и шальными глазами.
– Таарщмайор, разрешитобратицца! – набросились, как воробьи на кусок ситной булки. – Таарщмайор, а сколько вы немцев подбили?! Таарщмайор, а как ваша фамилия?! Таарщ-майор, а Зворыгина видели вы?
– Да слабак ваш Зворыгин будет против меня. Пацаны, где тут дом номер семь?
– Ну так вона он, желтый!.. А кого вам, кого? К Майке, что ли, модистке? К Юльке, Дашке, кому? Я всех кралечек знаю!.. Юлька, Юлька его, а то кто?! Гений чистой кра-аса-аты!..
Побежал, хоть из этих разинутых клювов мог добыть все, что нужно; понесла его глупая вера в справедливую, неотвратимую встречу. Чахлый липовый сквер, старый дом, первый, третий подъезд… взял пролет и расшибся о воздух, как птица о встречное лобовое стекло. Шоколадная краска на двери шелушилась, друг над дружкой торчали на выбор две кнопки звонка – с давно не чищенной латунной табличкой «Ордынцев С.И.» и бумажной полоской «Гершковичи». И Зворыгин, нажав на ордынцевскую, не услышал звонка, посильнее вдавил и держал, как гашетку своей мотор-пушки, весь во власти сердечной отдачи, пока… дверь замедленным взрывом не открылась на полную – и могущая быть только Никиной матерью женщина не замерла перед ним на пороге.
Чуть подведенные углем усталости глаза смотрели с вопросительным спокойствием, и лицо ее было таким, что уже не имело значения, как одета она: в панбархатное платье или ношеный халат, сверкающую шубу или ватник – все равно перед нею любому мужчине захочется встать, даже закоренелому хаму.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?