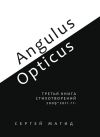Текст книги "Изборник. Стихи 1968–2018"

Автор книги: Сергей Стратановский
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Чтобы дать представление о средостении лиризма Сергея Стратановского, о воплощаемой им гармонии, пожалуй, хватит и одной его строчки: «Прошли года – потом пришла беда…» из стихотворения, беды не обещающего: «„Я счастлива“, – сказала ты тогда…»
«Сквозь призму боли и ужаса» назвал Виктор Кривулин свое послесловие к сборнику Стратановского «Тьма дневная».
Боль, по наблюдению Бориса Рогинского, едва ли не основной сюжетообразующий мотив его поэзии: «Именно о ней, боли, доступной не только поэтам, не только людям образованным, боли, объединяющей все живое, то есть о боли физической, Сергей Стратановский пишет так много, будто она и есть главный духовный опыт человечества…»[13]13
Рогинский Б. Пусть он запишет // Рогинский Б. Пцу-пцу. М. 2011. С. 170.
[Закрыть]
Во всяком случае – петербургского человечества, породившего «петербургский текст» русской культуры, обнаружимый в лучших его образчиках до сегодняшнего дня не у одного Стратановского.
Опыт по меньшей мере неустранимый, даже если не говорить о страданиях душевных как причине нашего сознания – по предположению достоевского «антигероя». Куда как слабо защищенная что от внешних, что от внутренних раздражений, наша телесность – не менее острый источник болевых ощущений. И не заметно, чтобы персонажи Стратановского, подобно стоикам или христианам, видели доблесть в безмолвном перенесении телесных недугов. Скорее настроения Стратановского соприродны переживаниям древних греков, видевших в боли лишь посланное судьбой несчастье, от которого хорошо бы тут же избавиться. И мы в этом отношении сегодня такие же «греки», как поведано поэтом в стихотворении «Холера», написанном в 1970-м, «античном», году:
И месть за что? Мы сердцем нищи
Мы скромно жили. Мы служили
И боль напитками глушили
И Эрос нас не посещал
Да, боль у Стратановского – атрибут жизни, времени, в котором нам довелось пребывать: «Так время сквозь боль и спросонок / Пугает и прячешь лицо…» Естественное продолжение «Холеры» («На улицах летнего света…», 1970) с ней рядом и поставлено.
Если нет боли – то и вера, где она? Так спрашивает повествователь в стихотворении «Письмо к брату (1984):
Вдруг я подумал:
а что если прав чужестранец
Не страдал наш Спаситель,
и вся наша вера напрасна?
И вообще в начале было не Слово, а Боль. С Болью наедине – значит с Богом наедине. Это если говорить о человеческой жизни. Особенно о ее истоках, какими они представляются поэтам, даже таким неверующим трубадурам побед, как Маяковский: «Грядущие люди! / Кто вы? / Вот – я / весь / боль и ушиб» («Ко всем», 1916). Это не открытие. Это исторический факт. Жить в России просвещенному человеку, не тревожа, говоря словами Радищева, «нежный состав мозга», невыносимо»[14]14
Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву; Вольность. СПб., 1992. С. 22.
[Закрыть].
Но не все, конечно, у Стратановского так четко разграничено и определено, да и редко где он пишет о боли от первого лица. И не только по своей исключительной целомудренности. Поэтика его стихов и их содержательная субстанция антитетичны. И к тютчевским стихам у него найдется контрапункт в «Тьме дневной»:
В метро на Тютчевской ночует человек
О, не буди его —
не то зашевелится
В нем хаос яростный…
Редко кто не процитирует в статьях и разговорах о Стратановском одно его стихотворное высказывание: «Глянь, на дереве жук-гуманист, / Тихим пальцем его раздави» («Трудно зарубцеваться / детским обидам, царапинам в сердце, в уме…», 1976). Вроде бы это написано от имени «детей-изгоев», компенсирующих свою ущербность мучительством кошек и прочих тварей. Фокус, однако, в том, что представление о «жуке-гуманисте» и свершаемой «тихим пальцем» казни не из их несчастного, всемерно придавленного интеллекта, это уже указание «свыше», сигнал из недр эстетически изощренного авторского сознания.
Интеллектуальную жизнь андеграунда середины 1970-х характеризует весьма бурный прилив христианской духовности, противопоставленной как официальному «советскому гуманизму», так и, что в данном случае много более существенно, идеологии Ренессанса. Кульминация неоправославного натиска приходится на издание тома А. Ф. Лосева «Эстетика Возрождения». В нем сокрушается как раз неугодное нам «Западное Возрождение», его «титаническое возвеличивание человека в окружении по преимуществу эстетически понимаемого бытия»[15]15
Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978. С. 45.
[Закрыть]. К бичуемому А. Ф. Лосевым типу «заправских гуманистов и светских литераторов»[16]16
См.: Там же. С. 291.
[Закрыть] Стратановский в ту пору несомненно не принадлежал. В стихотворном «Диспуте» (1979) устами Гуманиста произносил вполне «светские» речи: «Что Бог? Он жил, страдал, исчез. / Недолог Божий век. / На лестнице существ / Отныне выше прочих – человек». Да и «заправским» ортодоксом тоже не был – ни тогда, ни сейчас. В том же «Диспуте» самую проникновенную речь произносит у него не Богослов, не Новый богослов и никто другой, с их пышной символикой и залихватскими метафорами, а Просто верующий:
Но брезжит свет во тьме,
и в этом смысл вещей
И нищему в корчме
дадут тарелку щей
И на пути слепой
найдет поводыря
Бог рядом. Он с тобой.
Ты сотворен не зря
За этим персонажем в «Диспуте» «последнее слово», его вероисповедание архетипично для любого времени и любой конфессии. Во всяком случае – для всей христианской истории, этой верой и цементируемой. Здесь та проповедь «священного неведения», что лежит в основе поэтической правды Сергея Стратановского, той, что он может выразить и от первого лица – через четверть века:
Говорил, что не верю,
но все-таки верю немного,
Но не в грубого Бога,
хозяина неба и слез,
Верю в Свет невещественный,
вдруг озаряющий мозг
Свет, во тьме копошащийся
(«Диптих», 2003)
Остальное – от этого Света производное: обыденная вера, свойственная и любому неверующему надежда.
Высшая ступень лирических самопосвящений Стратановского в тайны православной духовности, пик его христианской соборности, и единения с «нашими новыми христианами» относится к семидесятым[17]17
Христианская тематика и в дальнейшем неизменно присутствует в его стихах. Но она уж носит более отстраненный, умозрительный характер человека, увлеченного библеистикой. К тому же и центр догматической тяжести переносится из области лирических воплощений в эссеистические работы, продиктованные потребностью вступить в диалогические отношения с адептами ортодоксального, принятого основными христианскими конфессиями вероучения. См. например, его статьи в журнале «Звезда»: «Притча о смоковнице» (2012, № 10) и «Антисемитизм и христианский миф» (2016, № 8).
[Закрыть]. Что же касается гуманизма в самом обычном, житейском смысле этого слова, то Стратановский в своих стихах как был, так и остается наипервейшим «жуком-гуманистом» современной отечественной поэзии. Не зря ссылается на «Книгу пророка Ионы», где Бог выказывает Себя большим гуманистом – спасающим-таки греховную Ниневию.
Невозможно себе представить, чтобы Сергей Стратановский причинил боль какому бы то ни было живому существу. Вся «боль» его поэзии этому противится.
Академически рассуждая, строчки о «жуке-гуманисте» – яркий пример амбивалентных свойств поэзии Стратановского. При более приземленном восприятии в голову приходит мысль о демонстративном, в духе интеллигентской рефлексии, срыве автора в садомазохизм или в юродство (в элементарном бытовом, а не культурологическом смысле). В кругу его читателей любят отчеркнуть «тихим пальцем» подобные суждения на полях книг – с усмешливым восторгом.
Бутырин в свое время заметил: Стратановский – «…поэт, мыслящий, не метафорами и символами, а мифами»[18]18
Мамонтов К.[Бутырин К. М.] О стихах Сергея Стратановского.
[Закрыть]. В стихотворении «Трудно зарубцеваться…» мы и видим отчетливый знак того типа мифотворчества, которым был увлечен питерский андеграунд 1970-х. Метафоры и символы в поэзии Стратановского, конечно, присутствуют – и в немалой степени. Смысл приведенного суждения в том, что метафоры эти и символы не служат поэту ловким орудием политического осовременивания содержания, насыщения стихотворения аллюзивным подтекстом, распространенным у авторов времен «застоя».
Стратановского интересует не метафорический перенос значений, а их столкновение и рецепция, чаще всего облеченные в мифологическую форму. Такова вообще, по его представлениям, загадка Общего замысла, загадка Творца, сопрягающего всяческую «муру» с «зелеными лугами» в цитированном стихотворении из «Тьмы дневной» – уже заглавием сталкивающим несовместимое.
В самой известной вещи Стратановского советского периода, поэме «Суворов» (1973), видели чуть ли не прямое переложение старой истории на новый лад, «подарок» к пятой годовщине вторжения советских войск в Прагу, столицу Чехословакии. Сюжет поэмы на такую трактовку едва ли не наталкивает: в ней речь идет о взятии русскими войсками Праги, предместья Варшавы, во время восстания Костюшко. Исключено, чтобы поэт не понимал: политическая трактовка поэмы неизбежна. Тем эффектнее он этим обстоятельством пренебрег – демонстративно написав о культе героя и героического в любой из моментов истории. Так что, осовременивая поэму, найдешь в ней смысл скорее «мракобесный», чем «крамольный»: покоритель Праги представлен тут «российским Марсом» и «полнощных стран героем». Впрочем, самое пылкое воображение не обрящет среди «водителей масс» 1968 года – Суворова. Куда ни стучи.
Миф рассматривается у Стратановского всегда двуедино – и с точки зрения его создавших и с точки зрения от него потерпевших. Эта антиномичность выражена в «Суворове» прежде всего. И тут же подытожена:
Суворов спит в могиле бранных снов,
В сиянии покоя,
А дух его парит – преступный дух героя
И кавалера многих орденов.
Суворов в этой поэме уподоблен огню, слетающему от Понта на берег Вислы. И все-таки весь текст Стратановского противится пафосу того же Тютчева с его описанием русского победного шита в лунном блеске «над воротами Стамбула» (стихотворение «Олегов щит», 1829) или надеждой у «горестной Варшавы» купить «ценой кровавой / России целость и покой!» («Как дочь родную на закланье…» (1831)[19]19
Об органичном совмещении в «Суворове» «двух несовместимых стилистических и идейных реальностей» см.: Юрьев О. Последняя победа Суворова: О стихотворении С. Г. Стратановского «Суворов» и немного о суворовском тексте в русской поэзии // Юрьев О. Неспособность к искажению. СПб., 2018. С. 184–198.
[Закрыть].
Из того, что Стратановский «мыслит мифами», вывода о его собственном «мифотворчестве» не последует. «Мифологию» он, скорее, дискредитирует. Простым усилием мысли, как, например, в евангельской истории о воскрешении и воскресении Лазаря, тысячекратно до Стратановского истолкованной:
Счастье вроде бы, чудо,
но ведь придется когда-нибудь
Умереть окончательно.
(«Но воскресшему Лазарю…», 2010)
И на самом деле, долго ли ходить по земле воскрешенному? Откровение, можно сказать, близкое тютчевскому. Тем интереснее разность тона – обыденного у Стратановского и бурно политического (вызвано пропольскими действиями западных держав) у Тютчева: «В крови до пят, мы бьемся с мертвецами, / Воскресшими для новых похорон» («Ужасный сон отяготел над нами…», 1863). И вот что разделяет сходные сюжеты: у Тютчева вся соль в его незаурядном остроумии заядлого полемиста, у Стратановского же в центре – рефлексия на скорбный человеческий удел. Что и давно уже было подчеркнуто с редко свойственной поэту резкостью:
Только чур – я не Тютчев
с мечтой о поверженной Хиве
Умиравший когда-то.
А я только кровь и мочу
Вижу в родимой палате
и, сжавшись от боли, молчу.
(«Снова больница…», 1982)
В соответствии с суровой христианской традицией, ближайшим образом воспринятой Стратановским через Константина Леонтьева и Сёрена Кьеркегора, он знает: главное в Священном Писании – заповеди смирения и страха Божия. А потому ищет в нем тех персонажей, кто в этот порядок вещей не укладывается, кто против него восстает. И тогда в известном сюжете с Авраамом и Исааком не смирение Авраама перед Богом выдвигается на первый план, а то, что стоит за этим смирением. Опять же простой поворот – взгляд на отца глазами сына: «…я взглянул / Аврааму в глаза / и увидел глаза человека, / Ставшего тигром» («Исаак против Авраама»)[20]20
Из цикла «Библейские заметки», 3 (1990).
[Закрыть].
Как минимум два сборника Стратановского, полностью заполненные религиозно-мистическими сюжетами («Смоковница», 2010, «Иов и араб», 2013), говорят о том, что столбовое в отечественной мысли противоположение «религии» и «культуры» для стихотворчества – пограничная и тучная земля обетованная. На ней «филология» тягается с «теологией» – к вящей славе поэзии.
Лирический субъект этой поэзии – человек бунтующего сознания. Не отождествим этого субъекта с автором по одной простой причине: бунтовщик не ведает об оборотной стороне чеканящейся медали, не знает, что неповторимость стиху придают авторские обертоны, а не чужая речь. Хотя именно чья-то безымянная тирада, как правило, и организует сюжет стихотворения Стратановского.
Об иронии говорить также остережемся. Если она у Стратановского и наличествует, то как способ преодоления иронии же. Как способ защиты сюжетов и тем, о которых принято говорить с иронией. Очень ответственное эстетическое кредо Стратановского сводится к желанию обнаружить неведомое в пошлом, истинное в банальном, к попытке раскрыть ходульное выражение как лирическое. Это своего рода «остранение остранения»: на мгновение показав привычную вещь с необычной стороны, поэт все же доказывает, что и в демонстрации примелькавшегося фасада остается свой немалый смысл. Вот характерный, венчающий книгу «Граффити» (2011) пример:
Дерево на косогоре,
Дерево в нитях дождя,
В неводе солнечном
листьев шумящее море.
Вот оно – дерево Жизни.
Повторим: Стратановский совсем не Антитютчев, как может показаться. Наоборот, если говорить об основной, лирической, ипостаси автора «Этих бедных селений…», то Стратановский его прямой единочувственник – и по отношению к месту пребывания на земле, и по отношению к апофатическому способу воспевания ее величия:
Но может, сила есть в бессильи
В косноязычьи – Божья речь
Живое золото России
Удастся все же уберечь
(«Ты говоришь, что пьян и болен…», 1980)
Конечной точки опять же нет, и в дальнейшем своем развитии лирическим жанром, стишками, в строфы-гробы заколоченными, Стратановский пренебрег. Зачем они ему после «Уединенного», после «Опавших листьев»? Розанов – вот кто для него поэт метафизики сладкой, поденной, ее выдумщик и образец. Известны розановские пряные озарения давно – сегодня и обмусолены, – но у Сергея Стратановского «Апокалипсис мимолетный» – получился.
Верим: и он не конец. Есть у него «млечной надежды слова», их немного и связь между ними – через пробелы: «Родина… почва… родник» («Я готов / этот город покинуть…», 1981).
Потому и «Розанов закоулок» венчается просветом:
Закоулок заветный,
снытью заросший, крапивой
С церковью квёлой
и голой поповной у баньки
А за банькой – луга, облака…
Можно писать «стихи не о любви», можно и «стихами» их не называть, просто – «текстами». Можно и о самих рифмах вспоминать лишь от случая к случаю. Потому что – нет закона. Закона нет. Сплошь Поправки. Заступы за пограничную черту. Как и жизнь – слабым не по плечу.
Из книги «Стихи» (1993) с добавлениями
Тыква
Тысячеустая, пустая
Тыква катится, глотая
Людские толпы день за днём.
И в ничтожестве своём
Тебя, о тыква, я пою,
Но съешь ты голову мою.
1968–1972
«Что же ты, головотелый…»
Что же ты, головотелый,
Легкий сахар не грызешь,
А на стеночке, на белой,
Всё отшельником живешь?
Что же ты, головопузый,
Всё скучаешь и молчишь?
Разве только с пьяной Музой
В серой щели переспишь.
Ты ее, как муху, ловишь,
Паутинясь целый век.
Тёмнотелыш, тёмнолобыш,
Насекомый человек.
1968
«Страшнее нет – всю жизнь прожить…»
Страшнее нет – всю жизнь прожить
И на ее краю,
Как резкий свет, вдруг ощутить
Посредственность свою.
Как будто ты не жил,
Соль мира не глотал,
И не любил, и не дружил,
А только дни терял.
Как будто ты существовал
В полсердца, в пол-лица,
Ни бед, ни радостей не знал
Всем телом, до конца.
И вот – поверь глазам:
Как соль, стоит стена…
Ты был не тот, не сам,
И словно соль – вина.
1968–1972
Холера
12
Полудух, полудевка – холера
Ртом огромного размера
Ест немытые овощи
И человеко-траву.
И бессильны руки помощи,
Если рядом, наяву,
Блуждает эта дева,
Неся зерно пустыни,
Чашу огненного гнева
И невымытые дыни.
В час, когда за чашкой водки,
В разговоре о холере,
Тратя мысли, тратя глотки,
Ищем легкого экстаза,
Неужели в наши двери
Светлоокая зараза,
Крадучись, войдет?
Лето 1970
Она – Эриния, она – богиня мести,
И крови пролитой сестра.
И она в курортном месте
Появилась неспроста.
А мы – курортники, мы – жалкие желудки,
Населяя санаторий,
И жуя как мякиш сутки,
Ждем таинственных историй.
Мы здесь избавлены от уз
Работы скудной и немилой.
Нам дал путевки профсоюз,
Чтоб запаслись телесной силой
И, бодрый разум обретя,
Существовали б как дитя.
О, южное море и горы —
Пейзажи как на открытке,
И красавиц местных взоры,
И прохладные напитки
В час жары, а в час прохлады
В садах работают эстрады,
А ещё по вечерам
Закат работает пурпурный
И корабль литературный
По морским плывет волнам.
И мы – курортная земля,
Руководимы чувством меры,
Но аллегория холеры
Сошла на берег с корабля
И свои дурные овощи
На базаре продала,
И раздался крик о помощи,
Крик «Спасите! Жизнь прошла».
Смятенье. Все уносят ноги
На север. К здоровым местам.
И аллегория тревоги
Бежит за ними по пятам.
А в санатории – скандал:
Боимся моря, пляжа, пищи…
О, кто Эринию позвал?
И месть за что? Мы сердцем нищи.
Мы скромно жили. Мы служили
И боль напитками глушили,
И Эрос нас не посещал.
Лето 1970
«На улицах летнего света…»
На улицах летнего света
Пить воду и яблочный сок,
Шататься без толку, шататься,
Забыться, не слышать стараться,
Как дышит развязанный где-то
Смертей и рождений мешок.
Как страшен бывает ребенок
Для жалких, никчемных отцов,
Так время сквозь боль и спросонок
Пугает – и прячешь лицо.
На улицах сорного лета
Экскурсии, игры детей,
И боль от животного света
Грядущей любви и смертей.
1970
«Мешает зависть дышать и жить…»
Мешает зависть дышать и жить,
Рассыпаясь злобой мелкой,
И земля безумной белкой
Под ногами мельтешит.
Каждой ночью – скука сердца,
Боль от разных неудач,
Нерожденного младенца
Под землею – тихий плач.
Право, трудно – не безделка
Стать счастливым, жить как все
И забыть, как бьется белка
В сумасшедшем живом колесе.
Весна 1972
«То ли Фрейда читать…»
То ли Фрейда читать
И таскать его басни в кармане,
То ли землю искать,
Как пророческий посох, в бурьяне.
То ли жить начинать,
То ли кончить, назад возвратиться
В общерусскую гать,
В эту почву, кричащую птицей.
Или лучше про пьяную кружку
Поэму писать
И ночами подушку,
Как мясо, кусать.
Весна 1972
«О лед, всемирный лед, тюрьма…»
О лед, всемирный лед, тюрьма…
Вся стужа звездная над нами,
Как будто Древняя Зима
Оделась ясными зрачками
И смотрит в нас – со дна Невы,
Читает нас – живую кожу,
Как буквы – с ног до головы.
Январь 1973
Скоморошьи стихи
12
Ты – Горох, Скоморох, Обезьяныч,
Мужичок в обезьяньей избе.
Почему обезумевший за ночь
Я пришел за наукой к тебе?
Я живой, но из жизни изъятый,
По своей, по чужой ли вине,
И любой человек обезьяний
И полезен, и родственен мне.
Скоморошить? Давай скоморошить!
В речке воду рубить топором
И седлать бестелесную лошадь
С человеческим горьким лицом.
За избенкой – дорога кривая.
Ночь беззвездна – не сыщешь пути.
И, квасок с мужичком попивая,
Сладко жить в обезьяньей шерсти.
1969–1972
Кто пожар скомороший зажег?
Ты ли, Вася, ремесленник смеха,
Человек скоморошьего цеха,
Весь обряженный в огненный шелк.
И душа твоя, ах, весела.
И колеблются почва и твердь.
Пусть горит, пусть сгорает дотла.
Ничего. Это легкая смерть.
1969
Дом в московском переулке
Дом в московском переулке —
Старый розовый забор,
Кофе, жареные булки,
И застольный разговор,
Вот хозяин – сноб, всезнайка —
Лысый череп, важный вид.
Вот прелестная хозяйка
Мне с улыбкой говорит,
Что какой-то их приятель
За границей побывал,
Что знакомый их – писатель
Снова повесть написал,
Что какой-то маг восточный
Моден стал с недавних пор
И что был (известно точно)
Импотентом Кьеркегор.
Странно в домике уютном.
Для чего мне здесь бывать?
Пить с хозяином надутым,
Апельсином заедать?
Но любезны почему-то
Души комнатные свеч,
Воздух милого уюта —
Серо-розовая вещь.
И я славлю тмин и булки,
Ведь за дверью глушь и тьма,
Кто-то бродит в переулке,
Метит крестиком дома.
1969–1972
Памяти Леонида Аронзона
Подпись железом,
железом судьбы, облаков.
Выстрел в себя на охоте
в день листопада промозглого,
ржавого, в кровоподтеках.
Слышишь: звенит в тумане
в полдень охоты безлюбой.
Видишь: как пулей – ранен,
падает лист бледногубый,
На бессмертную почву,
в день судьбы,
в день охоты смертельной.
1976
Последний хемингуист
Больше нет в Ленинграде хемингуистов.
Кто-то в Мексике, кто-то в Нью-Йорке.
А когда-то
В нашем городе, хмуром
и чуждом фанфарам фиест,
Они шлялись по барам
и дрались из-за невест.
Говорили о спорте,
об айсбергах жизни и прозы.
Праздник жизни манил,
солнце Мексики встало в зенит,
И ушел без возврата
последний хемингуист.
В нашем городе скучном,
где был он почти знаменит,
В нашем городе пасмурном
кружится зябнущий лист
И летит в подворотню,
где он напивался когда-то.
1979
Метафизик
Жил философ о двух головах,
Он работал простым кочегаром
На паровозах, и недаром
Оказался о двух головах.
Он раньше думал, что в огне
Начало всех начал,
И пламя бьется в глубине
Как жаркий интеграл
Событий, жизней и вещей,
Хозяйства доброго природы,
Ему причастны дни и годы
И разумение речей.
Но тот огонь – отец отцов,
Старел и меркнул год от года,
И вся летящая в лицо
По рельсам ясная природа
Вдруг стала скопищем слепцов:
Трава, деревья – все безглазы,
Все – богадельня, дом калек…
(Вот рока страшные проказы,
Ты их добыча – человек.)
Ушел на пенсию, покинул паровозы,
Стал подрабатывать в артели для слепых,
И бесполезны были слезы
Для глаз бездомных и пустых.
И причастились вдруг сомненью
Деревья, рельсы и поля,
И, словно страшная земля,
Небытие отверзлось зренью
Второй, духовной головы,
Очам ущербного сознанья,
О инвентарь существованья:
Феномен страждущей травы,
Феномен листьев, паровозы,
Огонь всемирный и живой —
Все стало ночью и землей.
1970
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!