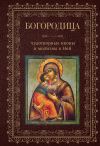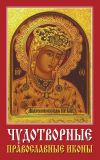Текст книги "Дар над бездной отчаяния"

Автор книги: Сергей Жигалов
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 20 страниц)
«Благослови, Господи, и помози мне, грешному, совершити дело, мною начинаемое во славу Твою», – молился Гриша, и проступали из-под карандаша глаза Чудотворца. Он откидывал голову и, не выпуская из зубов карандаша, глазами хана поганого Бердыбека глядел на святителя. И, не лукавя душой, отвечал сам себе: нет, не растопил бы обросшего звериной шерстью сердца хана такой вот написанный им лик митрополита. После сладких речей, обильных яств, заморских вин и даров, ночью, когда послы видели девятые сны, прокрались бы в русские шатры приземистые тени, взблеснули ножи…
«Зверь уважает силу». – Гриша склонялся над листом, мелкими движениями головы водил карандашом. На белом проступал прямой твёрдый взгляд и не было в нём страха смерти. Но опять всё не то. С тысячами людей скрещивал свой взгляд Бердыбек. Видел в их глазах подобострастие, восхищение, хитрость, покорность, скрытое учёное превосходство, злобу, жажду мести, старческое равнодушие к смерти. Этот взгляд бы тоже не остановил, и седая голова митрополита покатилась бы, пятная ковёр кровью…
Выходило, басурман через полтысячи лет брал верх над юным русским изографом. Гриша разжал окаменевшие от долгого держания карандаша челюсти, грифель покатился по столу, прогоняя видение.
Дошмыгал до ушата с водой, нагнулся. Из глубины водяного круга глянули твёрдые смелые глаза. Напился. Постоял. С губ в ушат сорвалась капля. Лик на воде сразу исказился, сделался подетски жалким, словно закричал о помощи. И тут в темени его мысленных блужданий просверком молнии вспыхнули чудные слова: «И если я раздам всё имение моё и отдам тело моё на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы… Любовь всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит…». «Вот она, разгадка ханской милости. А я, дурень, всё взгляд ему отвердевал, насталивал, – мысленно обругал себя Григорий. – Свет горний, сострадание и прощение – вот что увидел Бердыбек в глазах святителя Алексия. Любовь. Потому-то пощадил его и не пошёл на Русь войной…»
Григорий вернулся к столу, поймал губами карандаш: «Любовь и прощение…». Хлопала дверь, заходили отец, Афоня, что-то спрашивали. Звали обедать, он не отозвался. Смолёная морда хана с прижатыми волчьими ушами рассеялась, пропала, улетучилась…
18
В ту весну двуглавый с орлицей вывели трёх птенцов. Скоро белые пухлявые комочки оборотились ненажёрными зевластыми мучителями.
Двуглавый встречал восход солнца уже на крыле. Озирал по-осеннему жёлтую июньскую степь. Опять повторялась нередкая для здешних степей засуха. За всю весну не упало и капли дождя. Солнце, будто наказывая за грехи, хлестало землю золотыми раскалёнными плетями. Озёра высыхали на глазах. В пойме над сверкающими калаужинами клубились вороны и чайки, хватали, давились баламутившими грязь головастиками. Двуглавый падал сверху, распугивая птиц. Когтил шевелившуюся грязь, взмывал. С пустых когтей сыпались чёрные капли жижи. Вчера за весь день уцелил за селом у мышиной норы худую горбатую кошку. Проглотив добычу, на глазах у него два птенца насмерть заклевали ослабевшего от бескормицы собрата. Орлица тут же разодрала его на куски и скормила детёнышам.
С утра поднимался горячий ветер. Скотина в поле не наедалась. У коров из глаз текли слёзы. Никли и сохли на корню хлеба. Сушь стояла несказанная. Мужики толпами уходили на заработки в Казачьи Пределы. В обед село было пустынно, как ночью. Ветер гнал по улицам Селезнёвки сухую пыль, бил по глазам. «Поаккуратнее с огнём. Кочергой в печи не лютуйте, – увещевали баб старики. – Спаси Бог, искра какая, всё село спичкой пыхнет…».
Григорий которую неделю корпел над иконой святого Алексия митрополита Московского. Губы потрескались, кровоточили, лицо краской забрызгано. Несподручно одному. Никифор ещё в мае ушёл на заработки к казакам и, как ключ на дно, канул. Афоня с Гераськой работали у купца Зарубина на пристанях, рубили амбары. А Гриша весь день один. Утром забыл сказать, чтобы икону на пол плашмя положили, так и осталась у стены стоять вертикально.
Хотел нимб[23]23
Нимб (лат. облако) – условное изображение сияния вокруг головы Спасителя, Божией Матери, ангелов и святых.
[Закрыть] вокруг головы святого писать – не дотянуться. Подлез между стеной и иконой, плечом подвинул, икона на пол по спине и соскользнула. Тяжёлый кипарис по уху черябнул, по плечу, да больно так. Помолясь, ложился плашмя на пол около иконы, макал кисть в яичную темперу[24]24
Краски, связующим веществом в которых служит яичный желток.
[Закрыть], закрашивал нимб. Держать на весу голову было тяжело. Уставал, кисть дрожала. Утыкался лбом в пол, отдыхал.
К обеду стала отниматься шея. В мастерской становилось всё жарче, рубаха на спине намокла от пота. Прислонился лбом к прохладной доске и уснул, как провалился. Очнулся оттого, что над ухом дико мяукала кошка, теребила когтями рубаху. Поднял голову и ахнул: лик иконы сиял багрово, будто живой, дышал бегучими тенями. Гриша повернулся к окну: крыша дома напротив топырилась космами огня. На дорогу огненными птицами летели клочья горящей соломы. Тогда только услышал звон колокола, крики. Страшно потрескивала крыша на мастерской. «Камыш загорается. Щас как полыхнёт, выбраться не управлюсь…», – подкатился к порогу, головой отворил дверь. Оглянулся, сделавшийся багряным святитель будто глядел с пола ему вслед с любовью и прощением. Григорий котма вернулся. Зубами стянул с полатей домотканое одеяло. Положил рядом с иконой, расправил за углы. Камыш на крыше трещал всё дружнее. Звенели ведра, бегали люди. В мастерской сделалось дымно. Кошка то выбегала за дверь, то возвращалась – мяукала дико, звала на улицу. Будь её сила, ухватила бы хозяина как котёнка за шиворот, вынесла наружу. Уж всё горит, а он около иконы по полу катается. Рот раскровянил, хотел икону за угол зубами на одеяло затащить, никак. Доска толста, в рот не лезет.
Лбом, подбородком додвигал икону до порога. Она торцом в край упёрлась и ни в какую. Дым в глотку набился, не продохнуть. Слёзы градом. В мастерскую никто из мужиков особо и не рвался. Бабы видели утром Афоню и будто Гришка-обрубок был с ним. Едучий дым шубой стлался по полу, ел глаза. Текли слёзы. Снаружи трещало. Сухо щёлкая, лопались от жара оконные стёкла. Пламя заныривало вовнутрь, лизало стены. Минута, и мастерскую затопит огонь.
– Хан, окаянный Бердыбек, не сгубил тебя, отче, неужто теперь сгоришь? – в отчаянии вскри чал Григорий, повалился на пол, упёрся лбом в торец иконной доски, что есть силы, толкнул через порог в сенцы. На расстоянии голубиного крыла увидел он благодатный лик святителя. Ком одеяла на полу тлел. Григорий, разрывая рот, захватил-таки край иконы зубами и, пятясь, задыхаясь в дыму, мелкими шажками волоком потащил к сенной двери. «Он, милостивец, сам шёл за мной», – скажет потом Григорий отцу Василию.
Крыльцо занималось огнём. Стелившийся по двору дым отогнало ветром, мужики, тушившие пожар, увидели на крыльце Григория с иконой в зубах. Первым к нему кинулся отец Василий. Вид его был страшен. На чёрном от копоти лице вздувались волдыри от ожогов, обгорелая борода, по-рыбьи голые, без ресниц и бровей, глаза.
– Цел. Слава Богу, цел. – Обхватил крестника поперек туловища, сопя от натуги, стал спускать с крыльца.
– Не то творишь, крёстный, – Григорий ужом вывернулся из рук. – Я сам. Икону бери!
Подбежавшие мужики подняли на руки и изографа, и икону, отнесли к колодцу. Под порывами ветра пламя живым зверем кидалось на людей. Отец Василий обеими руками взял за края икону, поднял над головой.
Светозарный вызолоченный огнём лик святителя возвысился над головами павших духом мужиков. Черневшая на лбу у образа угольная полоса как бы говорила о том, что святой чудотворец вместе с ними тушил пожар.
– Ребяты, кто смеляк, лезьте на крышу, разбирайте, чтоб огонь на избу не перекинулся, – кричал староста, лысый крепкий старик в валенках.
Из толпы вывернулся едва не сгоревший сонным в своей избе Филяка. Часа не прошло, как отец Василий выволок его, полупьяного, из огня, и вот уже он, опалённый, с вывернутыми красными глазищами, рухнул на колени в грязь перед иконой.
– Дозволь, отче Василий, хоть следок у святителя облобызать. – Приложился к иконе, встряхнулся по-собачьи всем телом. – А теперь лейте воду мне на голову! Не успел никто и глазом моргнуть, как на крыше избы заметалась в дыму его рваная рубаха. Филяка багром поддевал подаваемые снизу вёдра с водой, плескал в огонь. Клочья горящего камыша летели на избу, падали во двор, на головы людей.
– Слазь! Прыгай, сгоришь! – кричали Филяке. Его фигура то и дело пропадала в клубах дыма. Когда он спрыгнул, у него тлела рубаха, дымились на голове волосья.
– Лей, сгорю! Лей, – ревел он.
Мужики забегали в избу, тащили иконы, срывали занавески, хватали одёжу, постель… Скоро огромной свечой пылала изба. Страшучий жар не давал подступиться. Вода в колодце кончилась…
Григорий стоял в стороне, на бугорке, рядом с лежавшей на земле иконой митрополита Алексия. Шептал молитву. Всё его внимание было захвачено созерцанием страшных по силе и яркости красок огня и дыма. Невидимая гигантская кисть взбугривала чёрную завесу дыма, опушала серым, мешала их с багровыми клубами, добавляла ослепительно яркого соломенного сияния.
…Восемнадцать дворов пожар, как корова языком, слизала. И то хорошо, ветер стих. А то бы вся Селезнёвка дотла выгорела. Через три дома на четвёртый клочья горящей соломы закидывало. Дотемна в настоянном гарью воздухе разносился бабий вой. Выкатилась из-за вётел багровая, будто раскалённая пожаром, луна. Захлёбисто ревели, не узнавая обугленных, блестевших в лунном свете подворий вернувшиеся из стада коровы.
У Журавиных на месте мастерской – чёрные оплывшие саманные стены. Страшно торчала из ощетиненных, обугленных брёвен печная труба. Афоня вернулся, когда и угли на пепелище потухли. Только и сказал: «Погрели Богу ноги». И заплакал горько.
Ужинали на погребке при свече. Покрыли тряпицей перевёрнутое кверху дном корыто, в котором рубили капусту. Поставили на неё корчагу с квасом, накрошили туда хлеба. Помолясь, хлебали тюрю. Афанасий кормил сидевшего слева Григория. Краем ложки привычно ловко убирал прилипавшие к его губам лепестки петрушки.
Ночевать расположились тут же, на погребке. Григорий попросил Афоню постелить сена в снятую с колёс старую телегу. Лежал на спине, улетал мыслями в сверкающую бездну неба. Вспомнилось, как мать говорила: «Старый месяц Бог на звёзды крошит». Улыбнулся: «Крошки. А кто из этих крохоток выложил Большую Медведицу, Лебедя, Рака…
И опять мысли возвращались к пожару. За что Господь попустил попалить дома? Наказал за грехи?.. Зачем посылает засуху, голод. Обрекает людей на страдания? Из Любви?.. Отец Василий говорил давеча, что Он расплавил в огненном искушении избранных своих, чтобы очистить и обратить к себе. И что, все испытания и скорби имеют целью спасение души человеческой?..
Сбив с мысли, темноту неба наискось полоснула падающая звезда. И будто тот огненный росчерк явил ответ: «Пашем, сеем, жнём, молотим. Варим еду, шьём одёжу. Всё для ублажения тела. Укрепляем темницу души. Господь, как неразумным детям, посылает нам невзгоды, чтобы через страдания телесные мы очистились и возвысились душой. Обрели любовь…».
С этим он и заснул. И тогда явился из темени белый, как снег, голубок. Опустился на край телеги, у изголовья.
19
В открытые окна с пальн и до слуха императора доносились взвизги Ксении, хохот Сандро[25]25
Великий князь Александр Михайлович, муж сестры Ксении.
[Закрыть], возгласы Ники. Они швыряли друг в друга каштанами. Ксения и Ники против Сандро. Император полусидел в постели, откинувшись на подушку, набитую сухими лепестками роз – подарок Бухарского эмира. Он чувствовал на руках и ногах незримые гири болезни, но был спокоен. Взвизги недавно выданной замуж дочери, молодая радостная жизнь молодёжи обтекала его, как река камень. Впервые он почувствовал дыхание смерти на охоте в Спале, когда в пяти шагах мимо прошёл олень. Зверь его не боялся. Природа уже не числила его в живых. Жизнь заканчивалась, оставался долг. Он, лёжа, выслушивал доклады министра двора Фредерикса о состоянии царских финансов, о винных погребах в скалах, куда стала поступать вода… Беседовал с наследником о делах государевых. Внутренним зрением он видел, что Ники витает мыслями где-то у берегов Англии с Алекс, и уже не раздражался: «Будет счастлив государь, счастлива будет и Россия…».
– Саша, я вижу, тебе лучше, – в спальню легко вошла царица.
– Я ещё жив, но уже видел ангела, – улыбнулся император. – Послали за Алекс?
– Пустое говоришь, ангел, – к выздоровлению, – перекрестилась Марья Феодоровна. – Алекс прибыла в Алушту. Ники с дядюшкой Сергеем поехали её встречать.
– Пусть приготовят мой мундир.
– Саша, тебе вредно усиливаться.
– Я не хочу встречать принцессу в подштанниках.
Час спустя, облачённый в летний мундир с голубой георгиевской лентой через плечо, государь сидел в кресле, ожидая будущую невестку. Скороход докладывал, по дороге из порта наследника с невестой жители татарских сёл засыпают цветами и виноградом, и тем замедляют движение…
Когда доложили о приезде Алекс, государь попытался встать и не смог. Девушка в длинном, до щиколоток, бежевом платье робко ступила на порог кабинета. Государь встрепенулся глазами. Она была прекрасна в своём смятении. Подошла, опустилась перед ним на колени и, взяв в ладони костлявую жёлтую кисть свёкра, поцеловала. Тихо, но отчётливо выговорила по-русски слова приветствия. Николай, стоявший позади, по лицу отца понял, что Алекс ему понравилась, просиял. Государь благословил невестку и она вышла. Николай двинулся, было, следом, но его остановил голос отца:
– Это царский выстрел.
«Причём тут «выстрел»? – не понял он и только мгновением позже догадался, отец сказал «выбор». С языка готов был сорваться вопрос о сроках свадьбы, но, глянув на жёлтое в бисере пота лицо императора, сказал другое.
– Пап, тебе надо лечь.
Император, будто не слыша его, выпрямился в кресле и, когда заговорил, голос его был твёрд:
– Господь призывает меня. Тебе, Ники, пред стоит взять с моих плеч царский крест. Он тяжек до кровавых слёз. Нести ты его будешь до сво ей могилы, также, как нёс я и наши предки. – Александр пожевал пересохшими губами. Теперь Николай ловил каждое слово. Отец завещал. – Самодержавие – это исконная русская власть, индивидуальность России. Не дай Бог, рухнет самодержавие, рухнет и Россия. Если к власти придут слуги антихриста, кровожадные и чужие, они распнут православную церковь. Грядет эра смут, бойни, междоусобиц… Помни это и там, где надо, будь твёрд и мужественен. Когда не будешь знать, как поступить, спрашивай Бога и свою совесть… Ты знаешь, какая самая главная задача императора? Увеличение народонаселения. И ещё запомни, кто бы из иноземных правителей ни клялся тебе в любви и верности, ни набивался в друзья – никому не верь. У России есть два верных союзника – армия и флот.
Наследнику казалось, с каждым словом жизнь императора съёживается, как шагреневая кожа. Обессиленный, он закрыл глаза, зашёлся сухим кашлем. Николай хотел позвать докторов, но отец протестующе покачал головой, отдышался:
– Помогай родителям того офицера. Помнишь, я выстрелил в караулке? Чтобы ни в чём не знали нужды… После моей смерти возьми себе икону Александра Невского, самарский губернатор подарил. Икона нерукотворная, писана безруким и безногим крестьянином. Она благодатная, молись ей.
– У меня есть икона Николая Чудотворца того же крестьянина, Григория Журавина.
– А ты одарил иконописца?
– Нет.
– Одари.
20
Чёрный суховей гнал по Селезнёвке пепел, посыпал им головы погорельцев, слезил глаза коров и овец. Дашка Крупина, босая, с подоткнутым подолом, вместе с братьями и сёстрами бродила по пепелищу, выкапывали кочерёжки, рогачи, ножи с отгоревшими черенками. Ни свет, ни заря заявился Сёмка, уговаривал опять замуж. Сулился до зимы дом построить. Мать на колени перед ней прямо в золу падала:
– Соглашайся, Дарька. Зима придёт, помёрзнем, как котяхи… Дался тебе этот обрубок…
А она виновата? Что бы ни делала, всё время ощущала на себе взгляд его ясных глаз. Дивилась, почему другие не видят, как из них свет чудный струится. И всё старалась делать, будто для него, воробышка бескрылого. Когда пожар начался, не добро спасать кинулась, а листочек со своим портретом, где на барышню похожа.
Роясь в головнях, для укрепа души вспоминала, как в половодье стояли они на берегу и лиса с уткой в зубах по льдине бегала: «…Я как та утка. Все на меня ополчились – и пожар, и мать, и Сенька…
Уплыть бы, улететь с ним, никого не видеть и не слышать», – катились из глаз слезинки, протачивали дорожки по чёрным от сажи щекам. Её охватило вдруг желание увидеть его.
Умылась, переоделась в чистое. На полпути в церковь опамятовалась: «Будний день, среда. Службы-то нету…».
А ноги сами несли по пустой жаркой улице.
Церковь была открыта. После уличного жара приятно окатило прохладой. Косые струи света лились из оконцев под куполом, высвечивали тускло взблёскивавшие иконы. Показалось, будто светлоликий Спаситель и Сама Божья Матерь – в серебряном одеянии, пророки смотрят, ободряют. Трепетно, на цыпочках, подошла к иконе Богородицы Скоропослушницы, припала губами к серебру оклада. Отходя в сторонку, увидела в боковом притворе Григория, с кистью в зубах.
Он ещё и глаз на нее не поднял, а сердчишко уже летело, будто камень в бездонный колодец.
– Утром про тебя думал. Говорят, всё у вас погорело?
– Дочиста. Что на себе было надето, то и осталось. – А вы? – Слизывала с губ слёзы, улыбалась.
– Мастерская сгорела, а икону вот вынесли. Нарушили кое-где. Поправляю.
При этом подумал: «Она как солнышко при слепом дожде. Слёзы ручьями текут, а улыбка ясная…».
– Меня, Гриш, сватают, – сама не хватилась как сорвалось. – Вчера…
– За кого?
– Я же тебе весной говорила, за Семку Брюханова.
– А ты? – усмехнулся, вспомнил, как зимой у ворот вывалился на него из темени этот самый Сенька, здоровенный парень в лохматом треухе, забасил:
«Ты, значится, паря, того. Ты её больше не рисуй. Не то я тебе все руки-ноги подёргаю».
Тогда он рассмеялся в ответ:
«Дурак, как ты подёргаешь то, чего нет?»
«Не замай её, я свататься хочу», – бубнил парень.
«Ну и сватайся», – сказал весело, а внутри оборвалось.
«А ты пошто её рисуешь?»
«Лик у нее ясный…»
«А как же мне сватов засылать?»
«Большой ты, малый, а без гармони».
«Дык куплю», – сволок с головы треух, помял…
…Вмиг высверкнуло в памяти и пропало. Он во все глаза глядел на пылавшее кумачом дашино лицо в слезах. Раненой птицей плескалась в сердце боль: «Сватают, сватают…».
Миг один и пала бы Даша перед ним на колени: «За тебя пойду. Возьми. Кормить-поить с ложки буду, как дитё малое. Милостыню под окнами просить, только бы видеть тебя рядом…». Григорий, будто услышав немую мольбу, посунулся к девушке. Глаза его сияли: соглашались, обещали, целовали… Приближались.
И тут пространство между ними рассёк светозарный просверк. Прислонённая к стене икона святого Алексия упала на ребро, качнулась и плашмя легла на пол к их ногам. Готовая шагнуть к Григорию Даша отпрянула, чтобы не наступить на икону. Святой у ног глядел на них с любовью и мольбой. И она откуда-то знала, о чём эта мольба. В слезах выбежала из церкви, не заметив подходившего к ней отца Василия.
21
…Горел костёр. Из степи подступала ночь. Сизые перья пламени выхватывали из темноты передок телеги, играли в изумрудном глазу привязанной к колесу лошади. Отец Василий кормил Григория кулешом из котелка. Капал с ложки крестнику на рубаху, винился. Гриша был молчалив и пасмурен. В задке телеги на сене лежала замотанная в мешковину икона святителя Алексия, которую они везли в Самару.
– Ишь, лошадь всхрапывает. Чует кого-то… Помнишь, волки чуть не задрали, – все старался раз говорить крестника отец Василий. – Господь его по слал.
– Кого?
– Орла. На царском гербе двуглавый орёл, а над тобой живой о двух головах, охраняет.
– Лучше бы меня тогда волки разорвали или на пожаре бы сгорел.
– Во как, – изумился отец Василий.
– Думаешь, крёстный, легко обрубком жить?! – выдохнул в огонь Гриша. – Ложку кулеша сам не съем.
– Не гневи Бога. Тебя Господь великим даром наградил. Руки-ноги у всех есть, а такую икону один ты сумел написать.
– Этот дар я с радостью за руки-ноги отдал бы. И жил бы, как все добрые люди. Пахал бы, баржи грузил, – всё так же глядя в огонь, тусклым голосом говорил Григорий. – Я сколько раз во сне видел, как дрова на баню рублю, на вечёрках с девками в хромовых сапо гах пляшу. А очнусь…
Шуршали в костре, прогорая, сучья. Хрустела травой лошадь. Отец Василий – согбенный, будто придавленный горькими словами, молчал, не зная как утешить крестника. Спать легли в телеге, на сене. И тогда, глядя на небо, он заговорил:
– Ну женился бы, дети пошли. Нянчиться надо было бы с ними. Пошли бы раздоры и в душе нестроения, злость. Век бы такого святителя благочестивого не написал… Звёзды в небе тоже не разговаривают, и ног-рук у них нету. А вон какой чудный свет изливают на нас. Деревья на одном месте всю жизнь стоят, а тень дают, плоды.
– Самовар чай греет, тоже, скажешь, польза.
– А то нет? С мороза как хорошо горячего чайку испить.
Отец Василий молчком подгрёб уголья.
– Пожар-то зачем Он попустил? Сколь горя людям… – всё тем же деревянным голосом вопрошал Григорий.
– И пожар, и болезни, и засухи – это Божий плуг в сердце нашем разрыхляет окамененное нечувствие, чтобы в нём проклюнулись ростки любви. – Отец Василий приподнялся на локтях. – Ты видел степь после пожара? Черно, голо. А дождик прошёл, и все зазеленело, закустилось гуще прежнего. Горе очищает душу человеческую, как степь – огонь…
Григорий глядел в небо, думал о встрече с Дашей в церкви и как между ними упала на пол икона: «Нечаянно плечом задел, или это был знак святого духа Митрополита Московского?.. Сёмка – здоровый, рукастый… а я… обрубок… Мучилась бы со мной…».
Небо наискось рассёк светящийся след: «Господь спички об небо зажигает…», – улыбнулся сквозь слёзы. «Так вот и жизнь наша земная. Мелькнула и… бугорок с крестом», – вздохнул отец Василий.
22
В Самару приехали на другой день. Солнце уж закатывалось. Стуча колёсами, переехали мост через Самарку. От реки дохнуло на измаявшихся за день на жаре ездоков прохладой. На лошадях босые мужики волокли из-под берега на тележных передках осклизлые брёвна. Махали вожжами над конскими головами, орали. Концы брёвен чертили по песку глубокие борозды. С корзинами белья на коромыслах шли обочь дороги востроглазые девки. Шлёпали по белым икрам мокрыми подолами, смеялись звонко.
Ночевали отец Василий с Гришей на подворье у архиерея, в людской. Иконой святого Алексия владыка остался доволен. Троекратно расцеловал юного изографа. Велел дождаться воскресенья и быть на освящении Кафедрального собора.
В праздничное утро по холодку архиерейский служка с отцом Василием повезли Григория на двухколёсной тележке на площадь. Вышли на Соборную улицу и… опешили с раскрытыми ртами. В торце улицы, на площади, сиял луковицами куполов чудной красоты храм.
Высоко в небе Григорий углядел трепетавшую на солнце стаю голубей. Вспомнилось, как при пожаре вились в дыму голуби, мать вспомнилась. Он запрокинул лицо, глазами, полными слёз, глядел на купола. Исстрадавшаяся душа его устремилась в сверкающую высь. Затрепетала голубиным крылышком и, омытая божественной любовью, прянула на место под новую сатиновую рубаху.
На площади и вокруг изножья собора плескалось людское море. Рассекая толпу, осетрами проплывали военные и полицейские чины в блеске белых мундиров. Высверкивали стёклами театральных биноклей чиновники и дамы в цветастых шляпках. Ржавой сазаньей чешуёй колыхалось золото цепочек и перстней на купцах и их жёнах. Стайками плотвы жались на стороны мещане.
Щурились на купола приплывшие из-за Волги безбровые углежеги, рыбаки с просмолёнными ветром и солнцем лицами, ватаги бурлаков и плотогонов. Выделялась из толпы красными сарафанами державшаяся на особицу мордва. Со всех сторон нёсся разноязыкий гомон приехавших как на ярмарку башкир, чувашей, татар, казаков, киргизов… Вскидывали головы, глядели на пылавшие золотом кресты. И когда над площадью разнёсся звон почти девятьсотпудового колокола «Благовест», отлитого в Москве, восторг и трепет охватил людей, хоть краешком души коснувшихся величия и славы Того, кто был некогда предан, распят и умер мученической смертью. Этот общий восторг полнил гришино сердце, когда его везли сквозь толпу к входу в собор.
Перед началом праздничной литургии Григорий сидел в своей тележке под сводами храма, у колонны, откуда хорошо была видна икона святого Алексия, митрополита Московского. Каждый штрих, мазок кисти на лике святого он помнил глазами и сердцем. Самые сокровенные движения своей души отобразил в иконе. За время написания сроднился с ней. Казалось, будто вместе с митрополитом ездил в Золотую Орду уговаривать жестокосердного хана не ходить войной на Русь. И будто не икону, а самого немощного митрополита вызволял из горевшей мастерской. Теперь же глаза святого Алексия смотрели на него издали, поверх голов, будто прощались. И как ни окорачивал себя Григорий, сердце опалялось ревностью.
С щемящим душу чувством углядел, как перед иконой остановилась худая, в белом платке женщина, её поддерживал за руку румяный гимназист. Она долго глядела на лик святого. Из её размытых тихим безумием глаз лились слёзы: «Прости меня, Христа ради…».
Среди множества людей, подходивших к иконе, Григорий обратил внимание на одетого с иголочки, в белом костюме и белых туфлях господина лет сорока пяти. Он повернулся к иконе боком, и Григорий видел стриженый чёрный затылок, тонкую с позолотой трость в смуглой руке. Неожиданно и быстро он опустился перед иконой святого на колени. Истово и долго молился, будто не замечая толпившихся вокруг людей.
Когда он встал и повернулся, Григорий аж вздрогнул. Белый господин был не кто иной, как тот самый цыган, оборотившийся в глазах селезнёвских мужиков суслем. По лицу его ручьями катились слёзы. Старуха-побирушка с белыми галочьими глазами приложилась к иконе святого и, когда проходила мимо Гриши, с поклоном положила в тележку копейку. Люди шли и шли, молились, целовали его икону. Полный любви и прощения взгляд святого Алексия, над которым он так долго и упорно бился, пробуждал в людях жажду покаяния. И уже не ревность, а радость полнили сердце молодого изографа. На душе делалось благостно и легко.
…Началась служба. Григорий с помощью отца Василия выпростался из тележки и встал на пол. Теперь он видел одни ноги впереди стоящих. Но благостная радость в сердце не улетучивалась. «Миром Господу помолимся!..», – раскатывался, улетал под купол бас дьякона.
И Гриша молился вместе с миром, беззвучно шевеля солёными от слёз губами.
23
Император забылся под утро. Светозарные крыла подхватили его и понесли ввысь. Каштаны, дворец, татарская деревня на берегу моря пропали. Пронзительно-синее море умизерилось до размеров ложки с водой. И тут дорогу ему преградили множество эфиопов. Лица их были темны, как сажа, а глаза горели, будто калёные угли. Одни ревели как быки, другие лаяли как псы, третьи выли как волки. При этом развивали свитки, на которых были написаны все злые дела его.
Душу Александра Третьего охватил трепет. Он в страхе отворотился от жутких эфиопов и увидел двух светоносных ангелов Божьих в образах юношей невыразимой красоты. Лица их сияли. Взоры были исполнены любви, одежда сверкала как молния. Император обрадовался. Они подошли к нему с правой стороны. Один из ангелов, оборотясь к тёмным, вскричал: «О, бесстыдные, проклятые, мрачные враги рода человеческого, зачем вы смущаете и устрашаете душу, разлучающуюся с телом?! Но не радуйтесь, здесь не найдёте ничего. Есть Божее милосердие к душе Помазанника Божьего. И нет вам в ней части жребия».
Когда ангел перестал говорить, эфиопы задвигались. Подняли клич и молву. Стали показывать злые дела императора, вспоминать о пяти повешенных, загибать пальцы, перечисляя грехи – гордыни, раздражения, чревоугодия…
Всё это они огромной кучей свалили на одну чашу весов. «Много грехов имеет эта душа, пусть отвечает нам», – скрежетали зубами эфиопы. Ангелы же принесли на плечах сияющий золотой крест, который нёс русский царь, и опустили на другую чашу весов. Тёмные взвыли…
…Весь в холодном поту, император закричал во сне. Он увидел, как в открытые двери, рыкая, будто лев, входит смерть. Она имела человеческое подобие, но без тела, из одних костей. Несла с собой мечи, стрелы, копья, серпы, пилы…
«Постой, – император тяжко, как бывает во сне, поднял руку. – Сын не готов управлять Россией. Дай мне ещё десять лет. Я вооружу его знаниями, передам опыт…». Смерть брякала костями, раскладывая по полу свои страшные орудия. «Ну год, всего один год, – молил император. – Ну хоть месяц…». «Неразумные слепцы, – скорготнула Смерть. – Я освобождаю ваши души из смрадных темниц тела, а вы хотите оставаться в них».
«Я куплю у тебя срок жизни», – император мучительно медленно дотянулся до шнура колокольчика. В двери устремилась толпа слуг. Одни сгибались под гнетом золотых слитков, другие держали пригоршни бриллиантов, третьи несли чудной красоты кубки, чаши, меха и всё это бросали к ногам Смерти. «Глупцы! – вскричала она. – Для меня это не более, чем остывшие угли».
Осердясь, император кликнул стражу. Над Смертью заплескались сизые клинки. В неё стреляли, кололи кинжалами. Смерть встряхнулась, и нападавшие полегли как осенняя листва. Тогда на смену воинам пришли старцы в чугунных веригах, бритые ламы, завёрнутые в красное, звездочёты, шаманы в ожерельях из рысьих и медвежьих клыков, индийские мудрецы. Они отпугивали Смерть молитвами, били в тулумбусы, жгли благовония, танцевали и кричали по-птичьи. Но и их она не убоялась. Подступила с секирой к самому изголовью, замахнулась. Но в тот самый миг со стоявшей в святом углу спальни иконы святого Александра Невского исторгнулся огненный меч, выбивший у Смерти секиру. «Негоже русскому православному государю оставлять земное царство без покаяния!» – раздался трубный глас, и государь… проснулся. Приходя в себя, вспомнил, как в детстве его духовный наставник читал о мытарствах души преподобной Феодоры, так похожих на увиденные сейчас.
– Саша, ты так страшно стонал во сне, – наклонилась к нему императрица. – Как себя чувству ешь?
– Ещё жив, но смерть уже являлась за мной. Приехавший в Ливадию Иоанн Кронштадтский в то же утро исповедовал и соборовал государя. Он же принял и последний вздох императора. Более часа держал в ладонях голову Александра Третьего, слушая стенания родных.
…Скорбный рёв орудий с военных кораблей на ялтинском рейде раскатился над морем, извещая о кончине государя. Заплескались над водой, заголосили тучи чаек. Дрогнуло пламя свечей в семейной церковке ливадийского дворца, отсверки волнами разошлись по золоту мундиров. Иоанн Кронштадтский рукой, ещё хранившей тепло царского лица, благословлял присягавших новому императору – двадцатишестилетнему Николаю Второму. Под траурным крепом белело лицо вдовы императрицы Марии Феодоровны. Когда она крестилась, колючие лучики бриллиантового перстня на её руке осыпали заплаканное лицо Алекс. Скорбь и растерянность лежали на лице юного царя. Он то и дело вскидывал глаза на невесту, и всякий раз сердце окатывало запретной радостью.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.