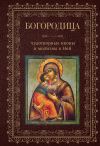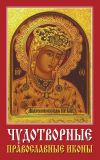Текст книги "Дар над бездной отчаяния"

Автор книги: Сергей Жигалов
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц)
Отца Василия скорёхонько позвали в епархию пред грозные очи владыки. Тот и явился с оказией. Иннокентий ожидал увидеть дородного Илью Муромца, а перед ним явился попик в измохрившей-ся по краям затрапезной рясе. Сухонький с лица, весёлый, кланяется в землю, но глядит смело. Этот прямой смелый взгляд ещё крепче ужесточил владыку.
– Почто в таком скорбном одеянии заявился? Разжалобить хочешь? – загремел он. – Попиваешь, небось?!
– Не грешен, владыко. И на святую Пасху окромя колодезной водицы ничего не употребляю.
– Ртов в семье много?
– Не сподобил Господь детками. Вдовец я.
– Почто в монахи не постригся?
– Духом слаб. Мир держит крепко.
– Приход бедный?
– Слава Богу, владыка, грех жаловаться, – моргал дитячьими глазками отец Василий. – Купола все три сызнова позолотили.
– Ну вот. Купола золотишь, а сам, как побирушка, ходишь.
– Прости, владыка, что прогневал тебя. Я низок-то у ряски подновлю, рукавчики обметаю, она и посвежеет, – бесстрашно и весело отвечал отец Василий. Владыкин гнев не впивался остями, а отскакивал от него, как горох. – Ведь Он, Милостивец, не в парче, а в рубище ходил.
– Кто Он и кто ты! Порфира не погубит и рубище не вознесёт.
– Не гневайся на моё скудоумие, владыка. Он пророчествовал: «…Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды?..».
– Умствуешь! – чёрные с серебром крылья бровей владыки совсем занавесили очи. – Каков поп, таков и приход. На тебя глядя и мужики в рваных зипунах в церковь заявятся. Неужто купцы бархату на рясу не подносили?
– Смилостивись, владыка, не неволь, – отец Василий так быстро поклонился, что седенькая гривка волос из-под скуфейки взметнулась и опала на плечо. – Бархат тот как плетень между мной и селом сплетётся. В этой ряске я и в курной избе свой. А то не найдут, куда посадить, приду так и буду стоймя стоять.
Секретарь архиерея, тихий, как тень, внимавший разговору, аж зажмурился от эдакой дерзости: «Щас он его испепелит на месте…».
– Погляжу, знатный ты спорщик, – разве селился вдруг владыка. – Изволь, брат, чайку со мной испить.
За столом спросту признался отец Василий, что к Рождеству задарил его купец Зарубин куском ратного бархата.
Но умолчал, как безлунной ночью таюшком подложил купеческий дар на порог горькому бедняку Ваньке Орешину как раз перед свадьбой одной из пяти его дочерей. Как наутро примчалась старая Орешиха, повалилась в ноги, благодарила. Он тогда прогнал её и смеялся вслух: «Нашла дурака бархат на порог кидать».
Владыка увещевал подать жалобу на его обидчика мировому судье:
– Чтобы неповадно было на священнослужителя руку подымать. Ишь, ланиту тебе иссёк. – Он всегда при разговоре о делах, его волнующих, переходил на старинный язык.
– Не ведал несчастный, что творил, пьянобесием уловленный. Простил я его, владыка. Покаялся он, слезами омыл.
– Отсёк бы тебе, как курице, голову, – опять опалился гневом владыка. – Знатный ты неслух. «Прости, прости», а сам в гордыни пребываешь, свою волю поперёд владыки ставишь. Негоже, от че… А мужики-то куда глядели?..
В рассказе о происшествии у Журавиных помянул отец Василий и Гришатку. Владыка заинтересовался склонностью мальца к рисованию более, чем раненным двуглавым орлом. Расспрашивал долго, въедливо.
– Чудится мне, знатный изограф из этого убогого может состояться, – метя широкими рукавами стол, сам подлил чаю гостю. – Пей. Мёд вон бери. Не затоптали бы только. Посадят христорадничать, так всю жизнь и просидит на паперти…
– Пока я жив, не бывать сему, – с порадовавшей владыку твёрдостью сказал отец Василий. – Краски вон ему купил, листы…
При прощании владыка поднёс отцу Василию кулёк листового чая и отрез доброго сукна, чем несказанно удивил своего тихого секретаря.
– Окормляй, как его звать-то… Григория. Бог даст, нерукотворные иконы писать постигнет. Езжай с Богом.
И совсем в дверях догнал его голос.
– Сукнецо-то, гляди, кому на порог не положи… Отец Василий от этих слов скраснелся поми дором.
Уже на улице выдохнул: «Ни одной душе ведь не сказывал… Орешиха небось растрезвонила. Видно, бывший благочинный донёс… Ладно, хоть про белену не проведал…».
11
Вся журавинская семья сгрудилась вокруг отца Василия, забывшего второпях отряхнуть с рясы дорожную пыль. Во все глаза глядели на нарядную фабричную коробку в руках гостя.
– Гостинец тебе, – присел перед Гришаткой на корточки отец Василий. – Догадался?
Крестник потупился от смущения.
– Господи, красота-то какая. – Арина как загребала жар в печи, так с чаплей[5]5
Кочерга.
[Закрыть] в руках и подошла к столу. – Чо ж там спрятано?
– Краски там, краски, – посунулся к столу сам Гришатка.
И всем, кто был в избе, погластилось, что вот сейчас он выпростает из-под рубахи ручонки и откроет коробку. Но он всего лишь лёг подбородком на столешницу и неотрывно жёг глазами гостинец. Отец Василий снял крышку – будто радуга по столу рассыпалась и на Гришаткином лице заиграла. В стеклянных баночках красными, зелёными, голубыми, жёлтыми… всполохами играли краски. Сбоку в желобке лежали кисточки.
– Вот так да-а! Эдакими красками и самого царя рисовать можно, – дёрнул кадыком от волне ния Никифор.
В избе сделалось тихо. Арина, Никифор, Данила, Афоня, Гераська и сам отец Василий во все глаза уставились на Гришатку. Его лицо светилось над выскобленной дожелта столешницей, будто пламя. И свет этот омывал их сердца неизъяснимой радостью. Арина утирала слёзы запачканной сажей ладонью, оставляя на лице чёрные полосы.
– Гля, мамака, – тыча в нее пальцем, засмеялся вдруг Афонька. Все повернули головы к Арине.
– Вы чо? – она провела ладошкой под носом, оставив чёрные усы. Громкий смех перепугал дремавшую под лавкой кошку. Она молнией шмыганула под печку, добавив веселья. Арина, зардевшись, как подросток, повернулась к осколку зеркала на стене, глянула и, закрыв лицо ладонями, выскочила на крыльцо. Заплескала водой…
Гришатка, откачнувшись от стола, непонимающе переводил глаза с одного лица на другое.
– Мать-то как стрелец с усами, чапля у её заместо ружья, – успокоившись, объяснил Никифор.
– Какой стрелец? – не понял Гришатка. Наперебой взялись объяснять. Вернулась Арина с чистым мокрым лицом.
– Кланяйся, Гришаня, отцу Василию в ноги, – она подошла к столу и поясно поклонилась сама. – Как жар-птица краски горят, того гляди избу подожгут.
Гришатка уткнулся лицом отцу Василию в колени, посапывал.
– Чай, дорого стоят. На олифе? – спросил Данила. – Провёл кисточкой по губам. – Беличья, а та вон, похоже, из колонка. Черенок-то больно тонкий – зубами держать.
– Не тонкий, – не поднимая головы, глухо, сквозь рясу, сказал Гришатка.
– Ты вот што, паря, – отец Василий погладил Гришатку по макушке. – Пошли завтра со мной за карасями. Удочку я тебе справил ладную.
– Ты чо, крёстный? Как же я рыбачить стану? – вскинул голову Гришатка.
– Хех, – плеснул руками отец Василий. – С Божьей помощью. Я видел, как ты на проулке кнутом хлопал. Чем кнутовище держал?
– Зубами!
– Ну и удилище зубами удержишь.
– Большой голавель нанижется, не вытяну.
– А я на что? – по-ребячьи удивился отец Василий. – Ты тянуть будешь, а я его подсаком поддену.
– Не пойду, – сухим полынком вспыхнул и угас юный рыболов.
– Испужался, карась в воду утянет?
– Несметлив ты, крёстный.
– Вот те на. Как так?
– Червя-то насадить на крючок я зубами не слажу.
– А я на что? Нанижу!
– Ну если так, – опять засиял глазёнками Гришатка, не веря свалившемуся на него двойно му счастью. – Не бойся, меня несть не придётся. Скорей тебя покачусь. Я с Афонькой наперегонки катался.
…На заре ещё пастух не проскакал на лошади в конец села, а он уже сидел у ворот на камне. Завидев отца Василия с удочками на плече, быстро покатился навстречу, аж роса на стороны полетела. У ног его счастливо вскинулся:
– А какая удочка моя? Эта, обструганная, с красной камышинкой?
– Бери, она лёгкая, – отец Василий в стареньком залатанном подряснике, босой, засмеялся как дитя малое.
– Леска-то крепкая? – обычно молчаливый, Гришатка не в силах был сдержать радость. – А ты струну из хвоста у кого дёргал – у жеребца или у кобылы? Афонька сказывал, у жеребца крепче… Из двух свил? Тогда и крупного выдержит…
Глядя на лучившегося радостью мальца, отец Василий смахнул рукавом слезинку умиления.
– Ты, крёстный, иди передом, а я за тобой покачусь. Ничуть не отстану.
– Ишь ты, хитрый какой, порожнем он покатится, а у меня полны руки: и удочки, и короб, и подсак. Помогай.
– А как я? – растерялся Гришатка. – Если короб мне в зубы, дык я всё наземь рассыплю…
– Лезь ко мне на загривок, бери в зубы короб, а я остальное понесу.
– Не бойся, не уроню. Я ведро с водой зубами подымаю, – успокоил отца Василия, Гришатка. – А озеро-то далеко?
– К вечеру дойдём.
– Сказывай. За весь день до города дойти можно.
…Мокрая трава холодила босые ступни. Затылком отец Василий чувствовал тёплый гришаткин животишко. На востоке за тёмными кучерявыми вётлами разгорался небесный костёр. Свет от него разливался всё выше. Закашляла, давясь, на лету кукушка, загуркотали в зарослях торна молодые вяхири. И когда макушки вётел пронизали первые лучи солнца, птицы, будто по мановению небесного дирижёра, разом взяли чудную и радостную ноту.
– Господи, – остановившись, в умилении прошептал отец Василий. – Внемли, Гришанька, чудо какое. Осанну поют новому дню. Господа Бога с любовью славят. Равно для всех это чудо – для богача и нищего, для царя и хлебопашца…
– А долго идти-то? – невнятно из-за зажатой в зубах ручки короба спросил Гришатка. – Давай слезу, а то уморишься.
– Пришли почти. На берегу из густого, в мужичий рост, камыша, напугав их, вымахнула голенастая седая цапля, заскорготала и сгинула меж деревьями.
– Гля, клюв-то у ней длиньше веретена. Как долбанёт, так наскрозь, – поражённо выдохнул Гришатка в ухо отцу Василию.
Тот спустил малого наземь, прижал палец к губам.
– Тише. Щас кашицей прикормим, – швырнул горсть в чистый прогал меж кувшинками. Наживил червя. Забросил и гришаткину удочку. Удилище же положил перед ним на две высоких, по грудь, рогатульки. Пока снаряжал другую удочку, красный поплавок-камышинка вдруг торчком встал на воде. Гришатка скорёхонько нагнулся, закусил зубами удилище, замер.
– Жди, жди, пока поведёт, – шептал отец Василий. – Не торопись, я скажу, когда подсекать. Поплавок подрожал и лёг плашмя. Гришатка, не выпуская изо рта удилище, скосил глаза на отца Василия, немо вопрошая. И тут поплавок нырнул.
Сквозь чистую воду было видно, как неведомая сила волочёт его под кувшинки.
– С Богом! Тяни, – сглотнул комок отец Василий.
Гришатка выпрямился, повёл в сторону головой вместе с закушенным удилищем в зубах. Томительно долго тянулась из воды леса. Гришатка, пятясь, оскользнулся, но челюстей не разжал. На поверхность, будто из расколовшегося зеркала, вывернулся сковородистый карась. Гришатка, лёжа на боку и запрокидывая голову, вытянул добычу на берег. Карась медным лаптем, сбивая росу, запрыгал по траве.
– Крёстный, скорей, а то ускачет. Саком, саком его накрывай, – отплюнув удилище, закричал Гришатка. – Лобан какой! Уйдёт!
– У нас не уйдет, – отец Василий схватил рыбину под жабры, отбросил подальше от воды. Опять наладил гришаткину удочку.
…Солнечные лучи поверх верхушек вётел упали в озеро. Медвяно-жёлтым пламенем полыхнули по воде бутоны кувшинок, белыми фонтанчиками подпрыгнули лилии. Гришатка, разинув рот, глядел на это божественное чудо. По грязному его лицу с налипшей на щеке травинкой скользили от воды светозарные блики. Поплавок давно ушёл под воду, дергалось на рогатульках удилище, но он не замечал. Отец Василий тихонько перекрестил его: «Господи, вразуми раба Твоего Григория. Просвети его ум светом разума Твоего и настави на стезю заповедей Твоих…».
Высоко над озером ходил в небе двуглавый орёл. Цепким зраком выглядывал, но и двумя головами не в силах был разгадать, какие диковинные в золотой чешуе звери подпрыгивают в траве.
12
Зиму и лето ходил в небе двуглавый орёл, озирая свои владения, то занесённые белым снегом, то все в воде и в цвету. Но скорее орлиного крыла летело время. Подрастали Гришатка с Афонькой.
– Гриш, погляди, – Афонька держал в руках дощечку в две мужичьих ладони. – Гриш, глянь, обрадуешься. А тот, стоя, склонялся над столом, будто и не слышал вовсе. Перед ним лист бумаги, в зубах кисть. В мастерской копился в углах ранний зимний сумрак. Угловое, дальнее от печки, окно прорастало игольчатым инеем. Отсветы печного пламени прыгали по стенам, отблёскивали на развешенных на просушку свежеписаных иконах.
– Гляди, – Афонька положил дощечку рядом с листом. – Помнишь, у нас на погребке раненый двуглавый орёл жил? Тетяка привез, а ты его нарисовал. Чудно так. Глянь, головы вот, лапы крючьями. Лет десять уже прошло… Гриша и глазом не ведёт, обижен. Днём Афонька увихрился из церковно-приходской школы и ему пришлось добираться самому. Где ковылял, где катма катился по снегу.
– Тебе тогда лет пять было, – мелким бесом вился вокруг него Афоня. – Нам бы с тобой, как этому орлу, одно тулово и две головы.
– Чтоб тебе меня на себе не таскать, – не разжимая зубов, откликнулся Гришатка.
Ты бы моей голове на уроках всё подсказывал.
– А кто бы из вас ел? – спросил лузгавший на полатьях семечки Гераська. – Брюхо-то одно…
– Оба бы ели. Две руки, две ложки. Правда, Гриш? – лисился Афоня. – А Жития сегодня будем читать?
– Сам читай.
– Я же токо по складам, ты в тыщу раз скорее читаешь.
– Там листы корявые, вчерась язык натёр, переворачивая, – Гришатка положил карандаш. Не умел он долго обижаться. – А мамака свечку даст?
– Огарок с того раза остался, – обрадовался Афоня. – Листы я тебе буду переворачивать. На чём в тот раз остановились? Про татар?
– Беспамятные. Премудрого Епифания читали о Сергии Радонежском, – отозвался с печи всю неделю мучавшийся поясницей Данила. – Лезьте сюда, да не толкайтесь.
Первым делом подсадили на печь Гришатку. Из старых валенок спроворили подставу для свечи. Угнездились, притихли.
– Читай, Гриш, погромче, чтоб Данила не чокал, – велел Афоня. – Гераська, не возись, свечу повалишь.
– «…Стойкая и святая душа его мужественно всё вдали от лица человеческого, прилежно и непорочно хранила устав жизни иноческого, беспорочно, не спотыкаясь и оставаясь чистой, – читал Гришатка. Язычок свечи, колеблемый дыханием, освещал желтоватую страницу. – «…коленопреклоненно частые, голод, жажду, лежание на земле, нищету духовную, скудость во всём, во всём недостаток: что ни назовёшь – того не было. Ко всему же этому прибавлялась борьба с бесами, видимые и невидимые с ними сражения, борьба, столкновения, устрашения демонов, дьявольские наваждения, страшилища пустыни, неизвестных бед ожидание, нападения зверей и их свирепые поползновения. Но, несмотря на всё это, и при всём том, бесстрашен был Сергий и смел сердцем, и ум его не ужасался перед такими вражескими кознями и лютыми нападениями, и устремлениями: Многие тогда звери часто приходили к нему не только ночью, но и днём; а были эти звери – стаи волков, которые выли и ревели, а иногда и медведи…»
Мог ли летописец, премудрый Епифаний, предугадать, что столетия спустя трое крестьянских ребят зимой на печи будут читать описанное им житие чудотворца Сергия Радонежского? И под вой ветра в трубе представлять, как вываливался из чащи к дверям кельи огромный в клочьях шерсти аркуда-медведь. Хрустел снегом, взрыкивал злобно… Вспугнутый скрипом двери, скрывался в чащобе. Выходил за порог преподобный Сергий, неулыбчивый, «северный духом», со впалыми щеками и ясным тихим взглядом. Клал на пень краюху хлеба…
– «Аркуда привык и приходил каждый день, – читал Гришатка – Когда же не хватало хлеба, медведь, не найдя дани, не уходил, упорствуя, как некий жестокий заимодавец, желающий получить долг свой. И, если у святого был хотя бы один кусок хлеба, то он его зверю бросал, а сам предпочитал не есть в тот день, нежели зверя этого обмануть».
– Последний кусок? По башке бы топором, – завозился в углу Гераська. – Медвежатины бы одному ему до весны хватило. А из шкуры бы шубу сшил.
– Ага, с топором… Ведьмедь бы его всего изломал, – хмыкнул Афонька, – у него когтищи-то!
– Разве он мог убить? Вы что! Он же святой был, – подал голос весь вечер молчавший Данила. – Он, ребята, и зверям, и людям угождал. Читай далее. «Когда пришли другие монахи и рядом кельи срубили, он им помогал. Воду в двух вёдрах на плечах в гору носил и каждому у кельи ставил. И дрова из леса приносил, колол и тоже по кельям раздавал. Зерно каменными ручными жерновами размалывал. Хлеб пёк, обувь и одежду шил… И всё без лености братии, как раб служил. Уж игуменом был. Дайкось я сяду, все бока отлежал, – Данила долго кряхтел, угнезживался, потом продолжил рассказ. – Пришёл раз хрестьянин повидать святого. Иди, говорят ему, в огороде он. Пришёл, глядь, какой-то инок на грядках швыряется, разумши, одёжа рваная, с заплатками. Хрестьянин монахам стал пенять: «Я пророка пришёл увидеть, а вы глумитесь надо мной, какого-то сироту в лохмотьях показали, – Данила, входя в роль, голосом изобразил речь крестьянина. – Святой Сергий в чести и славе пребывает. В золочёных одеждах и многие слуги. и рабы ему честь воздают. А на этом простеце всё бедное, сиротское. Не он это», – говорит монахам хрестьянин. Хотели тогда монахи его из монастыря гнать, но святой Сергий сам подошёл к хрестьянину, поклонился ему до земли, поцеловал и посадил справа от себя. Кормил и поил его с честью. А хрестьянин все печалился: «Сергия хотел увидеть, но вот не исполнилось желание моё», – чужим голосом, подражая воображаемому крестьянину, говорил Данила. На этот раз засмеялся и Гришатка. Рассказчик укорил его взглядом: – А Сергий ему говорит: «Не печалуйся, странник, что ищешь и чего желаешь – тот час даст тебе Бог». И токо он так сказал, загудела земля от тысяч копыт, и подошёл к монастырю великий князь с войском в несказанной гордости и славе. Вокруг его бояре, воеводы, отроки. Телохранители взяли этого хрестьянина своими руками за плечи и далеко отбросили от лица князя и Сергия. И князь, весь в золотых доспехах и парче, до земли поклонился сироте в лохмотьях. И тот благословил его, и поцеловались они», – голос Данилы осип от волнения. – «И сели вдвоём только, а все стояли. И когда князь уехал, упал тот хрестьянин святому Сергию в ноги: «Отче, прости мя за все мои нечестия и прегрешения. Теперь я что о тебе слышал, то и увидел». И Сергий благословил и утешил его. И тот хрестьянин после постригся в монахи. Вот, ребята», – Данила закряхтел, опять укладываясь. – «Никогда бедному человеку или побирушке обиды не чините. Может, это ангел Господень человеческий облик принял и ходит по дворам… Читай, Гришатка, далее».
…Крылатилась над селом, над степью, над лесами, реками и озёрами долгая декабрьская ночь. Трепала белым летучим подолом низовая позёмка, с воем шваркала в окна снегом, и подпевали ей обмёрзлые белые в лунном свете волчьи стаи. Злым огнём полыхали их голодные глаза. Сквозь пургу и темень многих столетий со слезящимся восковым огарком шёл по следам жития святого Сергия убогий отрок, вёл за собой диких душой товарищей. И с душевным трепетом и восторгом зрели они во время служения божественной литургии рядом с Сергием ангелоподобного и чудесного мужа. И сияло, как солнце, лицо его, так что бывший в церкви молчальник Исакий не мог на него смотреть. Одежды же его необычны – чудные, блистательные, а на них узор злато-струганный видится.
По окончании литургии святой Сергий открылся ученикам: «Тот, кого вы видели, – ангел Господень; и не только сегодня, но и всегда по воле Божьей служу с ним я, недостойный…».
Горела свеча. И не метель шуршала по окнам, лебеди крыльями заплескали: «Нет, то не гуси загоготали и не лебеди крыльями заплескали: то поганый Мамай пришёл на русскую землю и воинов своих привёл». Святой Сергий в Лавре служит молебен, благословляющий князя Дмитрия с князем Серпуховским Владимиром, князьями других областей и воеводами на битву с Мамаем. На прощанье князь Дмитрий опустился на колени, и Сергий осенил его крестом: «Иди, не бойся. Бог тебе поможет». И, наклоняясь, шепнул на ухо: «Ты победишь». И будто не на печи, а там они, на осеннем поле Куликовом, вместе со своими далёкими предками. И часто-часто бьются их сердчишки под золочёными доспехами при виде тёмных мамаевых ратей. «А уж соколы и кречеты, и белозёрские ястребы рвутся с золотых колодок из каменного города Москвы, обрывают шёлковые путы, взвиваясь под синие небеса, звеня золочёными колокольчиками на быстром Дону…
За Дон скоро перелетели и ударили по несметным стадам гусиным и лебединым. То ведь не соколы и не кречеты – то обрушились русские князья на силу татарскую. И ударили копья калёные о доспехи татарские, загремели мечи булатные о шлемы хановские на поле Куликовом, на речке Непрядве…»
– Откуда же святой Сергий заранее знал, что князь Дмитрий победит Мамая? И не видя битвы воочию, за убиенных молился. От монастыря до Куликова поля сто вёрст было или двести. Как он видел? – вопрошает Афоня, глядит на отблёскивающую в сумраке лысину Данилы.
– Ясновидящий он был, – говорит Данила, – святой. Горний огонь к нему с небес нисходил. И он мог видеть и что было, и что будет.
– Мне бы так, – засмеялся Гераська, – как узнал бы, что тятя меня пороть собрался, я бы убёг.
– Судьба, ребята, – не кнут отцовский. Кнут не мучит, а добру учит, – отозвался Данила. – Гришатка вон. Вроде как обижен, рук-ног нету, а счастливее всех нас. Господь ему дал великий дар художества.
– А руки-ноги пошто отнял? – встрял Афонька. – Ходить-то на культях вон как солоно.
– Крест ему такой Господь дал. В скорбях, ребя та, душа высветляется…
– Полегше бы, – подражая матери, с пристоном вздохнул Афоня. Повернулся к Гришатке. – Чо молчишь?
– А чо говорить-то?
– Один человек, – прокашлялся Данила, – нёс по жизни свой крест. И он ему тяжёлым показался. Он возьми его и отпили. Легко стало. С тех пор по жизни шёл вприпрыжку. И раз подошёл к страшу-чей бездонной пропасти. Ни мостика, ни верёвки… Другой человек свой крест положил и по нему через пропасть перешёл. А этот свой подпиленный положил, – чуть до краешков достаёт. Пошёл через пропасть, а край-то возьми и осыпься. Он сорвался в пропасть, косточки себе все поразбил».
– А не укорачивал бы, цел остался, – сказал Афоня. – Правда, Гриш?
Тот отмолчался. Чувствовал, что Данила рассказал эту притчу для него. Вспомнил, как ещё маленьким укатился в лес, белены наесться: «Совсем от креста своего отказаться хотел… Ангел-хранитель не попустил…».
13
Короток зимний день, будто воробьиный скок на морозе. В Рождественский пост Журавины говели. Не особо строго. Картошку с постным маслицем толкли, рыбкой баловались. Данила же капусткой квашеной, без масла, да сухариками себя питал, строжился. Писал он в те поры для купца Зарубина на заказ большую икону Николая Чудотворца, а Никифор ладил для неё серебряный оклад. Афонька с Гераськой и рады, что не до них. Приноровились на берегу Самарки в лозняке, где капустники, петли на зайцев ставить. Чуть развиднеется – на лыжи и петли проверять. Так на реке целый день и катаются, пока не обмёрзнут.
Гриша зимой по снегу ходок никудышный. Разве с отцом на лошади, или Афоня смилостивится – на санках свезёт на Яшкову гору покататься.
Он всё больше рисовал за столом. Коротким карандашиком по листу чиркал. Арина на цыпочках сзади подойдёт, рот ладошкой прикроет, глядит. Глядит и всё равно не стерпит:
– Господи, вылитый отец Василий в новой рясе.
– А как ты догадалась, что в новой?
– Старенькая-то у него намного короче, а эта снег метёт, – чмокала сына в макушку, отходила к своим чугунам да кочерёжкам. – Сподобил Господь. Одно отнял, другое дал.
Скок-скок зимний денёк да под застреху и упрыгал. Ночь навалится, спать уморишься. Как-то ближе под утро разбудила Арина Никифора.
– Никиш, выйди, глянь. Будто корова помыкивает. Уж не отелилась ли.
– Считали же, после Рождества срок. – Идти из тепла на мороз, кому доведись, нерадостно.
– А ну как обманулись? Морозяка какой, телёнка, не дай Бог, заморозим.
Вышел Никифор на крыльцо. Луна над трубой серебряным блином повисла, будто погреться дымом пришла. Светлынь, хоть иголки считай. Глядь, на крыше овчарни тёмный зверь. Уши торчком, из пасти пар. Зелёным пламенем из глаз полыхнул на Никифора и пропал. Он мужик не робкого десятка, а тут попятился. Побёг в мастерскую, Данилу с печи стащил. Оделись, вилы взяли – и к овчарне. Глядь, в крыше солома разрыта и следы волчьи. Ладно, корова учуяла, мычать стала, а то бы всех овец порезали. По следам определили, стая голов в десять наведалась. В те времена волки крепко крестьян обижали. За зиму дворах в двадцати овец, а то и телят почекрыжили. Разговлялись свежатинкой, окаянные. На дорогах в степи разбойничали. Ночью конных, кто в одиночку припозднился, встречали. С упряжью лошадей разрывали на части.
В стужу приспело и Рождество Христово. Не у одной ребятни щёки румяные. У солнца зимнего лик на закате от лютого мороза красный. Стёпка-пономарь на колокольне в колокола наяривал, щеку отморозил. Отец Василий после праздничной ночной службы поостерёг православных:
– Винцом-то братья и сёстры поаккуратнее разговляйтесь. Не упивайтесь до потери облика человеческого. Не радуйте бесов. Когда вы упиваетесь, они у вас за спиной, невидимые, копытами и когтями от радости топочут, козни строят, как ловчее душу православную загубить. Не радуйте демонов пьянства, а радуйте смирением ангелов-хранителей своих…
После обедни отец Василий дотемна ходил по дворам, беседовал, увещевал. И всё одно, к ночи в разных концах села выплёскивались на улицы брань, бабий визг. Упившийся до помрачения ума Филяка, босой, в одной рубахе, вывалился из избы на снег. Привиделось ему, будто на плетне сидит бес и рожи ему строит. Выворотил из саней оглоблю и обрушил демона наземь. Тот оборотился свиньей, но и в животном обличье не спасся от оглобли. На другой день аника-воин нашёл под плетнём окаменевших за ночь на морозе петуха и подсвинка, из коих собственноручно вышиб дух… Запечалился.
…В то самое утро затемно Никифор с Данилой, загрузив в лёгкие санки три десятка икон-краснушек, наладились в Самару. Гриша упросил отца взять его тоже. Холёная, любимая домовым, кобылица Лизка хорошей рысью несла санки по улице. Гриша выглядывал из высокого воротника овчинного тулупа, чувствуя боком сквозь ткань горячие лепёшки. За селом по степи он будто плыл по белым волнам, проваливался в дрёму.
– Не спи, замёрзнешь, – тормошил его Данила. Отец правил лошадью, Данила вместе с Гришаткой лежал на соломе в задке саней. Кругом снега. На буграх пушился инеем ковыль. Часовыми торчали вдоль дороги длинные, с почернелыми головками будылья татарника. Ледяное дыхание зимы обжи гало лицо, заползало под тулуп. Но вот выдралось из туч солнце. И вмиг степь до горизонта занялась радостным сиянием. Будто кинулась навстречу лучам, предчувствуя весну. Данила растолкал за дремавшего Гришатку. Тот лупнул глазами и тут же зажмурился. Заплясали под веками разноцветные светляки.
– Гляди, Гришатка, всего одну белую краску взял Вседержитель, и какую чудную картину изобразил, – гудел над ухом Данила. – Вон, на холмах, ковыль в инее на ветру качается, будто кто солнечными иглами светозарное полотно сшивает. А вон, за оврагом, на бугру ангелы над снегами летают.
– Где?
– Во-о-н, белые.
– Это позёмка.
– Сам ты позёмка. Вон один крыла распростал, вьётся, а поодаль другой.
– Друг за дружкой, в догонялки играют, греются, – засмеялся Гришатка.
– А вон по полынку бриллианты сверкают. Иди в рукавицу набери.
– Забыл ты, что ли, рук-то у меня нет.
– Губами наберёшь. – улыбался Данила. – Завтра в Самаре купцам продадим, пряников на купим…
Никифор дёргал вожжами, супился. В последнее время замечал он, что Гришатка всё больше к Даниле льнул, приглядывался, как тот иконы пишет. Обидно делалось. А как скажешь? Вдруг дверью хлопнет. На нём весь промысел держится. Да и Гришатку ремеслу учит с душой. «Бог его послал, а я, грешник, ещё недоволен», – окорачивал себя Никифор. – Данила, а Данила, на мой тулуп, а то зазябнешь.
– Так солнце же, – отвечал Данила.
Гришатке отчего-то сделалось радостно-прерадостно. Чудо божественное. Прав Данила. Одна краска белая, а всё ею Вседержитель изобразил: и снега, и лучи сквозь тучи, и вихри над снегами, похожие на ангелов парящих…
Ночевали на постоялом дворе при дороге. Спать уж собрались ложиться, как завалились в избу три цыгана. Чёрные, в лохматых шубах, без шапок, кучерявые, страшные. Смеются, головами трясут, как кони. Стол вином, закусками уставили. По-своему гуркочут. А к Никифору с Данилой по-русски:
– Садитесь, братья, радость с нами обмоете. Вон он у князя в городе трёх рысаков в карты вы играл, да ему же их назад и продал.
Гришатка в углу прижух, глядит, не сморгнёт, на седого с золотой серьгой в ухе цыгана, что князя так люто обыграл.
– Выпей за мою удачу, дядя, не побрезгуй. От чистого сердца угощаю, – приступал цыган к отцу, сверкал белками глаз в красных прожилках. – Я у князя ещё и кобылку выиграл. Знатная лошадь. Бежит – земля дрожит, упадёт – три дня лежит. Давай, дядя, на твою гнедую поменяем. Я за неё в додачу бабушку свою отдам. На метле летает, как птица, смерть её боится. Умеет ворожить, кому сколько жить. На ступе катается, на свист отзыва ется… Ха-ха. Давай, дядя, выпей. Ты, голова ясная, нами не побрегуй. Мы тоже православные, – при стал цыган и к Даниле. Гришатка, обмирая внутри, глядел, как и отец, и Данила пьют вино и на глазах хмелеют. Золотой полумесяц серьги мотался в ухе цыгана, нырял за воротник распахнутой шубы, как в тучу, опять взблёскивал. Угревшись, Гришатка задремал. Очнулся он, как в бок кто толкнул. В из бе было тихо. Луна в окнах освещала храпевшего за столом отца. Данила, раскинув руки до полу, спал рядом на лавке. Со двора долетали скрип снега, фырканье лошадей. Гришатку, как варом, обожгло. Он выпростался из полушубка, не помнил, как очутился снаружи. Цыгане запрягали Лизку в сани. Учуяв Гришатку, кобыла жалостно заржала, одноухий цыган шлёпнул её по крупу ладонью.
– Почто чужое трогаете? – ровно выговорил Гришатка.
Цыгане завертели головами, не понимая, откуда голос. Цыган с жёлтой серьгой первым увидел мальчика. Присел перед ним на корточки. Впился глазами в лицо. Гришатка почуял, будто его туманом тёплым обволакивает, веки тяжёлые сделались. Но глаз от цыганова взгляда не увёл. Привиделось, у того вокруг головы заметались багровые всполохи, то пригаснут, то пуще расходятся. И весь он лицом напружился, глаза выпучил, жила на лбу набрякла, будто неподъёмный жернов хотел от земли оторвать и Гришатку им задавить. Так они взглядами брань вели, пока у цыгана из ноздрей чёрная кровь не засочилась. Распрямился он тогда, гаркнул тем двум по-своему. Кинулись они к тройке и, как чёрный вихрь, со двора улетели. Гришатка стоял, чувствуя, как в глазах углём горит тяжкий цыганский взгляд. Зубами рассупонил хомут, чувствуя на губах мёрзлый сыромятный ремень, кое-как распряг Лизку. Вернулся в избу. Отец и Данила храпели наперегонки. Гриша угнездился на полу около печки, зубами натянул на себя полушубок и скоро заснул, как засыпает человек после тяжких трудов. Наутро, чуть рассвело, хозяин принёс самовар. На расспросы, куда делись цыгане, отвечал обрывисто:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.