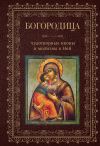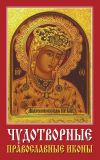Текст книги "Дар над бездной отчаяния"

Автор книги: Сергей Жигалов
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц)
– Черти их ночью унесли. Нехристь, чародей, сунул заместо денег плоские бумажки. А я им пол тину сдачи серебром отсчитал.
Гриша потрогал щёку, куда поцеловал цыган, и промолчал.
…Самара заставила Гришу рот раскрыть и не захлопывать. Дома высоченные, друг на дружку по два, а то и по три поставлены и не падают. Народу на улицах, как в церкви на праздник. Не молятся, не работают, знай туда-сюда мотаются. Мужики со здоровенными, будто у курдючных овец, задами, на узорчатых санках скачут. На спинах бляхи с номерами блестят. Один кнутом на них намирнулся, но не хлыстнул, пожалел. По лицу отца Гришатка видел, что тот тоже сбился с панталыку. Данила ему дорогу указывал. Гришатке объяснил, что такие огромные смешные зады извозчики сооружают себе навроде щитов. Когда седок вдруг рассерчает, тросточкой, а то и сапогом в зад наподдаст, ему и не больно, и от холода оберегают. На ярмарку заехали, как в кипучий котёл окунулись.
Стали с краю. Рядом красноносые мужики в армяках, кадки, жбаны, деревянные бадьи продавали. Гришу цвет подивил: из липы – кипенно-белые, а из сосны – желтоватые, на снегу свечами горят. Никифор с Данилой застелили солому чистой холстиной, разложили иконы. Люди подходили, крестились, разглядывали. Никифор не вытер-пливал, сердился:
– Ну, што ты её крутишь-вертишь, это не сковорода тебе, а образ Божий. Брать так бери, а не брать, иди с Богом, – голова с цыганского угощенья была, как чужая: отрубить да собакам бросить. Данила посмеивался, хлопал рукавицами. Бойкий старичок в белых валенках с перевязанной платком щекой все исхитрялся отколупнуть ногтем краску на уголке иконы.
– Ты, дед, на зуб, на зуб попытай, – серчал Никифор. – Доковыряешься, Микола-угодник – строгий святой, накажет, что ты ему покров нарушаешь.
– Ты не смейся, мил человек. Отвечай по чести, сам ты эту икону списывал или не сам?
– Не пишу я, только оклады кую, – присмирел от твёрдых глаз и властного тона старичка Никифор. – Данила вон писал.
– А эту вот?
– Эту Гришатка писал. А что? Старик оглядел кургузую фигурку малого:
– Руку, какой писал, покажи мне.
– А я от роду без ног, без рук, – вскинув лицо, просто отвечал Гришатка.
– Неужто зубами? – хлопнул себя по бокам старичок. – А до скольких разов плавь наводишь?
– Когда тепло – три, а зимой два раза всего.
– Сохнет долго, – старичок как-то весь вздыбился, раскраснелся. – Сколь ты за неё просишь?
– Не знаю, вон батяка.
– Держи против его две цены. Дивны дела твои, Господи. Нерукотворного Спаса нерукотворно писать. Вы сами-то откуда?
– Из Селезнёвки, селезнёвские мы, Бузулуцкого уезда, слыхал?
– Ты, мил человек, – оборотился старичок к Никифору, – послушай, что скажу. Ему от Бога чудный дар даден и терпенье. Ты должон в нем этот дар науками, как икону серебряным окладом, оттенить. И я тебе в этом деле помощник. Зять младшей дочери моей начальником гимназии служит. Я тебя с ним сведу, чтоб малый твой обученье получил. Тебе, Гриша, сколько годков-то? Девятнадцать скоро? В самый раз. Писать, считать, говоришь, умеешь… Орёл! А с иконами, ребята, вы не тут встали. С иконами след около церкви стоять, а не на торжище, где скот разный, голубей продают и где менялы меняют. Старичок растолковал Даниле, как его найти, и на другой день, забрав Афанасия Никитовича, так величали старичка, из большого дома с резным крыльцом, они поехали в гимназию. Старичок с завязанной щекой оборотился эдаким козырем в чёрной длинной шинели с медными пуговицами и бобровым воротником. В шапке меховой, высокой. Никифор весь забрусневел, вспомнив, как дерзил ему вчера.
В гимназии, двухэтажном, красного кирпича, здании, Никифор занёс Гришу по лестнице на второй этаж. Директор, Алексей Иванович, молодой, румяный, в форме, сам похожий на гимназиста, встретил их радостно. В кабинетике-боковушке потчевал чаем. Выпытывал у Гриши, кто его писать-читать учил. Тот, осмелев, слова премудрейшего Епифания Сергию Радонежскому наизусть говорить стал: «Тайну царскую следует хранить, а дела Божьи проповедовать похвально: ибо не хранить царской тайны – пагубно и опасно, а молчать о делах Божьих славных – беду душе наносить. Поэтому и я боюсь молчать о делах Божьих, вспоминая мучения известного раба, получившего от господина талант и в землю его зарывшего…».
Тут Афанасий Никитович по-молодому порывисто вскочил со стула и расцеловал Гришу в щёки. Директор велел принести из библиотеки книгу с текстом жития и устроил экзамен.
«Жил недалеко от лавры преподобного отца нашего один вельможа на реке, называющейся Волга, – читал директор и останавливался. – А далее?»
– «Этот самый вельможа от беса мучился жестоко, непрестанно, днём и ночью, так что он даже железные пута разрывал, – по памяти, как по-писаному, продолжал Гришатка. – И ничем его не могли удержать, даже десять или более мужчин крепких…».
Директор следил по строкам, удовлетворённо кивал, останавливал движением руки, читал: «Когда привели его в монастырь, преподобный вышел из церкви, неся крест в руке. Когда же он перекрестил его, безумный зарычал громким голосом и отскочил от места того». «А около того места была вода, после дождя собравшаяся; увидев её, больной бросился в неё, воскликнув:
«Какое мучение от пламени этого страшного, – ясно, без запинки пересказывал Гриша. – … тогда я увидел пламя огромное, из креста исходящее, которое всего меня окружило. Тогда я бросился в воду: ведь я думал, что сгорю от пламени этого…»
Отложив «Жития», директор взял с полки книгу В. И. Даля «О поверьях, суеверьях и предрассудках…». Открыл и велел Гришатке прочесть страницу, а потом пересказать. И опять тот ясно и внятно пересказал. В одном месте запнулся, слова «по ндраву» не запомнил…
Договорились, что Грише составят программу занятий, выдадут учебники. Раз в три месяца отец будет его привозить и он будет сдавать экзамены экстерном.
– Какие люди есть на свете, – умилялся Никифор. – А мы этого старичка, как тот крестьянин из жития Сергия, не признали, невежничали с ним, серчали, – сокрушался радостный Никифор. – Гришатка-то, стервец, на память, как по-писаному… Ну, парень, не зря ты так рвался в Самару. Вон как твоё дело взыграло…
Так, за разговорами, возвращались они домой. И чуять не чуяли, какая на них надвигается беда. Вёрст десять оставалось до дому, когда вдруг поползли им встречь рыхлые снеговые тучи, взялась степь позёмкой, снег повалил. Гриша дремал, будто медвежонок в тёплой берлоге, завернутый сверху в отцовский овчинный тулуп. В памяти являлись картины встречи в гимназии. Вспоминалась бронзовая скульптура: могучий старик с белой бородой. Директор назвал его по-чудному, Лаокооном, и двое прекрасных юношей, его сыновей, борются со змеями. Мука и отчаяние с лица Лаокоона на скульптуре будто перетекли в сердце к Гришатке. И теперь, лёжа в санях, он больше, чем тогда, при виде скульптуры, ощущал отчаяние отца, на глазах которого змеи обвивали, губили его сыновей. Будто это происходило на берегу Самарки у него на глазах. И всё новые змеи бессчётно ползли на берег в космах зелёной тины и обвивали несчастных.
Когда он очнулся и выглянул из своей овчинной берлоги, в глаза сыпануло снегом. Показалось, будто они вместе с лошадью и санями ушли на дно ледяной пучины и продолжают ехать среди колышущихся в белесой мешавени призрачных чудищ. А те шипели, выли и норовили опутать своими ледяными хвостами, как на той страшной скульптуре. Никифор подложил вожжи под себя и доверился Лизкиному чутью. На гриве и на челке у лошади намёрзли комья обледенелого снега. Она, кособочась, долго шла на ветер, но, измёрзнув, незаметно для седоков, повернула под ветер и, по самое брюхо увязнув в снегу, встала, понурив голову. Никифор рукавицей смахнул снег с лошадиной морды, с опавших Лизкиных боков, накрыл её попоной. Сам сел в сани, прикрыв от ветра Гришатку.
Прошёл час, а может, и два. Сани и их самих с головами заровняло снегом. Гришатка очнулся оттого, что сделалось трудно дышать.
– Бать, а бать, очнись, – позвал он. И отец, и Данила спали с прихрапом. Насилу растолкал.
– Вот так и замерзают, – выгребаясь наверх, сокрушался Никифор. – Лизка-то, гля, по самую холку.
Снегопад перестал. Мело понизу. Куда ни глянь, плясали по сугробам белые змейки, глазу зацепиться не за что. С трудами вызволили сани с лошадью из овражка. А куда ехать-то?
Договорились, что Никифор пеший пойдёт искать дорогу, а Гришатка с Данилой останутся ждать тут, в санях. Ветер стих. Бредущего по снегу Никифора скоро поглотила позёмка. Данила потоптался, потоптался вокруг саней. Углядел вдали тёмную полосу. Достал из соломы топор:
– А ну как ночевать тут придётся. Вроде, как дерева чернеются. Дровец насеку. Не спи, ворочайся, а то замёрзнешь. – И тоже убрёл. Гришатка пригрелся под тулупом, задремал. Очнулся от сильных толчков. Лизка бешеным намётом скакала по сугробам. Сани взмётывались на снежных гребнях, ныряли. Гришатка проморгался и обомлел: по бокам от саней, вытянув вострые морды, стлались над сугробами серые худые звери. Из разинутых пастей клубками катился пар.
– Батяка-а-а, волки! – не помня себя, закричал Гришатка. – Данила-а-а, волки!
Звери шарахнулись от человечьего голоса на стороны. Лизка, проскакав метров двести, встала, часто понося боками. Стая окружила лошадь с санями. Напрасно Гришатка, поднявшись столбиком, выглядывал отца или Данилу. Волки, лобастые, худорёбрые, сверкая голодными глазами, подступали всё ближе. Лизка храпела, била копытами в оглобли. Гришатка углядел в соломе кнут. Лёг на бок, зубами закусил кнутовище. Волки были уже метрах в пяти. Отбегали, садились в снег.
– Пошли отсель, окаянные! – Гришатка мот нул головой, чтобы громко хлопнуть. Но помешала шуба, нахвостник змейкой вильнул по снегу. Самый близкий зверь отпрыгнул, зарычал.
– Батяка, Данила, выручайте, волки! – Зеленоватые глаза промеж широких серых лбов сыпали злыми голодными искрами, обступали. Лизка раздувала ноздри, всхрапывала, позвякива ла уздечка.
– Пресвятой отче, Сергий, не дай погибнуть лютой смертью, – стал молиться Гришатка. – Спаси мя от волков. Молю тя, Отче. Я так хочу жить на белом свете, иконы писать…
Рванулись сани. Из-под копыт вздыбившейся Лизки, визжа, покатился живой ком. Гришатка не удержался, вывалися из саней в снег. Проморгался. Прямо на него серой тенью летел зверь. Гришатка успел повернуться к волку спиной. От сильного толчка он ткнулся лицом в сугроб. В спину упёрлись волчьи лапы. Овчина затрещала под ударами клыков. Лизка билась в оглоблях, кричала, будто человек, которого убивают. Гришатка ощутил смрадный запах из пасти волка – так пахла смерть. Минута – и его разорвут на клочья. Вернётся Данила с Никифором к белым косточкам.
И тут он услышал над собой обвальный шум крыльев и клёкот. Следом за этими звуками раздался дикий визг, скрип снега. Опасливо высунул из шубы голову. В вихрях снежной пыли верхом на волке крылатился зверь о двух головах. Из глаз его летели брызги огня. Проморгавшись от залепившего глаза снега, Гришатка узнал своего знакомца. Двуглавый орёл одной лапой когтил волку морду, другую вонзал в спину у самого хвоста. И, как чингизхановский палач, притягивал затылок жертвы к пяткам, чтобы переломить хребет. Топырил крылья, чертя ими снег и не давая переярку бежать. Забитые волчьей шерстью клювы сыпали злой клёкот. Миг назад зверь норовил добраться до человечьего горла. И вот теперь от его серой шубы летели клочья и жестокие когти пронзали глаза.
– А-а-а-а! – вне себя закричал Гришатка. Орлиные головы мотнулись на крик. Волк вывернулся и покатился по сугробам. Орёл забил крыльями, стелясь по снегу, метнулся вдогон. Стая сыпанула от крылатого врага на стороны. И всё пропало, как страшный сон.
Гришатка огляделся, вокруг простиралась белая пустыня. Наливались теменью сумерки. Ветер совсем перестал. Скоро на высоком небе заиграли ясные звёзды. Лизки с санями нигде не было видно. В разодранный волком на спине полушубок полз холод. Он был один в этой ночной ледяной пустыне. Набившийся за ворот снег таял, стекал меж лопатками. Подступало отчаяние. «Тот с бородой, Лаокоон, что боролся со змеями, был не один… Легче ему было», – в отчаянии вспомнил Гришатка. – Лизку бы найти».
Он лёг набок и покатился по санному следу. При каждом перевороте рукава полушубка вскидывались и падали на снег, как обломанные крылья. То и дело утыкался лицом в снежные гребни. Снег таял на лице, мешался со слезами. Он катился, пока не закруживалась голова и степь не начинала кружиться вместе с небом и звёздами. Тогда он перекатывался на спину, зажмуривался и ждал, пока небесная карусель остановится. Переворачивался на живот, вставал столбиком. Вокруг разливалась мёртвая ночь, сожравшая Лизку с санями, орла и разбежавшуюся волчью стаю.
Опять катился, пережидал головокружение, вставал, оглядывался, тёрся о ворот полушубка обмёрзлым лицом, стирая ледяную корку. Катился. Видел, как черноту неба наискось рассёк белый огненный след, и вдруг сами собой полились из его уст слова чудной молитвы: «…И всех скорбящих Радосте, услыши и нас, скорбных; Ты – утоление печали, утоли и наши душевные болезни и печали; Ты – Купино Неопалимая, сохрани мир и всех нас от вредоносных огненных стрел вражьих; Ты – Взыскание погибших, не попусти нас погибнуть в бездне грехов наших…».
Шепча слова молитвы, он катился по хрусткому от мороза снегу и вдруг будто от омытых метелью сияющих звёзд долетел до его слуха невнятный колокольный звон. Поднялся, о плечо сдвинул с уха шапку. В самом деле, звонили в стороне, противной той, куда он катился. Скоро Гришатка увидел впереди колыхавшееся красное пятно костра. Набрал полную грудь морозного воздуха, запел от радости:
– Ма-туш-ка-а, что там в по-ле пыльно. Ко-ни разы-гра-лися. А чьи те кони. Да чьи те кони… – Пел и плакал от радости, пока не услышал скрип снега и не увидел бегущего к нему Данилу.
– Цел, – обнял, подхватил на руки. – А я пришёл назад, ничего. Следы волчьи. Так всё внутри и оборвалось.
– Лизку волки зарезали?
– Цела. Подрали крепко. Она, как заяц, круг дала и на свой след опять вышла. А тебя, видно, из саней выбило? – обрадованно хрипел Данила. – Как не разорвали-то? Дай отдышусь. – Данила поставил Гришатку на снег. – Тяжёленький. Ещё шуба. Эка как раскроили. А сам? Самого-то не подрали?
– Кинулся один грызть, а на него орёл упал, – Гришатка поднял кверху лицо. – Схватил когтями за морду. Он как завизжал, вся стая и рассыпалась…
– Погоди, какой орёл?
– Двуглавый. Помнишь, на погребке жил у нас? Ещё крыло дёгтем мазали, чтоб черви не завелись.
– Воля Господняя, – перекрестился Данила. – Садись на закорки. Костёр оживим. Никифор, чать, на огонь выйдет. Завыл, говоришь, волчок-то в когтях у беркута? Понятно, волчица услыхала и лошадь бросила. К дитю выручать кинулась. А за ней и вся стая… Другой раз он тебя от смерти спасает. Фыркала привязанная к задку саней Лизка, дрожала боками в красных гроздях мёрзлой крови. Гришатка клонился к огню, грел ознобленное лицо.
– Никифора давай звать, – Данила навязал пук соломы к концу длинной жердины, сунул в огонь. Когда солома пыхнула, поднял жердь над головой, стал махать. В скачущем свете пламени изумрудными каменьями вспыхивали Лизкины глаза.
Переждав время, Данила поджигал новый пук соломы, вздымал, махал. Соломины огненными изгибающимися червячками летели в темень. Когда послышался скрип снега и к костру вышел отец, Гришатке не попадал зуб на зуб. Изодранная на спине шуба грела плохо. Данила чуть не силой сволок с него рвань, запахнул в свой полушубок, а сам напялил Гришаткин. Никифор тоже слышал колокол. Определили, где примерно находится дорога. Распрягли Лизку, сани бросили в сугробе, задрав кверху связанные оглобли, чтобы потом легче было найти. Гришатку посадили верхом на Лизку и, ведя её в поводу, пошли целиной.
– Господь нас сподобил в живых остаться, – рассуждал вслух, напереживавшийся в молчании и одиночестве Никифор. – Это ведь сатана нас улестил, иконы святые, будто сковороды, продавать на торжище.
– Гришатка, как там Максим Грек наставлял не отягчаться ценою серебра. Не помнишь?
– «Подобает же и её ведати честным изографом, рекше иконописыем… к тому же и ценою сребра да не отягчит святыя иконы, но доволен будет от имущаго приятии на пищу, и одежду, и на рукоделие шаровнаго запасцу».
– Во-о, а мы, как нехристи, обогатиться возжелали, и малого в это дело втянули. Господь нас и бросил в пустыню для просветления, – рассуждал Никифор. – Торжище иконами было опасно для Гришаткиной души, как волчцы для тела…
Ковш Большой Медведицы повернулся звёздной ручкой кверху, когда они, чуть живые, добрели до дома. Но только напрасно они полагали, что урок для них закончился. Главный урок только начинался.
14
«Лоб, щёки, всё тело моё корчилось в пламени огненной пурги, обступавшей со всех сторон. Из этого пламени являлись видения призрачные и страшные», – слабой после болезни рукой писал отец Василий в своей «Брани». Горела свеча. – Эта пламенная пурга стала как бы продолжением той взаправдашней, разразившейся три недели назад. Три недели, а будто это случилось очень давно и даже не со мною, а с кем-то другим, чудесным образом передавшим мне свои впечатления и чувства. Помню, рвал ветер, валил снег. В этой снеговой мешавени не то что кресты на куполах, сама колокольня пропадала. Кого эта пурга застигла в степи, грозила погибель. Я поостерёгся гнать на колокольню Стёпку. Полез и бил в большой колокол сам. Может, час, а то и более.
Сильно ознобился на таком сивере. Когда слез, руки-ноги ничего не чуяли. Отогрелся и полез опять. Уже по-тёмному. Пурга к тому времени кончилась. Я подумал, может, кто заблудился, переждал это светопредставление в каком затишье, а теперь не знает, куда податься…
И опять звонил, долго, пока не обронил вниз варежку. Ночью меня колотила дрожь, а утром метался в жару без памяти. И три недели душа моя грешная расставалась с «кожаною ризою», то есть, с плотью, и опять возвращалась. Грешник великий, не могу я поверить, что душа моя отделялась от тела, и пречистые ангелы водили её по мытарствам. Злые гнусные демоны доставали свитки с моими прегрешениями и зачитывали. Ангелы, сопровождавшие мою душу, смущались и плакали, и «клали на весы» мои малые-премалые добрые дела… Думаю, моё воспалённое болезнью сознание зримыми образами и картинами оживляло некогда мною читаные жития, творения святых отцов нашей православной церкви и другие священные писания.
Когда болезнь угасла, а ум прояснился, я вспомнил привидевшиеся мне реки змеев, страшный адский пламень, не могущий пожрать кромешную тьму преисподней, где злобные и мерзкие мурины все в клыках и когтях, с глазами, яко раскалённые угли, тянули меня к себе. Вспомнил и пришёл в ледяной ужас: умри бы я щас, и Гришатка остался бы без духовного окормления. А кто, как не я, крёстный отец, должен вооружить его на брань с нечистою силою, постоянно стремящейся ввести нас в грех… И кто, как не я, обязан насеять в его сердце душеспасительный страх?
Не для этого ли свершилась по воле Божьей череда событий? Поездка Никифора, Данилы и Гриши в Самару. Пурга, застигнувшая их на обратном пути. Моё бдение на колокольне, ознобление и болезнь. Настоящим чудом, знаком Господним, стало избавление Гришатки от волков. Хищные звери рвали полушубок, ещё миг, и на клочки растерзают моего крёстного сына. Но пал с небес на серых разбойников орёл и спас Гришу.
Откуда она взялась в наших краях, эта птица о двух главах? Ожила и слетела с герба российской империи, уронив корону? Прости, Господи, дерзкие глупости. Это чудо и тайна природы, не подвластные нашему грешному разуму. Гришатка, проведывая меня, болящего, рассказывал, как страшно было чувствовать смрадное дыхание, рык и удары клыков. Его Господь сподобил испытать страх телесный, а меня, грешного, страх душевный. И обоим нам Он продлил срок земной жизни».
15
Ни оборвавшегося у ворот звяка колокольца под дугой, ни стука кнутовищем в ворота Никифор не услышал. Звон стоял по всей мастерской. Чеканил по меди узор на иконном окладе. Очнулся, когда дверь хлястнула. На пороге, обдав морозом, водрузился мужик в закиданной снегом дублёной шубе, подпоясанной под грудью красным кушаком.
– Имеется тута иконописных дел мастер? – густым голосом спросил вошедший.
– Есть-то есть, да с печи не слезть, – отозвался Данила.
После той пурги он ещё пуще маялся поясницей. Всё прогревался на горячих кирпичах.
– Ты будешь? – разглядев в сумраке Данилу, приезжий стащил с головы шапку. Поклонился.
– Ну, я. – Данила закряхтел, спустил босые ноги вниз.
Гость молча надел шапку, толкнул задом дверь. Никифор припал к окну. У ворот дымилась закуржавленная инеем тройка в знатной упряжи. Чернел на снегу кожаный крытый возок. Из нутра его выпростался наружу высокий господин в лёгком чёрном пальтеце, закашлялся на морозе и, прикрывая лицо от ветра рукой в блестящей перчатке, быстро вошёл во двор. Никифор догадался, что в возке осталась шуба или меховая полость, оглянулся на Данилу.
Тот тоже увидел промотнувшегося мимо окна человека, сменился в лице.
– Из Самары, похоже. Может, из-за икон, из-за продажи чего, – встревожился Никифор.
Дверь растворилась. Гость в чёрном пальто с порога летучим взглядом обежал развешанные по стенам сохнущие иконы, резким кивком поприветствовал Никифора. Прядь длинных волос скользнула из-за уха на крутую скулу. Пятернёй в перчатке он замахнул волосы назад. На вид ему можно было дать не более тридцати.
– Проживает тут богомаз? – сильным голосом спросил он и тут увидел слезавшего с печи Данилу.
– Петруша, – шагнул к нему, – ну, ты, брат, законспирировался. По всей России тебя искали, а ты под боком.
– Как нашёл-то?
– Стучитесь да откроется. Так что ли у вас говорится? Я и стучался. В монастыре сказали, потёк странствовать…
– Прибился вот. Иконы пишу. А ты?
– Медленно, но верно иду к гильотине. – Гость засмеялся, прошёлся по мастерской. – Познакомь с хозяином-то.
И сам гость, и смех его не понравились Никифору.
Поначалу он решил, что гость из церковных. Но тот не перекрестился на иконы. Отчего-то назвал Данилу Петрушей. Приезжий смахивал на чужестранную птицу, невесть как залетевшую под крышу, – в эти стружки и краски.
– Это Никифор, мой хозяин и сотоварищ в иконном деле, – просто сказал Данила. – А это друг юных игрищ и забав. Как тебя вернее представить?
Никифор, освобождая правую руку для пожатия, положил молоток.
– Георгий Каров, – рука в черной перчатке дёрнулась, было, вперёд, но вернулась, нырнула в карман. Каров с маху поклонился, завесив лицо во лосами.
Никифор поклонился в ответ.
– Я у вас, коль можно, переночую… – Гость снял перчатки. На левой руке на месте малого безымянного и среднего пальцев торчали обрубки.
«Беспалый», – заметил про себя Никифор, вслух же сказал:
– Ночуйте. Хотите тут, хотите в избе. И ямщика определим. Чего ему в ночь ехать.
– Скажи тогда, пусть вещи принесёт.
– Что, Георгий Каров, всё караешь?
– Я-то, понятно, а ты, Петруша, зачем в Данилу перекрестился?
– В монастыре. Знаешь, при пострижении в монахи игумен три раза ронял на пол ножницы. И я три раза поднимал их и подавал ему. Ты ложишься на пол между двумя рядами монахов, они накрывают тебя своими чёрными мантиями. И ползёшь под этими мантиями, из тьмы к свету, рождаешься заново. И тебе дают другое имя, – Данила достал с печи валенки. – Разоблачайся, садись ближе к печи. Давно оттуда?
– С полгода. – Гость переобулся в валенки, накинул данилову овчинную безрукавку и, вроде как, оборотился своим, сельским. Грише гость тоже не глянулся. Уж очень он раскатисто удивлялся его рисункам и иконам, хвалил без удержу. Домогался, чтобы показал, как рисует.
После ужина гость и Данила вернулись из избы в мастерскую, позвали и Григория. Никифор с Ариной и Афонькой остались в избе, приплюснутые появлением диковинного гостя.
Тем часом в мастерской Гриша, поддавшись уговорам Данилы, взял в зубы карандаш и принялся рисовать гостя. Тот повился-повился над ним и, видя, как медленно юный живописец выводит каждую чёрточку, заскучал, оборотился к Даниле.
– Я за тобой, хоть ты и внове рождённый. После Неупокоева у нас нет хороших поваров для изготовления «тортов» и «книг» для сатрапов.
– Опять ты за старое, – пригнул голову Данила.
– Ты душу свою спасаешь, а мы, грешные, – Свободу. – Каров прошёлся до порога и назад. – На них кровь наших братьев, и она вопиёт об отмщении.
– Не мелькай, сядь, – Грише неловко было делать набросок.
– Портрет для филеров, – хохотнул гость.
– С собой возьмёшь.
– Так мы едем? Ты не богомаз, ты прирождённый химик. Бомбист.
– Лицо обороти к свету. – Данила подошёл к сидевшему на табурете гостю и, положив ладони ему на голову, как бы погладил по волосам. – Тебе видно, Гриш? Тот, не выпуская из зубов карандаша, кивнул. Углубившись в рисунок, он почти не вскидывал глаз. Лицо гостя отразилось в его памяти, как в зеркале. И он переводил на лист овал чистого румяного лица, большой лоб с разлётными бровями… Он всегда начинал со лба и глаз.
– Лицом к свету, – хохотнул приехавший. – Хочешь сказать, блуждаю во мраке?
– Это ты говоришь.
– Мы должны повернуть лицо всей России к свету, который они застят своим троном чуть не триста лет. А ты им нанялся в помощники. Малюешь на досточках иконки и счастлив. Невдомёк тебе, что эти твои лики святых есть кандалы и оковы на руках и ногах народа. Господь сделал человека свободным. А вы заковали в железа церковных догм и тело, и душу. Отменили крепостное право, обрекли на долговое рабство – выкупать земельные наделы. Запугали народ страшным судом, адом, грехами… Все эти Салтычихи, Троекуровы, Ноздрёвы, Плюшкины – мировой стыд и позор… Очнись, Пётр!
– Слава Богу, я очнулся тогда, после… – Данила глянул на Григория, запнулся. – Помнишь, к нему в камеру пришла жена и простила его за убийство мужа, отца её детей?
– «Прости, Господи. Не ведают, что творят…» Слышали мы это «ку-ку», – перебил его всё с тем же холодным смешком гость. – Ведаем! Царство тирана мы заменим на царство свободы и демократии. Дума, парламент, выборы. Народ будет свободно изъявлять свою политическую волю. Это тебе не «иконка на дощечке». Хочешь, в Иисуса Христа веруй, хочешь в Аллаха, а хочешь – в Ярилу-бога.
Гриша чувствовал, как взволновался Данила.
– Не буду спрашивать, хотят ли твоей чужестранной демократии миллионы крестьян и рабочих, кто в поте лица добывает хлеб свой. Не буду спрашивать, что вы сделаете с миллионами приверженцев тирании. Я спрошу, как ты выразился, про «иконку на дощечке». Куда вы её денете?
– Народ сам решит – оставить твою «дощечку» или баню ею разжечь.
До Григория, с головой погружённого в рисунок, как дождь сквозь холстину, стучали слова-капли: «тиран», «демократия», «миллионы», «распни»… Он не улавливал нити разговора, но не умом, а сердечным разумением стоял за Данилу.
– Подкупите, оболваните толпу, внедрите туда своих, науськаете, и они опять отпустят на волю разбойника, а Христа распнут.
– Ты сомневаешься в нашей порядочности?
– Он сказал «Не убий». А вы убиваете. Он сказал: «Не возжелай». А вы хотите завладеть чужим… Но, распяв не тело, а образ Его, вы, сами того не желая, в сердцах миллионов возвеличите Его ещё больше. И погубите себя. А душа? Ей куда прикажете деваться? Отнимете Бога, что у человека останется? Плоть! Как у животного. Без поста, молитвы, покаяния, исповеди, чем победит человек зверя внутри себя?
– Законом! Железной рукой закона, равного и для министра, и для землепашца, – почти закричал гость. – Наступит эра равенства и братства!..
Гриша повернул голову, не выпуская из зубов карандаша, вгляделся в гостя, пытаясь поймать выражение его глаз. Почудилось, из-под бровей гостя вьётся дымок и пахнет серой.
– Железной рукой братскую любовь в душе русского человека не добудешь, – покачал голо вой Данила. – И это мы слышали. Оставь, я не ссориться приехал.
Я, право, рад нашей встрече, – гость улыбнулся широко и весело, наклонился над Григорием, обдав запахом дорогого табака.
– Неужели у меня такая грозная физия? Данила тоже подошёл к столу.
– Я не дорисовал, – дребезжащим из-за карандаша в зубах голосом, не поднимая глаз, сказал Гриша. Он никогда не смотрел на людей, которые ему не нравились, боясь встретиться с ними взглядом.
– Чего молчишь, пророк Даниил, – спросил шутливо гость. – Напророчь по этому портрету, как «скоро на радость соседей, врагов засыплюсь землею сырою». Скажи мне всю правду, не бойся меня…
– Гриш, иди спи, труженик великий.
– Я еще не дорисовал.
– Завтра дорисуешь, иди с Богом! Данила открыл дверь в избу, помог перелезть ему через порог. Потом подошёл к гостю, отблёскивая лысиной в пламени двух свечек, горевших по краям стола, за которым рисовал Гриша. Взял рисунок в руки:
– Уловил он, простец, смятение твоё душевное и в наброске этом выдохнул.
– Дай-ка, – гость поднёс лист к свече, вгляделся. – Не похож! Не стал я при нём говорить, все-таки старался парень.
– Не люб ты себе такой. Палачи красны рубахой, а не ликом, – тихо сказал Данила.
– Не ты ли сам тогда бомбу под книгу сделал? Ею ещё калужского прокурора Трубодымова, или как его там, Дымокурова на клочья разнесло… К слову, не сладишь ли нам ещё одну такую «книжицу»? На самого царя зверей. В историю войдёшь, – гость поднёс лист с рисунком к свече. Угол взялся пламенем. Данила выдернул рисунок у него из рук, загасил пальцами.
– Оставь на память.
– Для охранки?
– Имя убиенного моей проклятой бомбой Иван Иванович Искроверхов, – Данила перекрестился. – Век мне этот грех не отмолить. Думал, в монастыре спасусь, не попустил Господь мне, грешнику. Опять в мир поволокся. В Киев поклониться святым мощам ходил. На Валааме, где православие раньше всего зародилось, два года трудился. А тут очутился провидением Божьим. Замерзал.
Попросился заночевать. Утром, как Гришатку увидел, так меня и ознобило, – Данила дрогнул голосом. – В той карете с Искроверховым ехал сынок его лет семи-восьми. Взрывом ему оторвало ноги и он кровью изошёл. Понял я тогда, что не сам, а мой ангел-хранитель привёл меня в этот дом, к этому убогому мальчику…
– Просто его величество случай, – гость знобко подёрнул плечами. – Выбрось ты из головы весь этот мусор. Этот твой, как его… Искродымов, был царский сатрап. Подвёл наших товарищей под расстрел… Я тебе, Петя, участие в подвиге предлагаю, – он обнял Данилу за плечи. – Никакой ты не Данила, не монах, ты наш… А дело твоё не иконки раскрашивать, а свергать тиранию, разбивать оковы на руках и ногах русского народа.
– Гришатку в оковы не закуёшь, – тихо сказал Данила. – Господь его высшей свободой наделил.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.