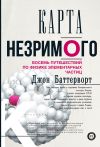Текст книги "Ренессанс. У истоков современности"
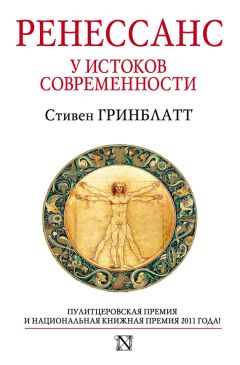
Автор книги: Стивен Гринблатт
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 22 страниц)
Но Бруно был в Англии. Несмотря на все старания Томаса Мора, стремившегося в роли канцлера ввести инквизицию, Англия не захотела ее иметь. Тем не менее можно было легко навлечь на свою голову неприятности неосторожными высказываниями. Однако Бруно всегда пренебрегал опасностями – и когда убирал иконы из своей кельи, и в данном случае, насмехаясь над одной из самых священных догм. В его насмешке заключался серьезный философский подтекст: действительно, если согласиться с тем, что Божий промысел предопределяет падение воробья и число волос на голове, то придется пойти еще дальше, признать, что Провидение не имеет пределов и распространяется буквально на все – от мельтешения пылинок в солнечных лучах до движения планет. «О Меркурий, у тебя много дел», – сочувственно сказала София.
София замечает, что потребуется тысяча тысяч миллионов языков для того, чтобы рассказать о том, что должно случиться в крошечной деревушке коммуны Кампанья. Незавидная доля Юпитера. Однако Меркурий затем признает, что все устроено не так. Не существует умельца-бога, пребывающего за пределами Вселенной, отдающего команды, распределяющего воздаяния и наказания и решающего все за всех. Это абсурд. Во Вселенной поддерживается определенный порядок, но он встроен в природу вещей, в материю, из которой состоит все – от звезд до людей и клопов. Природа – это не абстракция, а мать, порождающая все существующее. Иными словами, перед нами Вселенная Лукреция.
Беспредельность Вселенной – не повод для грусти от ощущения своей ничтожности. Напротив, Бруно восторгает то, что Вселенная бесконечна во времени и пространстве и построена из мельчайших частиц, атомов, связывающих единичное и преходящее в бесконечность. «Мир прекрасен», – писал Бруно, отметая все тревоги, сожаления и покаяния, которые порождает человеческое существование22. Бессмысленно искать божественность в истерзанном теле Сына человеческого и надеяться на Отца Небесного. «Зачем искать божественность где-то далеко, если она находится совсем рядом, – заявлял Бруно. – Она внутри нас». И его философская жизнерадостность проявлялась во всем. Он был «душой застольной беседы, настоящим эпикурейцем», говорил о нем один флорентийский современник23.
Подобно Лукрецию, Бруно был против того, чтобы человек все свои потребности в любви и сексе реализовывал на одном объекте страсти. Совершенно необходимо удовлетворять сексуальные побуждения тела, но глупо принимать их за истинные удовольствия, которые приносит только философия – ноланская философия, естественно. И эти удовольствия – не абстрактные и бестелесные. Бруно, возможно, первым из мыслителей по прошествии целого тысячелетия понял философско-эротический смысл гимна Лукреция Венере. Вселенная, в которой постоянно что-то зарождается, по своей природе сексуальна.
Протестантизм, с которым Бруно столкнулся в Англии и других странах, показался ему слишком фанатичным и ограниченным, столь же несообразным, как и контрреформация католицизма. Концепция сектантства вызывала в нем неприязнь. Он ценил интеллектуальное мужество, готовность бороться за истину против воинствующих невежд, с ходу отвергающих все, что им непонятно. Образцом такой стойкости стал для него астроном Коперник, «избранный богами на роль зари, предвосхитившей восход солнца древней и истиной философии, многие века томившейся в темном склепе высокомерного, злобного и завистливого невежества»24.
Утверждение Коперника, что Земля – не центр Вселенной, а планета, вращающаяся вокруг Солнца, все еще считалось крамольным и осуждалось как церковью, так и научным истеблишментом. Бруно пошел еще дальше, доказывая, что у Вселенной вообще нет центра. Ссылаясь на Лукреция, он заявлял о существовании множества миров, в которых неисчислимые «семена вещей», сочетаясь в различных комбинациях, образуют другие расы людей и живые существа25. Каждая из звезд, которые мы наблюдаем, является солнцем, светящимся в бесконечном пространстве. Многие из них имеют свои спутники, вращающиеся вокруг них подобно тому, как наша Земля вращается вокруг Солнца. И Вселенная существует не для нас, не имея никакого отношения ни к нашим деяниям, ни к нашим судьбам. Мы являемся лишь мизерной частью непостижимо грандиозного образования. Но это не должно нас пугать. Напротив, мы должны воспринимать мир с восторгом, благодарностью и благоговением.
Высказывая эти идеи, Бруно подвергал себя серьезной опасности. Однако, когда от него потребовали согласовать свою космологию со Священным Писанием, Бруно ответил: Библия больше пригодна для формулирования нравственных принципов, а не для выстраивания структуры небес. Многие согласились бы с его позицией, но неблагоразумно было бы заявлять об этом публично, тем более в печати.
Все же Бруно был не единственным светилом науки в Европе, переосмысливающим природу вещей. В Лондоне он почти наверняка встречался с Томасом Хэрриотом26. Этот умнейший человек построил самый большой в Англии телескоп, наблюдал солнечные пятна и спутники планет, описал лунную поверхность, выдвинул гипотезу о движении планет по эллиптической орбите, разработал метод математического картографирования, открыл закон синуса в рефракции, произвел потрясающие усовершенствования в алгебре. Многие его открытия предваряли научные достижения Галилея и Декарта, принесшие им известность. Однако они не связываются с именем Хэрриота: их обнаружили недавно среди неопубликованных материалов, оставшихся после его смерти. Среди бумаг был найден и перечень нападок и обвинений в атеизме, составленный Хэрриотом, убежденным сторонником атомизма. Ученый знал, что нападки только усилятся, если он опубликует свои открытия, и предпочел славе жизнь. Можно ли винить его в этом?
Однако Бруно не мог молчать. «Силой своего разума, – писал Бруно о самом себе, – он разрушил монастырские темницы истины, сделав открытия, доступные только пытливому познанию, обнажил сокрытые тайны природы, дал зрение слепцам и способность говорить немым, не осмеливавшимся высказывать свои спутанные мысли»27. В поэме «О беспредельном и неисчислимом», написанной на латыни в подражание Лукрецию, Бруно вспоминал: в детстве ему казалось, что мир заканчивается Везувием, так как глаза не могли видеть того, что находится за вулканом. Теперь он представлял себя частью беспредельного мира и не мог снова замуроваться в интеллектуальном узилище, навязываемом средой.
Возможно, если бы Бруно оставался в Англии – или во Франкфурте, Праге или в Виттенберге, куда он тоже ездил, – то ему и удалось бы сохранить свободу, хотя это тоже было бы непросто. Но в 1591 году он принял роковое решение вернуться в Италию, надеясь получить безопасное прибежище в независимой Падуе и Венеции. Безопасность оказалась иллюзорной. Патрон донес на него в инквизицию. Бруно арестовали в Венеции, переправили в Рим, где и заключили в камеру священной канцелярии католической церкви возле базилики Святого Петра.
Судебный процесс над Бруно длился восемь лет. Необычайно затяжной характер разбирательства можно объяснить, с одной стороны, непреклонностью узника в отстаивании своих философских взглядов, а с другой – упорным желанием церковных сановников добиться от него покаяния и отречения от опасных для религии убеждений. Даже под пытками он отвергал право инквизиторов решать, что является ересью, а что – правильной верой. Это было верхом дерзости. Священная канцелярия не признавала ни территориальных, ни духовных ограничений своего могущества. Она считала себя единственной и последней инстанцией в установлении правоверности.
На глазах возбужденной толпы преклоненного Бруно приговорили к сожжению как «дерзкого, злостного и упорствующего еретика». Он не был стоиком, и его, безусловно, ужасала предстоящая казнь. Но один из очевидцев, немецкий католик, записал слова, произнесенные угрожающе еретиком во время оглашения приговора: «Вам же страшнее выносить этот приговор, чем мне его выслушивать».
17 февраля 1600 года расстриженного, отлученного от церкви и бритоголового доминиканца посадили на осла и привели к костру, разложенному на площади Цветов. Он по-прежнему упорно отказывался от покаяния и, очевидно, не желал молчать. Его последние слова неизвестны, но они, видимо, так досаждали церковным властям, что ему в буквальном смысле сковали железом язык. Согласно сохранившемуся свидетельству, Джордано Бруно вставили в рот железный кляп с шипами. Когда к его лицу поднесли распятие, он отвернулся. После сожжения уцелевшие кости раздробили, а пепел – мельчайшие частицы, которые, как он верил, должны снова вступить в великий и вечный круговорот материи – развеяли.
Глава 11
Жизнь после смерти
Избавиться от Джордано Бруно оказалось легче, чем от поэмы Лукреция «О природе вещей». После того как она вернулась к читателям, провидческие идеи и образы поэта античности стали проникать в произведения писателей и художников Возрождения, многие из которых считали себя правоверными христианами. Проявления ее интеллектуального влияния в живописи или эпических романах для властей были менее заметны и менее опасны, чем в сочинениях ученых и философов. Церковная полиция редко интересовалась расследованиями ереси1 в произведениях искусства. Поэтический дар Лукреция способствовал распространению его радикальных идей. Художественными средствами, трудно поддающимися надзору, их популяризировали и мастера искусства эпохи Возрождения: живописцы Сандро Боттичелли, Пьеро ди Козимо, Леонардо да Винчи, поэты Маттео Боярдо, Лудовико Ариосто и Торквато Тассо. И эти идеи вскоре вышли за пределы Флоренции и Рима.
В середине девяностых годов XVI века на сцене лондонского театра Меркуцио подтрунивал над Ромео:
А, так с тобой была царица Меб!
То повитуха фей. Она не больше
Агата, что у олдермена в перстне.
Она в упряжке из мельчайших атомов
Катается у спящих по носам[48]48
В русском варианте пьесы – «в упряжке из мельчайших мошек». В английском тексте автора – a team of little atomi. Для автора использование слова «атомов» имеет принципиальное значение. Перевод Т. Щепкиной-Куперник. Шекспир У. Полное собрание сочинений. В 8 т. М.: Искусство, 1957–1960. Т. 3, 1958. Правда, атомы сохранились в более строгом переводе А. Радловой:
О, вижу, верно, королева МебУ вас была. Она средь эльфов – бабка,И росту всего-навсего с агатУ олдермена в перстне. Цугом ездитОна на атомах по человечьимНосам, когда они заснут покрепче.(Шекспир В. Избранные произведения. Л.: Художественная литература, 1939.)
[Закрыть].
(Ромео и Джульетта, I. iv. 55–59)
«Упряжка из мельчайших атомов» – Шекспир был уверен: его аудитория понимает, каким же микроскопическим должен выглядеть экипаж, изображенный Меркуцио. Не менее примечательно в контексте трагедии о всепобеждающей силе страсти и отречение от жизни после смерти, прозвучавшее в словах Ромео:
Из этого дворца зловещей ночи
Я больше не уйду; здесь, здесь останусь,
С могильными червями, что отныне —
Прислужники твои. О, здесь себе
Найду покой, навеки нерушимый…
(V. iii. 108–110)
Судя по всему, автор «Ромео и Джульетты» имел представление о материализме Лукреция, как и Спенсер, Донн и Бэкон. Хотя Шекспир не учился в Оксфорде и Кембридже, он знал латынь в достаточной мере для того, чтобы самостоятельно прочесть поэму «О природе вещей». В любом случае, он, очевидно, был знаком с Джоном (Джованни) Флорио, другом Джордано Бруно, и мог также обсуждать поэму Лукреция с драматургом Беном Джонсоном: подписанная им копия поэмы2 хранится в библиотеке Хаутона в Гарварде.
Без всякого сомнения, Шекспир мог познакомиться с идеями Лукреция по книгам Монтеня «Опыты», которые он очень ценил. «Опыты» были вначале опубликованы на французском языке в 1580 году, и затем в 1603 году их перевел на английский язык Флорио. Эссе Монтеня содержат около ста прямых цитат из поэмы «О природе вещей». И дело не только в цитатах: в образе мыслей Лукреция и Монтеня много общего.
Монтень разделял презрительное отношение Лукреция к морали, основанной на пугале загробной жизни. Он призывал полагаться на собственные ощущения и реалии материального мира, отвергал аскетическое самоистязание и ценил внутреннюю свободу и согласие с самим с собой. На его отношение к проблеме страха перед смертью оказали влияние как стоики, так и материализм Лукреция, хотя перевес явно на стороне жизнерадостной этики поэмы «О природе вещей», славящей телесные удовольствия.
Понятийно-теоретическая философия Лукреция не могла служить ориентиром для Монтеня, избравшего публицистический стиль философствования и строившего свой анализ зигзагов и поворотов в физическом и духовном состоянии человека на основе житейского опыта:
«Я не очень большой любитель овощей и фруктов3, за исключением дынь. Мой отец терпеть не мог соусов. Я же люблю соусы всякого рода… От времени до времени в нас рождаются случайные и бессознательные причуды. Так, например, редьку я сперва находил полезной для себя, потом вредной, теперь она снова приносит мне пользу»[49]49
Здесь и далее выдержки из сочинений Монтеня даются по изданию: Монтень Мишель. Опыты. В 3 книгах. М.: Наука, 1979.
[Закрыть].
Однако в познании человека и самого себя Монтень исходит из материального видения мира, присущего поэме Лукреция, найденной Поджо Браччолини в 1417 году.
Мир – это вечное движение, – писал Монтень в эссе «О раскаянии»:
«Все, что он в себе заключает, непрерывно движется: земля, скалистые горы Кавказа, египетские пирамиды, – и движется все это вместе со всем остальным, а также и само по себе. Даже устойчивость – и она не что иное, как ослабленное и замедленное движение».
И человек не является исключением. Независимо от того, стоим мы или идем, нас влекут куда-нибудь еще и внутренние побуждения. «Мы обычно следуем за нашими склонностями направо и налево, вверх и вниз, туда, куда влечет нас вихрь случайностей», – пишет Монтень в эссе «О непостоянстве наших поступков».
Но чтобы не создавалось впечатления, будто мы все-таки контролируем наши действия, Монтень, следуя теории произвольных отклонений Лукреция, указывает и на случайный характер перемен человеческого состояния: «Мы не идем, нас несет, подобно предметам, подхваченным течением реки, то плавно, то стремительно, в зависимости от того, спокойна она или бурлива». («Не видим ли мы, что человек сам не знает, чего он хочет, и постоянно ищет перемены мест, как если бы это могло избавить его от бремени?» – задавался вопросом и Лукреций.) Так же летуча и изменчива жизнь интеллекта, включая сочинение эссе: «Из одного предмета мы делаем тысячу, множим, подразделяем, словно подчиняясь закону беспредельности атомов Эпикура». Лучше, чем кто-либо другой, включая Лукреция, Монтень отобразил, что значит думать, писать и жить категориями вселенной Эпикура.
В отличие от Лукреция, Монтеня не посещало желание с твердой земли, вне опасности наблюдать за бедой, постигшей другого человека, когда на морских просторах разыгрываются ветры. Для него не существовало такой надежной скалы, он чувствовал себя на борту корабля. Однако он разделял эпикурейский скептицизм Лукреция относительно неутолимого стремления к славе, власти и богатству и ценил уединение среди книг в тиши кабинета, обустроенного в башне дворца. Хотя, конечно, это уединение лишь обостряло ощущения текучести, случайности, нестабильности и сложности окружающего мира, заложником которого он, как и все мы, был.
Публицистический темперамент Монтеня позволял ему преодолевать догматизм эпикурейства. Поэтическая образность идей и изящество стиля поэмы Лукреция помогли осмысливать и описывать пережитые жизненные ситуации на основе и прочитанных трудов других классических авторов. В общем-то, идеи Лукреция просматриваются практически во всем его «верчении внутри себя», как он сам называл процесс самопознания: и в отвержении концепции набожного страха и религиозного фанатизма, и в проповеди ценности действительной, а не загробной жизни. Они обнаруживаются и в его интересе к так называемым примитивным обществам, и в тяге к простоте и естественности межчеловеческих контактов, и в анализе жестокости, и в отношении к животным.
Именно в духе Лукреция Монтень в эссе «О жестокости» писал: «Я охотно отказываюсь от приписываемого нам мнимого владычества4 над всеми другими созданиями». Он признавал, что не только «не может видеть, как цыпленку сворачивают голову», но и «не в силах отказать моей собаке в прогулке, которую она мне предлагает или которую она от меня требует». Точно так же Монтень в «Апологии Раймунда Сабунданского», высмеивая притязания человека на центральное место в мироздании, писал:
«…Почему, например, и гусенок не мог бы утверждать о себе следующее: “Внимание Вселенной устремлено на меня: земля служит мне, чтобы я мог ходить по ней; Солнце – чтобы мне светить; звезды – чтоб оказывать на меня свое влияние; ветры приносят мне одни блага, воды – другие; небосвод ни на кого не взирает с большей благосклонностью, чем на меня; я любимец природы”»5.
А размышляя о благородной смерти Сократа, Монтень тоже в духе Лукреция фокусирует внимание на очень неожиданной, но совершенно эпикурейской детали: «на содрогании от удовольствия, которое он испытал от возможности почесать себе ногу, когда с него сняли оковы» (эссе «О жестокости»)6.
Мало того, влияние Лукреция чувствуется во всех рассуждениях Монтеня на две излюбленные темы: секса и смерти7. Вспомнив рассказ куртизанки Флоры о том, что она «никогда не спала с Помпеем без того, чтобы не оставить на его теле следов своих укусов», Монтень тут же цитирует слова из поэмы Лукреция: «Цель вожделений своих сжимают в объятьях и, телу боль причиняя порой, впиваются в губы зубами так, что немеют уста» (эссе «О том, что трудности распаляют наши желания»). Если сексуальное вожделение слишком сильное и непреодолимое, то надо от него освобождаться, рекомендует Монтень в эссе «Об отвлечении», ссылаясь на скабрезный совет Лукреция «влаги запас извергать накопившийся в тело любое». «Я часто делал это с большой пользой», – добавляет Монтень[50]50
На самом деле Монтень лишь рекомендует «рассеивать пламенную влюбленность», «распределять между несколькими желаниями», в полезности чего он не раз убеждался на опыте.
[Закрыть]. По мнению Монтеня, у Лукреция он нашел и самое восхитительное описание полового акта – в повествовании о тайных любовных утехах Венеры с Марсом (эссе «О стихах Вергилия»):
«Жестокими воинскими трудами ведает всесильный своим оружием Марс, который часто склоняется на твое лоно, сраженный никогда не заживающей раной любви; не сводя с тебя глаз, богиня, он насыщает любовью свои жадные взоры, и на него, лежащего распростертым на спине, нисходит с твоих уст, богиня, твое дыхание; и вот тогда, прильнув к нему священным телом и обняв его сверху, излей из своих сладостных уст обращенную к нему речь»[51]51
Этот отрывок приводится по изданию «Опытов» Монтеня. В переводе поэмы с латинского языка Ф.А. Петровским он звучит иначе:
Ты ведь одна, только ты можешь радовать мирным покоемСмертных людей, ибо всем военным делом жестокимВедает Марс всеоружный, который так часто, сраженныйВечною раной любви, на твое склоняется лоно;Снизу глядя на тебя, запрокинувши стройную шею,Жадные взоры свои насыщает любовью, богиня,И, приоткрывши уста, твое он впивает дыханье.Тут, всеблагая, его, лежащего так, наклонившисьТелом священным своим, обойми и, отрадные речиС уст изливая, проси, достославная, мира для римлян…
[Закрыть].
Монтень цитирует Лукреция на латыни, опасаясь, что не сможет передать на своем французском языке всю прелесть и полноту любовной сцены.
Постоянно возникает эффект присутствия этого человека, словно специально пришедшего из далекого прошлого, чтобы передать людям нечто важное. Эту близость, безусловно, чувствовал Монтень. Она помогала спокойно подготовиться к собственному уходу в небытие. Однажды ему довелось видеть, как человек, умирая, скорбел по поводу того, что не успел закончить книгу. Для Монтеня такие сожаления абсурдны. И для этого случая у него есть подходящая цитата из поэмы Лукреция: «Но зато у тебя не осталось больше тоски никакой, ни стремления ко всем этим благам». Что касается собственной кончины, то Монтень писал: «Я хочу… чтобы смерть застала меня за посадкой капусты, но я желаю сохранить полное равнодушие и к ней, и тем более к моему не до конца возделанному огороду8 (эссе «О том, что философствовать – это значит учиться умирать»).
Сохранять «равнодушие к смерти» в действительности не так просто. Это понимает и Монтень, считая, что и в смерти надо руководствоваться голосом разума и природы: «Природа не дает нам зажиться. Она говорит: ”Уходите из этого мира так же, как вы вступили в него9. Такой же переход, какой некогда бесстрастно и безболезненно совершили вы от смерти к жизни, совершите теперь от жизни к смерти. Ваша смерть есть одно из звеньев управляющего Вселенной порядка; она звено мировой жизни„».
В подтверждение своих слов Монтень цитирует Лукреция:
«Смертные перенимают жизни одни у других… и словно скороходы, передают друг другу светильник жизни» (эссе «О том, что философствовать – это значит учиться умирать»).
Лукреций – постоянный спутник Монтеня. Древний мыслитель научил его и пониманию природы вещей, и тому, как прожить жизнь с удовольствием и без сожалений, и как подготовить разум к достойной встрече со смертью.
В 1989 году Пол Куорри, тогда библиотекарь Итонского колледжа, приобрел на аукционе за 250 фунтов стерлингов превосходный экземпляр поэмы «О природе вещей» издания 1563 года под редакцией Дениса Ламбена. На форзацах сохранились пометки на латинском и французском языках, но имя владельца не было известно. Ученые быстро установили, подтвердив и догадки Куорри, что копия принадлежала Монтеню, который и оставил свои многочисленные пометки, свидетельствовавшие о жгучем интересе читателя10. Его имя просто-напросто затерялось под слоем других записей. Однако один комментарий, сделанный на оборотной стороне третьего форзаца, совершенно недвусмысленно разоблачал владельца: «Поскольку движения атомов столь многообразны, то не исключено, что, они, уже соединившись этим образом, когда-нибудь в будущем могут снова сойтись в той же комбинации и породят другого Монтеня»11.
Монтень усердно помечал те места в поэме, которые казались ему в особенности антирелигиозными: опровергавшие, к примеру, фундаментальные христианские принципы сотворения мира ex nihilo[52]52
Из ничего.
[Закрыть], божественного Провидения и Суда Божьего после смерти. Страх смерти, писал он на полях, причина всех наших пороков. Душа – материальна, в этом Монтень совершенно не сомневался. «Душа телесна» (296); «душа и тело едины» (302); «душа смертна» (306); «душа, подобно ступне, является частью тела» (310); «тело и душа нераздельны» (311). Это заметки читателя, не его собственные утверждения. Однако они свидетельствуют о том, какие радикальные заключения он делал, читая материалистические суждения Лукреция. И хотя благоразумие подсказывало держать подобные идеи при себе, они явно получали все большее распространение.
Поэма Лукреция читалась даже в Испании, где инквизиция отличалась особенной жестокостью. Напечатанные экземпляры завозились из Италии и Франции, из рук в руки тайком передавались манускрипты. Известно, что в начале XVII века французское издание поэмы, отпечатанное в 1565 году, имел Алонсо де Оливера, врач принцессы Изабеллы Бурбонской. Можно привести и другие факты. В 1625 году испанский поэт Франциско де Кеведо приобрел манускрипт поэмы всего за один реал12. Писатель и коллекционер Родриго Каро из Севильи хранил в своей библиотеке, судя по описи, составленной в 1647 году, два экземпляра поэмы, отпечатанные в Антверпене в 1566 году. А в Гваделупе преподобный Самора держал в монастырской келье издание Лукреция, напечатанное в Амстердаме в 1663 году. Как это понял еще Томас Мор, безуспешно пытавшийся скупить и сжечь протестантское издание Библии, после появления печатных станков стало чрезвычайно трудно «убивать» книги. Еще труднее уже было преградить путь новым идеям, появляющимся в физике и астрономии.
Хотя попытки подавить инакомыслие, конечно, предпринимались. Вот, к примеру, образчик усилий проповедников XVII века, пытавшихся задушить то, что не удалось погубить сожжением Бруно:
Ничто не возникает из атомов,
Все существующие тела и формы прекрасны сами по себе,
Без них весь мир превратился бы в хаос.
Изначально все создано Господом,
Чтобы одно порождало другое.
Все ничто, если ничего не порождает.
О Демокрит, из атомов ничего не возникает.
Атомы ничего не создают; поэтому атомы – ничто13.
Это слова из латинской молитвы, которую молодые иезуиты должны были ежедневно повторять для того, чтобы отвести от себя особенно пагубные соблазны. Цель молитвы – изгонять наваждение атомизма и утверждать, что формы, структура и красота всего существующего в мире – творение Господа. Приверженцы атомизма радовались и дивились тому, как устроен мир. Лукрецию Вселенная представлялась извечным созданием во славу Венеры. Но послушный молодой иезуит должен был каждый день убеждать себя в том, что прекрасному божественному миропорядку, наглядно воплощенному в барочных зданиях и статуях, угрожает холодное, стерильное и хаотичное царство бездушных атомов.
Почему это было важно? Уже в «Утопии» Томас Мор доказал, что божественное Провидение и посмертные воздаяния или наказания несомненны даже для нехристиан, живущих на краю света. Но обитателей Утопии в любом случае не интересовали законы физики. Зачем же иезуитам, самому воинственному и интеллектуально подготовленному ордену, понадобилось бороться с атомизмом? Представление о невидимых частицах продолжало существовать и в Средние века. Идея об основном строительном материале Вселенной – атоме – уцелела, несмотря на утрату античных текстов. Об атомах можно было говорить без особого риска в контексте божественного Провидения. А в высших кругах католической церкви были и люди, готовые воспринимать новые научные идеи. Почему же в эпоху Высокого Возрождения атомизм вдруг стал представлять угрозу?
Ответ на этот вопрос, безусловно, связан с возрождением и распространением поэмы Лукреция «О природе вещей», которая объединила идею атомизма с целым рядом других опасных концепций. Гипотеза о мельчайших частицах, взятая отдельно, не могла вызывать большого беспокойства. В конце концов, все должно же из чего-то состоять. Но поэма Лукреция добавила к атомам недостающие элементы теории, и последствия оказались катастрофическими и для нравственности, и для этики, и для политики, и для теологии.
Поначалу эти осложнения не для всех были очевидными. Савонарола позволял себе насмехаться над узколобыми интеллектуалами, вообразившими, что мир состоит из каких-то невидимых частиц, но он по крайней мере только иронизировал и не призывал объявить им аутодафе. Католики вроде Эразма и Томаса Мора, как мы уже видели, пытались приспособить элементы эпикуреизма к христианской вере. А Рафаэль, когда в 1509 году писал фреску «Афинская школа» – идиллию греческих философов – в Ватиканском дворце, очевидно, верил в возможность гармоничного слияния всего классического наследия, а не отдельных его компонентов, с христианской доктриной, которую представляли богословы на фреске противоположной стены. Рафаэль видное место на картине отвел Платону и Аристотелю, но под аркой он расположил много и других выдающихся мыслителей, среди которых, если верны традиционные интерпретации, можно разглядеть Гипатию Александрийскую и даже Эпикура.
Однако к середине столетия подобная идиллия уже была нереальна. В 1551 году теологи, собравшиеся на Тридентский собор, наконец разрешили споры вокруг главного христианского таинства. Они подтвердили как церковную догму концепцию Фомы Аквинского, еще в XIII веке нашедшего способ, как с помощью Аристотеля примирить пресуществление – то есть трансформацию освященного хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы – с законами физики. Благодаря выделению Аристотелем в материи «акциденций» и «субстанции» стало возможным объяснить, каким образом то, что выглядит и пахнет, как хлеб, может претвориться (и вовсе не символически) в плоть Христа. Во время Евхаристии доступные для органов чувств свойства хлеба – акциденции – остаются неизменными, тогда как субстанция освященной облатки пресуществляется в субстанцию Господа.
Теологи в Тренто представили эти аргументы не в виде теории, а в форме истины, бесспорной и несовместимой с учениями Эпикура и Лукреция. И проблема заключалась не в их язычестве, Аристотель ведь тоже был язычником, а в физике. Атомизм отрицал расхождение между субстанцией и акциденциями и таким образом выбивал краеугольный камень из-под чудесной интеллектуальной конструкции, воздвигнутой на аристотелевском фундаменте. И эта угроза появилась именно в тот момент, когда протестанты начали свое мощное наступление на католическую доктрину. Наступление Реформации не имело никакого отношения к атомизму – эпикурейцами не были ни Лютер, ни Цвингли, ни Кальвин, ни Уиклиф, ни Ян Гус, – но католицизму казалось, что античный материализм открыл против него второй фронт. Действительно, атомизм мог дать реформаторам опасное интеллектуальное оружие массового поражения. Церковь не могла допустить, чтобы кто-либо воспользовался этим оружием, и ее идеологическая охранка – инквизиция – взялась выявлять очаги и каналы его распространения.
«Вера должна стоять на первом месте среди всех прочих законов философии, – заявлял один иезуит в 1624 году. – Следовательно, установленное слово Божье не может подвергаться измышлениям»14. Предупреждение было очень серьезное, не разрешалось даже рассуждать и дискутировать на эту тему: «Для того чтобы владеть истиной, а она может быть только одна, философ должен противостоять всему, что противоречит вере, и принимать как должное все, что заключено в вере». Иезуит не назвал имени человека, которому адресовал свое предостережение, но для современников было ясно, что он имел в виду автора недавно опубликованного научного сочинения «Пробирщик» («Пробирных дел мастер»). Им был не кто иной, как Галилео Галилей.
Галилео уже навлек на себя неприятности тем, что астрономическими наблюдениями подтвердил гипотезу Коперника о вращении Земли вокруг Солнца. Под давлением инквизиции он обещал больше не настаивать на этой крамольной идее. Однако «Пробирщик», опубликованный в 1623 году, не оставлял никаких сомнений в том, что ученый продолжал придерживаться опасных мнений. Он отстаивал тождественность звездного и земного миров, утверждая, что нет существенной разницы в природе Солнца, планет и Земли с ее обитателями. Подобно Лукрецию, Галилей верил в то, что все во Вселенной доступно познанию посредством наблюдения и разума. Как и Лукреций, он полагался на свидетельство чувственных ощущений в мыслительном постижении объективной реальности. Как и Лукреций, Галилей был убежден в том, что эта реальность состоит из мельчайших частиц, которые он называл «minims», то есть атомов, образующих бесчисленное многообразие сочетаний.
У Галилея были могущественные друзья. Свое сочинение «Пробирщик» он посвятил просвещенному папе Урбану VIII, который, будучи еще кардиналом Маффео Барберини, поддерживал исследования ученого. Пока папа сохранял желание защитить своего подопечного, ученый мог надеяться на то, что ему удастся избежать ответственности за дерзновенные взгляды. Но и сам понтифик испытывал давление со стороны тех, кто жаждал борьбы с ересью. 1 августа 1632 года орден иезуитов осудил и запретил доктрину атомизма. Этот запрет уже не касался «Пробирщика», разрешенного к публикации еще восемь лет назад. Однако в том же 1632 году Галилей опубликовал другое сочинение – «Диалог о двух системах мира»: он-то и дал его врагам повод для доноса в конгрегацию священной канцелярии, то есть в инквизицию.
22 июня 1633 года инквизиция провозгласила свой вердикт: «Мы выносим приговор и оглашаем, что ты, Галилей, в соответствии с доказательствами суда и твоими признаниями священной канцелярии объявляешься крайне подозреваемым в ереси». Заступничество могущественных друзей все-таки спасло ученого от пыток и казни, и его осудили на пожизненное заключение под домашним арестом15. Обвинение в ереси сводилось к тому, что он придерживался «ложной и противной Священному и Божественному Писанию доктрины, будто Солнце является центром мироздания и не перемещается с востока на запад, а Земля движется и не является центром мироздания». В 1982 году итальянский ученый Пьетро Редонди обнаружил в архивах священной канцелярии документ, проливающий несколько иной свет на подоплеку обвинения. Это был меморандум, детализирующий еретический характер сочинения «Пробирщик». Инквизитор нашел в нем свидетельства атомизма, несовместимого со вторым каноном 13-й сессии Тридентского собора, сформулировавшей догму Евхаристии. Если согласиться с теорией синьора Галилео Галилея, то надо признать, писал инквизитор, что внешние свойства объектов Святого Причастия – «осязаемость, вкус, запах и прочее», характерные для хлеба и вина, создаются в наших ощущениях «очень мелкими частицами». Тогда Святое Причастие должно состоять из значительных количеств хлеба и вина, а это чистейшая ересь. И через тридцать три года после сожжения Бруно атомизм представлял угрозу для религиозных ортодоксов.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.