Текст книги "Ренессанс. У истоков современности"
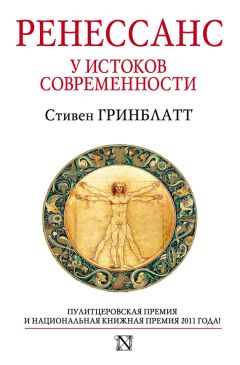
Автор книги: Стивен Гринблатт
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 22 страниц)
Изобретение нового и легко читаемого образа букв и слов, восхищавшего книголюбов более шести веков, – само по себе немалое достижение. Но дело здесь не только в необычайно искусной графике, примененной Поджо. Его новшество отражало тенденции развития культуры как во Флоренции, так и по всей Италии. Поджо, похоже, уловил, что влечение к другому курсиву являлось лишь частью более мощного культурного движения, сочетавшего стремление к новизне и возрастающий интерес к античности. Считается, что Петрарка задолго до рождения Поджо превратил интерес к возрождению культурного наследия классического Рима во всеобщую одержимость.
Современная историография по-разному оценивает истоки и масштабы этой «одержимости». Поклонники Петрарки исходят из того, что античность была напрочь забыта, пока их герой героическими усилиями не возродил к ней интерес. Однако можно доказать, что роль Петрарки не столь уж новаторская, как кажется. Помимо Ренессанса XV века, были и другие периоды повышенного интереса к античности и в средневековой Италии, и в северных королевствах, в том числе и так называемый каролингский Ренессанс IX столетия. В Средневековье можно обнаружить гораздо больше преемственности и связей с античностью, чем думалось приверженцам Петрарки. В эпоху Высокого Средневековья философы-схоласты, изучавшие Аристотеля по комментариям его арабского последователя Аверроэса, выстроили сложную и достаточно рациональную систему мироздания. И даже хваленая эстетическая верность Петрарки классическому латинизму – заявленное им намерение идти по стопам древних мыслителей – уже присутствовала в умонастроениях по крайней мере за семьдесят лет до его рождения. В претензиях Петрарки и его последователей на титул первооткрывателей античности больше похвальбы, чем истины.
Тем не менее нельзя полностью отрицать позитивную роль Петрарки и его современников только на том основании, что они оказались самыми активными пропагандистами своих деяний. Да они и сами не считали легким путь, на который ступили. Они видели себя изыскателями и в своих желаниях, и в практических действиях, преодолевая горы, исследуя монастырские библиотеки, раскапывая руины. Для них не было ничего простого и очевидного в попытках возродить или сымитировать язык, материальные предметы и культурные достижения далекого прошлого. Они посвятили себя миссии, которая совершенно не вписывалась в привычный образ жизни людей, веками пытавшихся обеспечить себе относительно удобное существование среди разваливающихся останков античности.
Эти останки напоминали о древности по всей Италии и Европе: тысячелетние мосты и дороги, изъеденные временем стены и арки, руины терм и рынков, храмовые колонны, встроенные в церкви, древние камни с письменами, использованные в новых сооружениях, разбитые статуи и вазы. Но древняя цивилизация давно исчезла. Останки напоминали о том, что все проходит и забывается, они свидетельствовали о победе христианства над язычеством, сохранившиеся стены и колонны можно было употребить в новых строительных проектах, в руинах можно было поискать драгоценные камни и металлы. Поколениями люди использовали уцелевшие фрагменты древности не только в строительстве, но и в сочинительстве. При этом их мало волновало то, что они прикасаются к реликтам языческой культуры – будь это камень или слово.
Однако вникать в истинный смысл останков античной культуры было небезопасно. Увлечение античностью вряд ли можно было оправдать простым любопытством: оно осуждалось как один из смертных грехов8. Язычество уже повсеместно воспринималось как поклонение демонам. Более того, от христиан требовалось усвоить, что культурные достижения Древней Греции или Рима, эти творения мира грешного и смертного человека, противны трансцендентному и вечному Царству Божьему.
Петрарка был правоверным христианином и строго следовал Божьим заповедям9. Тем не менее в продолжение всей жизнедеятельности, и в своих сочинениях, и в духовных исканиях, он оставался страстным поклонником языческой древности, хотя и не смог до конца познать ее. Петрарка в основном вел уединенный образ жизни, но с упорством миссионера популяризировал гуманистические идеи античности в своих произведениях, стремясь вызволить из губительного забвения шедевры классической литературы.
Сын нотариуса, оказавшийся талантливым поэтом и прозаиком, рано заинтересовался наследием античности, но поисками утерянных рукописей увлекся, когда совершил в 1332–1333 годах длительное путешествие по Франции, Фландрии и Германии. Конечно, он не был первопроходцем, но занимался разыскиванием древних манускриптов с рвением, превосходившим пыл самого страстного искателя сокровищ. Петрарка писал восхищенно:
«Созерцание золота, серебра, пурпурных одеяний, домов из мрамора, ухоженных поместий, божественных картин, коней в попонах и других чудес подобного рода доставляет преходящее и поверхностное удовольствие; книги же восторгают до глубины души. Они разговаривают с тобой, подсказывают что-то, создают атмосферу живого общения, сопереживания и духовной близости»10.
Петрарка проводил текстологический сравнительный анализ найденных книг, редактировал и копировал манускрипты, делясь ими со своими многочисленными корреспондентами, которым писал даже по ночам, поддавшись внезапно нахлынувшему вдохновению. Он писал и античным авторам, словно они были его близкими друзьями или членами семьи, с которыми можно поделиться своими чувствами и мыслями. Обнаружив тайник с посланиями Цицерона богатому другу Аттику, самовлюбленными, амбициозными и негодующими, Петрарка не удержался и написал великому древнему оратору, укоряя его за то, что он пренебрегает собственными принципами.
К эпохе, в которой ему пришлось жить, Петрарка испытывал безграничное отвращение11. Он сам называл свое время эпохой грубости, невежества и убогости мысли и верил, что о ней человечество постарается забыть. Однако это презрение к окружающей его среде, похоже, лишь придавало ему обаятельности и известности. Слава Петрарки росла как снежный ком, а вместе с ней возрастал и пробужденный им интерес к наследию древности. Последующие поколения трансформировали этот интерес в новое влиятельное просветительское направление – гуманизм (studia humanitatis) с акцентом на изучение греческого и латинского языков и литературы и особенно риторики. Однако гуманизм, который проповедовал Петрарка, пристрастив к нему близких друзей и учеников – Джованни Боккаччо (1313–1374) и Колуччо Салютати (1331–1406), – не был академической дисциплиной.
Ранние гуманисты, основоположники нового интеллектуального движения, должно быть, испытывали смешанные чувства гордости, опасений и удивления первооткрывателей. Ведь то, что казалось еще живым, на самом деле было мертво. Столетиями князья и прелаты верили в то, что продолжают традиции классической древности, переняв в той или иной форме символы и язык прошлого. Петрарка и его сподвижники считали иначе: все эти претензии ложны. Римской империи не существовало в действительности в Ахене, где короновали правителя, называвшего себя «императором Священной Римской империи». Все институты и идеи, формировавшие мир Цицерона и Вергилия, погибли; латынь, на которой писали шесть или семь веков назад философы и теологи, всего лишь уродливая и искаженная, как в кривом зеркале, версия когда-то прекрасного и изящного языка. Надо без притворства признать, что в действительности нет никакой преемственности. А есть труп, давно похороненный и разложившийся.
Осознание факта смерти – лишь первый необходимый шаг. Признав утрату и погоревав, можно приступить к осуществлению того, что должно последовать после смерти – воскрешению. Этот феномен знаком каждому правоверному христианину, а Петрарка и был самым что ни на есть христианским праведником, хотя в данном случае ему надо было думать о том, как решать проблему воскрешения в этом мире, а не в следующем. Возрождал он опочившую древнюю культуру.
Поджо появился в Риме через двадцать пять лет после кончины Петрарки, когда порожденное им интеллектуальное движение уже начало терять первоначальную пикантность. Дух творческого дерзновенного поиска постепенно уступал место заурядному антикварному интересу, стремлению систематизировать и поставить в определенные рамки все отношения с прошлым. Поджо и гуманисты его поколения больше внимания обращали на то, чтобы избегать ошибок в латинской грамматике и вылавливать промахи других филологов. Длительное общение с классической античностью отчасти и объясняет особенности его почерка. Эстетика графики Поджо не была прямым следствием письменности древних римлян: все ее следы давно исчезли, остались лишь изумительные начертания на каменных плитах, исполненные римским капитальным шрифтом, да отдельные настенные граффити. Но почерк Поджо отражал стремление найти новый стиль передачи красоты, художественной формы возрождения интеллектуальных ценностей. Образы букв основывались на рукописном каролингском стиле. Однако Поджо и его коллеги не связывали свою манеру письма с двором Карла Великого, они называли ее lettera antica – антиквой, чтя память не наставника Карла Великого Алкуина, а Цицерона и Вергилия.
Зарабатывал на жизнь юный Поджо переписыванием книг и документов, и их прошло через его руки, очевидно, немало. Необычайно изящный почерк и мастерство не только принесли ему известность, но и с самого начала обеспечивали средствами для оплаты уроков. Он довел до совершенства знание латыни, обучаясь у талантливого лингвиста из Равенны Джованни Мальпагино, в молодости служившего у Петрарки секретарем и помощником, а впоследствии выступавшего с лекциями о Цицероне и римской поэзии в Венеции, Падуе, Флоренции и других городах. Поджо смог оплатить и занятия для приобретения профессии нотариуса, правда, они были гораздо менее продолжительные и дорогостоящие, чем обучение на адвоката12.
В двадцать два года Поджо сдавал экзамены, но не в университете, а перед коллегией юристов и нотариусов. Ему удалось пережить мытарства юности, и теперь он мог рассчитывать на успешную карьеру. Первым нотариальным документом, к которому приложил руку Поджо, было рекомендательное письмо для отца, сбежавшего из Флоренции в Римини от надоедливого кредитора. Нам трудно сказать, чем руководствовался Поджо, когда составлял копию документа. Возможно, его привлекло имя человека, которому адресовалось рекомендательное письмо: Колуччо Салютати, канцлер Флорентийской республики.
Канцлер Флоренции был, по сути, государственным секретарем по иностранным делам. Флоренция тогда была независимой республикой, контролировавшей значительную часть Центральной Италии, и в силу этого она непрестанно боролась за сферы влияния с другими могущественными государствами итальянского полуострова: Венецией и Миланом на севере, Неаполем на юге и папством в Риме, ослабленном внутренними раздорами, но все еще кичащимся своим богатством, настырным и опасным. Каждый из этих соперников в случае угрозы мог обратиться за помощью, денежной или военной, к правителям континента, только и ждавшим благоприятной возможности для вмешательства. Все они были амбициозны, коварны, вероломны, беспощадны и вооружены. Дипломатическая деятельность Салютати на посту канцлера республики по выстраиванию отношений с соседями, в том числе и с Ватиканом, была исключительно важна не только для благоденствия, но и для выживания республики ввиду угроз, исходивших от Франции, Священной Римской империи и Испании.
Когда Поджо появился во Флоренции, в конце девяностых годов, Салютати, начинавший карьеру с должности заурядного провинциального нотариуса, пребывал на посту канцлера уже двадцать пять лет, занимаясь интригами, набирая и выгоняя наемников, составляя инструкции послам, разгадывая коварные замыслы противников, ведя переговоры, заключая альянсы и подписывая манифесты. Практически все – и враги республики, и ее патриотические граждане – понимали, что канцлер Флоренции обладает не только исключительными юридическими познаниями, политической и дипломатической искусностью, но и психологической проницательностью, даром общественного деятеля и вдобавок необыкновенным литературным талантом.
Подобно Петрарке, с которым канцлер переписывался, Салютати испытывал влечение к древности и занимался исследованиями наследия классической культуры. Как и Петрарка, он был правоверным христианином, но не находил ничего ценного для себя – по крайней мере в смысле художественного стиля – в том, что было написано в период между Кассиодором в VI веке и Данте – в XIII. Подобно Петрарке, Салютати стремился имитировать стиль Вергилия и Цицерона. Хотя он и писал с горечью «Ego michi non placeo» («Я себе не нравлюсь») и признавал, что ему недостает литературной гениальности Петрарки, современники восхищались его прозой.
Кроме того, Салютати разделял убеждение Петрарки в том, что возрождение наследия прошлого не должно ограничиваться лишь антикварным интересом. Читать античных авторов надо не для того, чтобы повторять их. «Для меня предпочтительнее мой собственный стиль, – писал Петрарка, – неотесанный, грубоватый, но, подобно одеянию, больше подходящий для моего умонастроения, а не для чьего-либо еще, пусть и более утонченного, амбициозного и обожаемого, но порожденного большей гениальностью и постоянно соскальзывающего с меня, не соответствуя скромным размерам моего интеллекта»13. В этих словах, без сомнения, содержится немалая доза напускной смиренности, но в них можно заметить и искреннее желание сформировать новое и оригинальное мировоззрение, не раствориться в авторитете старых мастеров, а использовать их опыт. «Древние авторы, – писал Петрарка Джованни Боккаччо, – пронизали все мое существо, они засели не только в моей памяти, но и вошли в мою плоть и кровь. Если бы даже мне и не довелось читать их еще раз, то они все равно волновали бы меня до глубины души»14. «Я всегда считал, – утверждал и Салютати, – что подражать античности нужно не для ее воспроизведения, а для создания чего-то нового»15.
И Петрарка и Салютати были убеждены16: гуманизм должен не просто создавать преходящие имитации классического стиля, а служить более высоким этическим целям. Для этого ему необходимо стать неотъемлемой частью реальной действительности. Но в практической деятельности ученик явно решил не идти по стопам своего учителя. Если Петрарка, родившийся в изгнании и за всю жизнь так и не определившийся с отечеством, постоянно переезжал с места на место, из королевского дворца ко двору папы, а оттуда в сельскую глушь, презирал какую-либо стабильную привязанность и стремился к уединению, то Салютати избрал другой путь – созидать и творить в городе-государстве, который всей душой полюбил17.
В самом центре Флоренции, загроможденном башнями-крепостями и монастырскими стенами, располагался Палаццо делла Синьория, политический бастион республики. Отсюда Салютати руководил всеми делами своего крошечного государства, и здесь, как он считал, ковалась слава республики18. Независимость республики – то, что она не была сателлитом другой державы, не подчинялась папству и управлялась не королем, тираном или прелатом, а самими гражданами, для него было ценнее всего на свете. Его послания, депеши, протоколы и манифесты, подписанные от имени приоров Флоренции, читались и копировались по всей Италии. В них легко обнаруживалось влияние античной риторики, они пробуждали политическую мысль и ностальгию. Талантливый дипломат и политик отличался необычайной широтой гуманистического мировоззрения, пытаясь примирить этические принципы древности с новыми веяниями. Некоторое представление об особенностях его умонастроения дает письмо городу Анкона от 13 февраля 1376 года. Анкона, как и Флоренция, была независимой коммуной, и Салютати призывал граждан восстать против навязанного им папского правительства: «Долго ли вы будете пребывать во мраке рабства? О, лучшие из людей, знаете ли вы, как сладостна свобода? Наши предки, вся итальянская нация, пять столетий боролись… за то, чтобы не потерять ее»19. Конечно, восстание, к которому призывал Салютати, было в стратегических интересах Флоренции. Но в его обращении меньше всего было цинизма. Он искренне верил в то, что Флоренция является наследницей республиканизма, даровавшего величие Древнему Риму. Это величие, воплощавшее свободу и достоинство человека, давно покинуло разбитые и грязные улицы Рима, превратившегося в рассадник церковных интриг, но оно сохранялось, по мнению Салютати, во Флоренции. И он был его главным проповедником и рупором.
Салютати знал, что не вечен. В семьдесят лет канцлер, встревоженный как собственными религиозными сомнениями, так и угрозами городу, привлек к себе группу одаренных молодых людей. В кружок вошел и Поджо, хотя нам неизвестно, каким образом Салютати отбирал кандидатов в надежде найти себе достойную замену. Наиболее перспективным оказался Леонардо Бруни из Ареццо. Он был на десять лет старше Поджо и также не отличался сколько-нибудь выдающимся происхождением. Бруни изучал право, но, подобно другим интеллектуально одаренным молодым людям своего поколения, увлекся античностью. Решающим фактором стало освоение древнегреческого языка, что стало возможным после того, как в 1397 году Салютати переманил во Флоренцию известного византийского ученого Мануила Хрисолора давать уроки почти совершенно забытой словесности. «С появлением у нас Хрисолора я сделал свой жизненный выбор, – вспоминал потом Бруни. – Понимая, что делаю ошибку, бросая занятия правом, я посчитал, что совершу преступление, если не воспользуюсь уникальной возможностью изучить древнегреческую литературу»20. Увлечение переросло в одержимость: «Я предавался занятиям у Хрисолора с такой страстью, что познания, полученные в часы бодрствования днем, продолжали будоражить меня и в часы сна ночью».
В группе интеллектуалов, соревновавшихся за благосклонность Салютати, с Поджо мог сравниться только основательный, целеустремленный и трудолюбивый Бруни, нищий провинциал, не имевший никакого иного подспорья в жизни, кроме выдающегося ума. Хотя Поджо и уважал Бруни, ставшего впоследствии блистательным канцлером Флоренции и написавшего несколько замечательных трудов, в том числе и историю города, дружил он с другим учеником Салютати, эмоциональным и задиристым эстетом Никколо Никколи.
Никколи был на шестнадцать лет старше и в отличие от Поджо и Бруни родился в одной из самых богатых в городе семей. Его отец сколотил состояние на производстве шерстяных тканей, ростовщичестве, зерновых фьючерсах и других коммерческих операциях. Судя по налоговым записям девяностых годов XIV века, Никколо Никколи и его пятеро братьев затмевали своим богатством всех других состоятельных граждан квартала, в том числе и такие влиятельные семьи, как Бранкаччи и Питти. (Современные туристы, посещающие Флоренцию, могут сами оценить масштабы той роскоши, взглянув на величественный дворец Питти, построенный через двадцать лет после смерти Никколи.)
К тому времени, когда Поджо подружился с ним, состоятельность Никколи и его братьев уже шла на убыль. Они все еще были людьми богатыми, но вздорили между собой, и семья, похоже, не желала или не могла заниматься политическими интригами, необходимыми для сохранения и наращивания накопленных капиталов. Лишь тем, кто имел доступ к политической власти в городе и умел блюсти свои интересы, удавалось обойти губительную и зачастую карающую систему налогообложения. По остроумному замечанию историка Гвиччардини, налоги во Флоренции заменяли кинжалы21.
Все, чем располагал Никколи, он тратил на удовлетворение своей главной страсти, отвлекавшей его от других дел, которые могли бы помочь сберечь хотя бы часть семейного состояния. Торговля шерстью и товарные спекуляции его не интересовали, как и служение в синьории, правительстве республики, или в советах Двенадцати добрых мужей и Шестнадцати знаменосцев народного ополчения. Даже в большей мере, чем ментор и друзья по кружку гуманистов, Никколи был одержим наследием античности, и у него не оставалось времени для других занятий. Он настроился, возможно, еще в раннем возрасте, на то, что не будет стремиться к карьере и занимать какие-либо государственные должности, а, скорее всего, решил, пользуясь состоянием семьи, вести красивый и полноценный образ жизни и наслаждаться призраками прошлого.
Во Флоренции времен Никколи семья была главной социально-экономической и морально-психологической ценностью, и любой человек, не связавший свою жизнь с церковью, да еще унаследовавший приличное состояние, чувствовал на себе обязанность жениться, обзавестись детьми и приумножать богатство. Женитьба доставляет бездну всякого рода наслаждений и радостей22, – писал его современник Леон Баттиста Альберти, выражая не только свое, но и широко распространенное тогда мнение:
«Если интимные отношения и улучшают добронравие, то не бывает более глубокой и длительной близости, чем с собственной женой. Если прочность уз и родство душ и возникают во время откровенного разговора о чувствах и желаниях, то самые лучшие возможности для этого предоставляет общение с женой, твоим постоянным спутником. И наконец, если честный альянс и способствует дружбе, то нет иных взаимоотношений, которые бы так побуждали к благоговению, как священность супружества. Добавьте к этому еще то, что каждое мгновение совместной жизни приносит новые ощущения радости и пользы, наполняющие сердце великодушием».
Те же, кого не убеждало такое радужное описание семейной жизни, должны были прислушаться к суровым предостережениям против холостяцкого одиночества. Горе человеку, у которого нет жены, – нагонял страху на бобылей популярнейший проповедник эпохи Бернардин:
«Если он богат и чем-то владеет, то все растащат воробьи и мыши… Знаете, как будет выглядеть его ложе? Он валяется в канаве, а когда накинет простынь на свою постель, то никогда больше ее не снимет, пока она не истлеет. А в комнате, где он трапезничает, пол всегда усеян арбузными корками, костями и остатками салата… Он только протирает доски для разделки мяса, собака облизывает их и очищает. Знаете, как он живет? Как дикий зверь»23.
Никколи не внимал ни соблазнам, ни угрозам. Он оставался закоренелым холостяком, дабы женщины не отвлекали его от познаний. Приобретение знаний – именно так можно охарактеризовать смысл и образ жизни человека сугубо научного склада, каким и был Никколо Никколи, рано избравший этот путь и не сходивший с него с поразительным упорством. Ко всем остальным атрибутам стандартного человеческого счастья он относился с полным безразличием. Правда, по свидетельству биографа Веспасиано, у него все-таки была «домработница»24.
Никколи одним из первых европейских интеллектуалов начал собирать предметы античности как произведения искусства, а не антиквариат, обставляя ими свои апартаменты во Флоренции. Коллекционирование, ставшее в наше время привычным хобби толстосумов, тогда еще не было распространено. В Средние века паломники, конечно, любили поглазеть на римский Колизей и другие диковины язычества на пути к истинным и значимым сокровищам христианства – мощам святых и мучеников. В собрании Никколи содержалась совершенно другая идея – поклонение искусству.
Прослышав, что некий чудак готов заплатить хорошие деньги за античные головы и торсы, крестьяне, прежде пережигавшие на известь мраморные фрагменты и укладывавшие камни с древними рельефами в фундамент свинарников, теперь везли их коллекционеру. В элегантных комнатах Никколи рядом с античными римскими кубками, изделиями из стекла, камеями и медалями появились скульптуры, пробуждавшие интерес к коллекционированию у гостей.
Поджо вряд ли подавали еду на древних римских блюдах, как его другу, и он едва ли мог заплатить золотыми монетами за камею, случайно увиденную на уличном бродяге25. Но он полностью разделял страстное желание Никколи, лежавшее в основе собирательства, понять и вообразить культурную среду, создавшую все эти шедевры. Друзья проводили совместные исследования, обменивались анекдотическими историями из летописи Римской республики и Римской империи, размышляли над особенностями религии и мифологии, отразившимися в статуях богов и героев, измеряли фундаменты руин, обсуждали топографию и структуру древних городов и одновременно обогащали знание латинского языка, который оба очень любили и использовали в письмах и, возможно, даже в беседах.
Письма доказывают, что Никколо Никколи питал еще больше страсти к текстам, относящимся к античности и Отцам Церкви: его коллеги-гуманисты находили их в монастырских библиотеках. Он непременно хотел обладать ими, изучать и для этого не жалел времени на переписывание манускриптов, копируя их медленно и старательно почерком даже более красивым, чем у Поджо. Возможно, их дружба и зародилась на почве любви не только к образу античной мысли, но и к образу букв и слов: Никколи, как и Поджо, принадлежит авторство изобретения гуманистического письма.
Древние манускрипты стоили недешево. Но для страстного коллекционера цена не имела никакого значения. Библиотека Никколи пользовалась заслуженной известностью среди гуманистов и в Италии, и за ее пределами. Своенравный и чудаковатый затворник все же допускал в свой дом ученых мужей, интересовавшихся собранием книг. Никколи умер в 1437 году в возрасте семидесяти трех лет, оставив потомкам восемьсот манускриптов, по тому времени самую лучшую и большую коллекцию древних рукописей во Флоренции.
Следуя принципам Салютати, Никколи заранее и досконально определил судьбу своей библиотеки. И Петрарка и Боккаччо желали, чтобы собранные ими манускрипты после смерти сохранились нетронутыми, но их бесценные коллекции были частично распроданы, частично разошлись по рукам, частично пришли в запустение. (Уникальные кодексы, собранные Петраркой и привезенные в Венецию для того, чтобы заложить основу задуманного им нового варианта Александрийской библиотеки, были сложены и позабыты в сырости дворца, где и сгнили, превратившись в пыль.) Никколи постарался, чтобы такая же участь не постигла и его собрание – дело всей жизни. Он составил завещание, запретив продажу или разбазаривание книг, предусмотрев четкие правила их выдачи и возврата, назначив попечителей и выделив средства для строительства библиотеки. Предполагалось построить здание и разместить библиотеку в монастыре. Однако Никколи вовсе не хотел, чтобы это была сугубо монастырская библиотека, доступная лишь для монахов и изолированная от остального мира. Он завещал: книги должны служить не только религии, но и приносить пользу всем просвещенным гражданам, omnes cives studiosi26. Спустя несколько столетий после закрытия последней римской библиотеки Никколи возродил идею доступного публичного чтения книг.
В конце девяностых годов, когда Поджо познакомился с Никколи, мания коллекционирования манускриптов, очевидно, только-только зачиналась, но друзей уже объединила общая зачарованность превосходством античной культуры – исключая, естественно, сферу религии – над всем, что последовало за ней. Поразительная литературная амбициозность и творческое горение Петрарки им не были присущи, как и патриотизм и любовь к свободе, питавшие гуманизм Салютати. Эти качества подменило нечто менее духовно высокое, более тяжелое и изнурительное: культ подражания и совершенства достоверности. Возможно, молодому поколению гуманистов просто-напросто недоставало таланта предшественников, но возникает подозрение, будто одаренные ученики Салютати намеренно не желали привносить что-либо новое в свою действительность. Чураясь новизны, они грезили о прошлом, стремясь возродить к жизни старые традиции. Это стремление, казавшееся узколобым, духовно безынтересным и обреченным на неуспех, дало неожиданные результаты.
За пределами кружка молодых гуманистов нарождающееся альтернативное отношение к языку и культуре вызывало отторжение. «Дабы выглядеть начитанными перед сбродом черни, – писал их возмущенный современник, – они на всю площадь орут о том, сколько дифтонгов было у наших предков и почему у нас теперь только два»27. Даже Салютати испытывал неловкость: он привил Поджо и Никколи пристрастие к классике, но его ученики явно отклонялись от главных идей и даже в какой-то мере отвергали их.
После смерти Петрарки 19 июля 1374 года опечаленный Салютати объявил его более великим прозаиком, чем Цицерон, и более великим поэтом, чем Вергилий. Впоследствии эта оценка показалась Поджо и Никколи нелепой, и они настояли на том, чтобы Салютати отрекся от нее. За минувшие столетия еще никому не удалось превзойти великих классических писателей в совершенстве художественного стиля, доказывали они. Это просто невозможно. Со времен античности мы наблюдаем длительный и трагический процесс стилистических искажений и утрат. Равнодушные или невежественные и даже, казалось бы, образованные средневековые писатели позабыли, как правильно составлять фразы на языке мастеров классической латыни и пользоваться словами с той же изящностью, утонченностью и точностью. Мало того, сохранившиеся образцы классических текстов содержат искажения и не могут служить достоверными примерами, даже если кому-то и хочется использовать их в качестве таковых. Древние авторы, цитируемые средневековыми схоластами, доказывал Никколи, «не узнали бы выражения, приписываемые им и представленные в искаженных текстах и переводах, исполненных без адекватного смысла и вкуса»28.
Петрарка, считавший недостаточным владение классическим стилем для обретения истинного литературного и нравственного величия, в свое время стоял на ступенях Капитолия, был увенчан лаврами поэта-лауреата и мог реально ощутить в себе дух родства с древностью. Но, с точки зрения молодого поколения приверженцев классицизма – радикалов, ничего стоящего не было создано ни Данте, ни Петраркой, ни Боккаччо, не говоря уже о менее известных личностях. «До тех пор, пока литературное наследие античности пребывает в столь жалком состоянии, – сетовал один из них, – не может быть ни подлинной культуры, ни сколько-нибудь обоснованных диспутов»29.
В этих словах, безусловно, отражены взгляды Никколи, но они ему не принадлежат. Их приписал ему в диалоге Леонардо Бруни. Кроме посланий близким друзьям, Никколи практически не оставил никаких иных сочинений. И мог ли он что-либо написать при своем сверхкритическом, желчном, узком и жестком подходе к классицизму? Друзья слали ему латинские тексты для проверки и корректирования. Реакция почти всегда была суровой, беспощадной и карающей. Но ведь Никколи так же жестко и немилосердно относился и к себе.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































