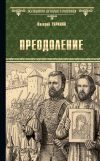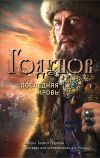Текст книги "Холоп-ополченец. Часть II"

Автор книги: Татьяна Богданович
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– Не бывать тому! – крикнул Патрикей Назарыч. – Не таковские ляхи, чтоб добром отсюда убрались.
– А вот поглядим, – опять прервал его Карп Лукич. – Долго ждали, немного-то подождем. По крайности, будет с чем гонцов посылать.
IX
Это было двадцать первого сентября 1610 года.
С той поры началось тяжкое время для Москвы. Поначалу-то ляхи маленько сдерживали себя. Михайла ходил каждый день по Москве, видал, что и вправду они за гроши в лавках товары берут и русских людей не обижают. Раз прослышал он, что один лях накануне купецкую дочку подстерег, захватил и к себе в Кремль поволок. А в тот час барабан загремел, и глашатай на площади перед Кремлем объявил, что воевода польский, пан Гонсевский, велел того поляка схватить и голову ему отрубить, а девицу отцу вернуть. Стало быть, и на ляхов суд и расправа есть, ничего не скажешь.
Ну, а погодя малое время другое началось. Первым делом начал польский воевода ратных людей московских будто за делом то туда, то сюда посылать. То по Калужской дороге – разведать, не идет ли вор с войском на Москву. То по городам, где будто русские люди ляхов бьют, так чтоб порядок сделать. И всё за делом посылал, так что бояре и спорить не могли. А только назад на Москву те отряды не ворочались. Скоро почитай что вовсе российских ратных людей на Москве не осталось.
Поздняя осень уж была. И пан Гонсевский что ни день новое придумывал. Бояр одного за другим из совета, где они с поляками вместе все дела вершили, за супротивные речи прогонял и верных людей, из московских же, на их место сажал. И стал он с ними новые указы писать. Первое чтоб по улицам московские люди ни с пищалями, ни с саблями не ходили – будто для того, чтоб драк да смертоубийства в городе не было.
Выходит как-то Михайла из дому и видит, что все решетки по углам улиц посечены. На ночь на Москве каждая улица решетками запиралась, чтоб разбойные люди по городу не шатались. А коли из москвичей кому надобность приключалась, тех сторожа пропускали. Ну, пан Гонсевский указ написал, что те решетки доворам лишь мешают по городу ходить, покой московских людей оберегать.
А там не велел вдруг на Москву тонких дров возить. Карп Лукич и тот поначалу не домекнулся с чего это? Зима ведь наступала, чем же избы топить? Патрикей Назарыч уж надумал: верно, с того, чтоб московские люди не почали ляхов теми дубинами бить. А все выжидал чего-то Карп Лукич, не посылал гонцов по городам. Михайла поглядывал на него, а сказать ничего не смел. Думал – он лучше знает. Верно, ждет чего ни то.
Зима уж настала, снег выпал. Близко к Рождеству время подходило. И вот как-то утром выходит Михайла изворот. Не рассвело еще путем, еле брезжило-самое темное время было, пятнадцатое декабря. Вдруг видит: подымается кто-то с земли, оборванный весь, на лице словно кровь запеклась. Отступил Микайла назад к калитке, хотел приказчика кликнуть спросить, что с тем раненым делать, – видно, ляхи его так изувечили. А тот увидал, что Михайла уходить хочет, потянулся нему, за тулуп схватил, тянет к себе, а сам весь трясется, на ноги стать не может. Михайла нагнулся к нему, а он хрипит:
– Мишенька, неужто и не признаешь меня? Степка ж я.
– Степка! – вскрикнул Михайла. – Да кто ж тебя так? С чего ж с Калуги ушел? Дмитрий Иваныч, слыхал я, жаловал тебя.
– Дмитрий Иваныч! – пробормотал еле слышно Степка. – Нет его боле. Убили его… Урусов князь. На моих глазах голову… срубил.
– Да как же казаки дали?
Но Степка больше не мог говорить: голова у него повисла, и весь он словно обмяк. Михайла еле успел подхватить его и поволок во двор. Работные люди сбежались к нему, помогли дотащить до черного крыльца и поднять на ступеньки. Михайла ворвался в поварню, увидал хозяйку Карпа Лукича, Мавру Никитичну, и захлебываясь стал ей говорить, что там на крыльце Степка лежит, вот что у Патрикея Назарыча жил, его разбойные люди покалечили. Карп Лукич, верно, позволит: то Козьмы Миныча Сухорукова племяш.
Мавра Никитична мало что поняла и сразу побежала в горницу, к Карпу Лукичу. На ходу она обернулась к Михайле и крикнула: «Веди покуда!»
Михайла выскочил на крыльцо. Степка лежит, ровно не живой. Михайла вовсе перепугался: неужто помер? Схватил за плечи, приподнял, да тяжелый больно. Парень один помог, подхватил, и вместе внесли в поварню, положили на лавку.
Тут с горницы дверь отворилась, и вошел Карп Лукич.
– Это кто ж таков, Михайла? – спросил он неприветно.
– Степка то, что от Патрикей Назарыча убёг. Козьмы Миныча племяш. Боюсь, не помер ли, – пробормотал несмело Михайла.
– Вздуй-ка огня, Мавра, – сказал Карп Лукич, не видать ничего.
Карп Лукич и Михайла склонились над неподвижным телом. Мавра Никитична светила им лучиной, стряхивая нагоревшие куски в ведро с помоями.
– Жив, – сказал Карп Лукич, подымая голову от Степкиной груди. – Возьми-ка, Мавра, теплой воды, обмой голову. Может, рана где, так обвязать тряпицей. А ты, Михайла, сказывай, кто его так изувечил?
Карп Лукич сел на лавку у начавшего сереть окна и внимательно поглядел на Михайлу. Михайла переминался с ноги на ногу.
– Путем-то и сам не знаю, Карп Лукич, – проговорил он. – Слыхал я, что будто как к калужскому вору пробрался он, Степка-то, как убёг. Боле и не ведаю ничего. Ну, а ноне вышел за ворота, а он перед воротами на снегу лежит. Ну, сперва-то приподнялся, признал меня. Я спрашивать было стал, а он только лишь поспел сказать, что на его глазах Дмитрию Иванычу голову срубили.
– Вору голову срубили? – перебил его Карп Лукич. – Да ты верно ли слыхал?
– Слышал, Карп Лукич, сказывал он – Урусов князь, и сам он, Степка-то, еле ноги унес, мало не посекли его.
– То весть важная, – произнес Карп Лукич, погладив бороду. Коли не врет, ляхам боле на Москве делать нечего.
Мавра Никитична тем временем обмыла Степке лицо и волосы. Карп Лукич подошел, приподнял ему голову и осмотрел. Больших ран не видно было. На лбу и на виске кожа рассечена, да не глубоко. Видно, скользнула лишь сабля. А вокруг левого глаза черно совсем, и глаз весь запух.
– Ну, ты его не тревожь пока, – сказал Карп Лукич Михайле. – Как проснется, сыми с него лохмотья-то, надень рубаху, хоть мою, и сведи в чулан. Пускай отоспится, а там поговорим мы с им.
X
Когда Степка опамятовался, оказалось, что у него не только глаз запух и не открывался, но и рука левая тоже распухла, и владеть ею он не мог.
Мавра Никитична поахала над ним, и Степка сам ревел, как дитя малое, что навек теперь калекой ему быть. Мавра Никитична пожалела его и, спросясь Карпа Лукича, позвала к нему костоправа. Тот, пощупав ему руку, сказал, что сломана, но то де не беда: починит он – прочней прежнего будет.
Взял лекарь Степкину руку, сказал: «держись», и потянул так, что Степка на всю избу взвыл. Потом пошептал над ней чего-то, привязал на дощечку и велел каждый день развязывать кропить наговоренной водой. Потом опять на дощечку привязывать и не шевелить. Месяца через два или три заживет все, рука что новая будет. Посмотрел он тоже глаз, велел накрыть подорожником и сверху мешочек малый с особой молитвой положить и, ни боже мой, месяц не снимать. Он тогда сам придет, снимет повязку, и глаз лучше прежнего видеть будет. Степка хоть и не вовсе поверил лекарю, а все немного поспокойней стал.
Карп Лукич пришел в поварню и велел Степке рассказывать все по ряду, как то вышло, что вора калужского до смерти убили. Степке сперва сильно обидно стало, что его царя, Дмитрия Иваныча, вором хозяин обозвал. Но ослушаться он не посмел. После Козьмы Миныча он одного лишь Карпа Лукича и опасался. Вовсе не такой человек, как Патрикей Назарыч. Не поспоришь с ним, и приступиться-то боязно. И все кругом боялись его, и сама Мавра Никитична, и приказчик. А уж про работных людей и говорить нечего, хоть он кормил их сытни почти что не наказывал. Которые говорили даже – лучше б уж по зубам дал али выпорол. А он поглядит лишь, так весь человек и заледенеет, словно его на морозе ледяной водой окатили. Неудобный человек.
Степка тоже ничего ему на «вора» не сказал, только с ноги на ногу переступил и пробормотал:
– Уж не знаю, как и сказывать, – память у меня вроде как отшибло.
– Ну, что памятуешь, говори. Чего тот Урусов на вашего царенка злобился?
– Отца его, царя касимовского [Один из мелких татарских царей – Прим. ред.], Дмитрий Иваныч велел казнить, что он своих татаровей к ему на подмогу не привел, с Жигмунтом стакнулся. Жигмунта еще с Тушина не взлюбил Дмитрий Иваныч, что от того ему настоящего почету не было. А уж как жил-то на Калуге Дмитрий Иваныч! Почище, чем в Тушине! – загорелся весь Степка. – Калуцкие ему все, что хошь, поставляли. Марина-то Юрьевна выйдет, – ух, сразу видать – царица: разнаряженная, что пава! А не гордая. Бояр к ручке допускала. И меня жаловала. – Степка с торжеством повел на Михайлу здоровым глазом.
– Ты про Урусова-то сказывай, – перебил его Карп Лукич.
– Урусов-то князь также на пирах бывал, – продолжал уж потише Степка. – И Дмитрий Иваныч вроде как жаловал его. А тот, вишь, злобу на его затаил, да не показывал. Все будто как с почетом до его. Дмитрий Иваныч то любил. Про царя касимовского и не поминал и на князя зла не имел. А тот, негодь, видно, не забыл. Вот раз день погожий такой выдался. То все слякоть была, ростепель. А тут морозец ударил, пороша за ночь выпала. Вот Урусов-то поутру рано пришел и говорит: «Хочешь, – говорит, – государь Дмитрий Иваныч, пополевать? Зайца ноне самая пора бить. У меня, мол, и собаки есть, и вся охота». Дмитрий Иваныч охоту страсть любил. «Ладно», говорит. И мне велел за собой ехать. Жаловал он меня: коня белого подарил, жупан белый атласный с позументами велел построить. Еще краше, чем в Тушине, – обернулся Степка к Михайле. – А свиты почитай никого и не взял. Марина Юрьевна спрашивает: «Почто, мол, охоту свою не берешь?» А он ей: «Да вот у князя своя есть. Мешать не по что. Еще передерутся ловчие». Поскакали мы. Урусов князь с Дмитрием Иванычем впереди. Я за ним, а там наших человек с пять, а то все татарове. Отъехали мы от Калуги с версту али поболе. Едем полем. Вдруг Урусов обернулся, крикнул чего-то своим татарам, а сам саблю вытащил. Дмитрий Иваныч и позвать никого не поспел, – он как махнет саблей над им, как рубанет, так голова и покатилась. Крик мы подняли. А татарове уж на нас кинулись, с лошадей тащут, саблями бьются. Обеспамятел я. А там очухался, гляжу – нет боле ни Урусова, ни татаровей его. Дмитрий Иваныч без головы лежит, и наши русские побиты все, в крови плавают. Испужался я. Гадаю, – видно, те-то полагали, что и я помер. Как бы де не вернулись да не прикончили. И в Калугу-то податься опасаюсь. Так я полагал, что, может, там уж татарове силу забрали и Урусова царем посадили. Вот я…
– Ладно, – сказал Карп Лукич, вставая с лавки. – Про себя иным разом скажешь.
Степка даже рот разинул. Неужто ему не любопытно, как он, порубленный весь, с Калуги до Москвы добирался? Путь-то не ближний. Иной бы и не добрался, а он, вишь…
Но Карп Лукич уж пошел с поварни и Михайлу за собой кликнул.
Обидно стало Степке, мало не заревел. Но тут Мавра Никитична к нему подошла, сказала, что притомился он, видно, чтоб полежать лег. Степке и правда после того словно как худо вновь стало. Лихорадка трепать почала. Михайла ходил за ним, как за сыном родным, и Мавра Никитична тоже жалела его. Степка что малый ребенок стал, не отпускал от себя Михайлу, плакал, хоть и не велел ему лекарь из-за глаз, просил Михайлу не серчать на него, что он, не спросясь его, убёг. Хотел на иконе побожиться, что больше из его воли не выйдет. Только Михайла не велел. Ну, как не удержится, бог за то не помилует.
* * *
Послал раз Карп Лукич Михайлу к Патрикею Назарычу – узнать, чего он долго не бывал, тихо ль у них все.
От них к Патрикею Назарычу путь не ближний лежал. Карпа Лукича изба в одном конце города стояла, близ Москвы-реки, а лавка его крайняя в рядах была. А Патрикей Назарыч у Неглинной жил, в том конце что к Сретенским воротам ближе. Весь Китай-город пересечь надо было.
Михайла уж на ту улицу свернул, где Патрикея Назарыча изба стояла, видит – из-за угла два мужика вроде нищие, вывернулись, бегут во всю прыть. Михайла остановился, они к нему бросились:
– Ой, беда нам! Ляхи за нами по пятам гонятся. Куда бы схорониться? Я тут знакомца одного ищу-Патрикей Назарыча… Да позабыл, где дом-то его.
– Да тут он и есть! – крикнул Михайла и, пробежав несколько шагов, открыл калитку. – Ступайте живо!
Впустил их, оглянулся, а из-за угла как раз ляшские стражники вывернулись. Он скорей запер калитку на щеколду, а сам на крыльцо взбежал и прямо на Патрикей Назарыча наткнулся. Сказал ему, каких гостей привел. Патрикей Назарыч тоже много не расспрашивал, выскочил во двор, махнул рукой и сказал:
– Лезьте живей на сеновал, да в сено заройтесь. Погодим, – может, и не зайдут. А ты, Михайла, запри их на замок.
Путники тотчас влезли по приставной лестнице на сеновал над конюшней, Михайла задвинул засов, повесил замок, запер и скорей вниз. Только лишь поспел он ключ Патрикею Назарычу подать, как в ворота застучали.
Патрикей Назарыч подошел, поднял щеколду и открыл калитку. Тотчас в нее два польских стражника ввалились и с ними московский караульный.
– Кто к тебе тотчас во двор вошел? – спрашивает караульный. – Мы только лишь из-за угла вышли, видим – у тебя калитка хлопнула.
– А я вошел, – отвечает Михайла. – Аль не велено к суседям ходить?
Караульный спрашивает хозяина, что то за человек. Кому де можно, а кому и нет.
– То работник кума моего, гостиного сотника Карпа Лукича, пришел за белой мукой. Не намолото у них.
– Карпа Лукича? – переспросил караульный. – Ну, то человек ведомый.
Он повернулся к ляхам и стал им, хотя и не очень, видно, складно, объяснять про Карпа Лукича. Они ему что-то по-своему застрекотали. А он еще спрашивает Патрикея Назарыча, не видал ли он двух мужиков, вроде нищих, что от них убегли и на ту улицу своротили.
– Я видал, – вмешался Михайла. – Как я сюда шел, на встречу мне попались, шибко куда ни то бежали, спросили, где де Красная площадь. Я сказал, они и побегли дальше.
Караульный снова перевел ляхам. Те посоветовались между собой, недоверчиво оглядели двор. На всех воротах замки висели. Велели караульному еще раз спросить хозяина. Патрикей Назарыч только головой затряс не видал, дескать.
– Пойдемте, панове, на Красную площадь. Может, там кто приметил.
Поляки с неохотой вышли со двора и караульный с ними.
Михайла и Патрикей Назарыч поглядели друг на друга. Патрикей потер сухими ладошками и сказал весело:
– Ловко ты их, Михалка! Надо быть, не вернутся. Иди выпускай бродяжек тех. Верно, страху натерпелись. Один-то по обличью будто знаком мне, а другого не знаю. Веди их в избу. Я Лукерье скажу, чтоб покормила их. Небось, голодные.
Михайла влез на лестницу, отпер дверь сеновала и позвал путников в избу. Они вылезли из сена, отряхнулись и спустились во двор.
Патрикей Назарыч встретил их на крыльце.
– Да ты ж Овсей Кузьмич с Ярославля, – сказал он одному из них. – Вижу, что обличье знакомое, а как ты ровно побродяжка – с котомочкой, в мужицкой одеже, – сразу-то и не признал. А вот товарища твово не признаю.
– То мы лишь в пути повстречались. С Вятки он. Вдвоих они ехали на лошадях. Тоже ляхи напали. Лошадей забрали и товарища в полон забрали. А Микита Силыч пеший пошел добираться. В Переяславле на постоялом дворе сошлись да вместях и побрели. В дороге-то бог хранил, а тут на Москве мало ляхам в руки не угодили. Спасибо – добрый человек выручил, – обернулся он к Михайле, да и ты, Патрикей Назарыч. Я-то к тебе и шел да к Карпу Лукичу. Не тихо у нас на Ярославле. Больно ляхи нас обижать почали. Всю зиму нонче покоя от них не было. Рать за ратью присылали, всё за поборами. То им коней подай, то кормов, то хлеба. Вовсе разорили город, и защиты неоткуда ждать. Вот мы под Рождество и собрали собор и учали думать, как тому пособить. Прослышали, что и на Москве-то не лучше. И положили мы, чтобы не быть панам на Москве и во всех городах Московского государства. И чтоб царя на место Василья Иваныча посадить, а то порядку не стало. И ляхи зорят, и торговлишка как есть кончается. По дорогам ни пройти, ни проехать: то ляхи, а то, прости господи, и наши непутевые – шиши аль еще казаки озоруют. Терпежу нет. Все царство замутилось. Надо кому ни то выручать. И порешили ратников набрать и на Москву весть. И на том крест целовали. И стали по иным городам гонцов слать – и в Казань, и в Пермь, и в Соль Вычегодскую, и по иным городам, чтоб ратных людей сбирали и на Москву посылали.
– А города что? – спросил Патрикей Назарыч.
– Да вот с тем меня на Москву и послали, чтоб повестить, что ноне под Москву с разных концов рати идут: и с Рязани – Прокопий Ляпунов ведет, и с Суздаля да с Владимира с Измайловым да с Просовецким идут, и с Вологды с Нащокиным, и с Костромы с Мансуровым. А у нас на Ярославле, кроме наших ратных людей, еще московских стрельцов, что ляхи с Москвы посылали по городам, пять сотен стоят, ждут лишь, как приказ выйдет на Москву трогаться. А уж под Москвой стали нам встречу беглые попадаться, порассказали нам, что тут у вас деется.
– Вот то добрая весть, Овсей Кузьмич! – сказал Патрикей Назарыч, потирая ладошки. – Мы и сами надумали гонцов по городам посылать, чтоб шли Москву выручать и за веру православную постоять. А ты, Микита Силыч, с чем пожаловал? – обратился Патрикей Назарыч ко второму гонцу. Вятич, приземистый, с маленькими раскосыми глазами, поглядел на Патрикея Назарыча и заговорил маленько нараспев:
– У нас иная справа, Патрикей Назарыч. В разор нашу землю разорили ляхи и казачья вольница. Коней свели, казну городскую ограбили. Вот мы к пермичам и послали гонцов, чтоб они нам ратных людей прислали Вятскую землю отстоять. А они нам с тем же гонцом отказ, что им ратных людей довольствовать нечем, и мы де сами свою землю от ворогов оберечь можем. Больно мы на их осерчали, Патрикей Назарыч, и им вновь грамоту послали. Вот список у меня с собой. Послали меня с товарищем на Москву, чтоб ту грамоту показать и с пермичами рассудить. И он вынул из-за пазухи свиток.
– Что ж вы им писали? – спросил Патрикей Назарыч.
– A писали мы им… – Маленькие глазки вятича засверкали, и он заговорил визгливым голосом, потрясая свитком: – что они самою глупостью то писали, да и не только что глупостью – пьянством. Что ж с нашим царством станет, как мы один одному помогать не будем, когда на Москве нехристи сидят и некому русские города защищать? Этак ляхи водиночку один город за другим разорят и все наше Московское государство себе заберут. Знаем мы, что у них на Перми ратные люди есть, собраны. То они казны лишь жалеют. С глупости аль с пьянства такое лишь ответствовать можно, – повторил он вновь.
Патрикей Назарыч поглядел на вятича, потом перевел глаза на ярославца, который слушал и головой покачивал.
– Вот что я тебе скажу, Микита Силыч, – начал он, – по моему разумению, и вы, и они не вовсе хорошо рассудили. Я так думаю…
Но в эту минуту в ворота изо всех сил загрохотали, и кто-то закричал с улицы:
– Эй, хозяин, отворяй живей!
– Ляхи те вновь! – крикнул Михайла. – Бежим живо Я вас на Неглинную выведу. Там до ночи схоронимся. А ты впусти их, Патрикей Назарыч, да задержима малость, пущай тут ищут.
Михайла, а за ним путники перебежали через сени в холодную избу, а там в поварню и в черные сени. В поварне Лукерья Фоминична у печи возилась, Маланья ей помогала. Михайла за разными делами вовсе позабыл про Маланью, ни разу и не навестил ее, и теперь лишь краем глаза увидал ее, даже кивнуть не поспел, – не видал, как зарделась она вся и за грудь схватилась. Они сразу кинулись с черного крыльца на задний двор и на огород. Пригибаясь к грядам, чтоб не увидал их кто, пробежали они огород, перелезли через плетень и кубарем скатились под горку на Неглинную, где на ту пору бабы белье полоскали.
– Коли ляхи прибегут, – крикнул Михайла бабам, – не сказывайте, что видали кого!
И помчался берегом за кустами против воды, к городскому валу. Путники за ним. Только когда они уже далеко отбежали, остановился Михайла и сказал:
– Ну, вот тут в кустах и посидите, покуда смеркаться начнет, а я проберусь к Карпу Лукичу, погляжу, тихо ль там. Сказал ведь я ляхам, что от него пришел. Как ночь настанет, я за вами приду, а может – и Карпа Лукича приведу. Вот пообедать не поспели вы. Чай, голодные?
– Про то что говорить, осталось кое-что в котомках. Лишь бы ляхи не сыскали.
– Никто как бог, – сказал Михайла, – а думать над – не сыщут.
Михайла добежал до Карпа Лукича и рассказал ему про все. Хозяин похвалил его и порешил, что до ночи, наверно, Патрикей Назарыч придет, поведает, что ляхи. Коли умирились, так Михайла добежит и приведет сюда гонцов. А нет, выведет их за город, передаст, что они тут с Патрикеем надумают, и пущай по своим городам бредут. Здесь им оставаться не рука.
Патрикей Назарыч, правда, пришел, как смеркалось уж. Задами пробрался. Рассказал, как ляхи ворвались, что гончие псы. Накричали на него. Принялись шарить по клетям, по амбарам да по сараям. А Лукерья Фоминична догадалась: стол в горнице накрыла, вина принесла, вышла на крыльцо и, будто как ничего не ведает, говорит: «Пожалуй, Патрикей Назарыч, обедать и гостей зови».
– А я, – продолжал Патрикей Назарыч, поклонился им и говорю: «Хозяйка обедать зовет. Не обессудьте, мол».
Дальше Патрикей Назарыч рассказал, как они с хозяйкой наперебой гостей угощали. Спросил он их, с чего они за теми бродяжками погнались, аль стащили чего. А они сказывают, что велено им бродяжек хватать и к самому пану воеводе представлять. Пока сказывали они, а караульный объяснял, он им всё вина в кубки подливал, и наконец того вовсе упились они и поверили ему, что и в глаза он тех бродяжек не видал. Видно, на постоялом дворе где пристали. Мало ль на Москве постоялых дворов. Может, они вины за собой никакой не чуют, так и не опасаются. Наутро, мол, обойти все постоялые дворы, – наверно, найдутся. Не иголка, чай.
Ляхи ране лишь головами качали, всё за сабли хватались, хотели бежать догонять. А они их знай потчуют. До того упились – еле из-за стола повылезали. Куда им искать, до Кремля бы лишь добраться да смениться. А там завалятся спать, до утра проспят. Обсудили и порешили, что можно тех гонцов привести, покормить, обо всем расспросить. Ярославцу сказать, чтоб скорей разных людей вели. А вятичу сказать, что зря они с Пермью свару затеяли, хоть, ведомо, пермичи не дело ответили. Что не Вятскую землю защищать ноне надобно, а все Московское государство. Чтоб они сами ратных людей, сколько возможно, со всего их края к Москве вели. А с Москвы на Пермь гонца пришлют, чтоб и они ратников сюда посылали.
Михайла привел гонцов. Они поели, выслушали, что им Карп Лукич сказывал, и ночью же пошли в обратный путь. Карп Лукич послал проводить их не Михайлу а приказчика своего Ферапонта. Тот Москву, что свой кошель, знал и лазейки такие ведал, чтоб из города выбраться мимо всех застав.
Как они ушли, Карп Лукич с Патрикеем Назарычем стали говорить, что боле ждать нечего. Надо Михайлу поскорей справлять в Нижний Новгород, а оттуда в Пермь Великую к Пятому Филатову. А допреж того надо великому патриарху как ни то пробраться и от него грамоту добыть. И не прямо в Новгород Михайле итти, а коли впрямь под Москвой рати стоят, так к Прокопию Ляпунову в стан пробраться и ему про Москву рассказать и грамоту их показать. Может, он и от себя кого пошлет.
На том и порешили.
А на другой день пришел к ним Патрикей Назарыч туча-тучей. Подумали они было, что гонцов тех, что Ферапонт вывел, за городом вновь словили, а он совсем о другом. Разузнал он про великого патриарха, как ляхи над ним издеваются. И московские бояре, коих ляхи в боярский сан возвели, тоже, ровно нехристи. Пришли вчерашний день к святому владыке скопом, а Михалка Салтыков, ляшский угодник, почал выговаривать великому патриарху: «Ты, мол, писал еси по городам, чтоб они к Москве шли, а ноне пиши, чтоб вспять ворочались, не то худо де тебе будет». А патриарх Гермоген ему на то в ответ: «Ах ты, сукин сын! Ты, что ль, видал, как я им грамоты писал? Не было того, и ноне писать не стану. Вот коли ты, страдник и изменник Михалка, со своими собачьими ляхами с Москвы уберетесь, тогда я им не велю ходить. А покуда вы на Москве сидеть будете, и им всем велю помереть за православную веру. Невмоготу мне латинское козлогласенье слушать и православным церквам от ляхов поношенье да паскуденье видеть».
А Михалка Салтыков почал святого владыку соромными словами лаять. И как его лишь огнь господень не пожрал, изверга.
– И с тем, – продолжал Патрикей Назарыч, – увели они от великого патриарха всех его дьяков и служек и своих приставов приставили, чтоб до его никого не пускать, чтоб он чего ни то не передал.
Михайла слушал, и злоба в нем такая подымалась, что попадись ему Михалка Салтыков, он бы его своими руками задавил.
А Карп Лукич сказал:
– Знаю я, что патриарх за приставами сидит и никого до его не допускают. А нам без его грамоты и благословенья никак нельзя. Вовсе по-иному нашу грамоту слушать будут, коли с патриаршего благословенья. Думал я, думал, как до него добраться, а вечор поглядел я на твоего Степку, и вот мне что на ум пришло.
Михайла с удивлением посмотрел на него.
Карп Лукич подробно рассказал ему, как надо с ляхами говорить, чтоб пропустили они к патриарху. Михайла с сомненьем смотрел на Карпа Лукича. Не суметь ему ляхов вкруг пальца обвести. Народ они дошлый. А спорить с Карпом Лукичом тоже не посмел он. Патрикей Назарыч головой кивал и ручки потирал, словно хотел сказать: «Голова!»
– А коли пропустят, – сказал Михайла, – что я великому патриарху скажу? Может, он и слушать меня не похочет.
Похочет, – уверенно произнес Карп Лукич и подробно объяснил Михайле, что он патриарху Гермогену должен сказать и о чем его просить.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?