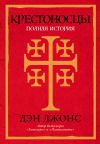Текст книги "Деревянный ключ"

Автор книги: Тони Барлам
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Тони Барлам
Деревянный ключ
Посвящается моей любимой Алисе, без которой ничего бы не было.
Автор выражает глубокую признательность своим друзьям – nutlet, heruka, phago_lov, ptrue, dscheremet, amigofriend и reznik за неоценимую помощь в написании этой книги, а также своим родителям – за поддержку и вообще за все хорошее.
Часть первая
Город Х быстро погружался в темноту – солнце медной каплей сползло по небосклону в густую морскую солянку, растеклось по глади и в мгновение ока растворилось, выделив напоследок немного яблочно-розового сияния. Теплый ветер, словно бедуин-разбойник, тотчас поднялся из-за окрестных холмов, завыл, налетел, собирая с испуганных деревьев лиственную дань, согнал с неба конкурирующих птиц, подхватил наш волан и хулигански зашвырнул его на огромный развесистый фикус.
Игра в бадминтон в сумерках и без волана, несмотря на несомненную концептуальную свежесть, нам скоро прискучила, и мы с Ломийо де Ама стали от нечего делать перебрасываться идеями – блестящими и оттого хорошо различимыми даже в сумерках.
Тут надобно сказать, что настоящее имя моего друга – Михаэль, а Ломийо де Ама он сам себя называет из горделивой скромности – звучит загадочно и аристократично, а в действительности означает на одном древнем языке «не бог весть кто». Хотя верно, скорее, обратное, ибо по специальности Михаэль – папиролог[1]1
Папирология – научная дисциплина, изучающая тексты на папирусах. – Ред.
[Закрыть]. В тот памятный день, когда началась вся эта история, он праздновал подачу своей докторской диссертации о пяти томах общим весом около тридцати фунтов, и, разумеется, поначалу наш разговор крутился вокруг знаменательного события.
– И как же себя чувствует человек, сваливший с плеч такую ношу? – поинтересовался я после подобающих случаю поздравлений.
– Что тебе сказать, – задумчиво ответил Ломийо. – Наверное, он чувствует себя как Сизиф, который по недосмотру богов умудрился-таки закатить камень на гору и теперь пытается сообразить, что же предпринять дальше. Тем более, что его камень на вершине никому низачем не сдался – там таких и без того завались.
– Да, обидно сознавать, что твой труд в целом мире способны прочесть три человека, включая тебя, а понять и оценить – и того меньше, – посочувствовал я. – Но ты сам виноват в отсутствии широкой аудитории! Интересные темы нужно подавать увлекательно, популярно. Читателю надо время от времени скармливать морковку лирики, а не лупить безжалостным погонялом логики по натертому сухими фактами хребту сознания!
– Ты полагаешь? – спросил слегка ошалевший от моих метафор Ломийо, пробуя вообразить лирический корнеплод в своем научном труде.
– Уверен, – безапелляционно заявил я. – Уж если браться за столь гнусное дело, как бумагомарание, то только так и никак иначе. Я и сам подумываю что-нибудь эдакое написать и, поверь мне, знаю, как буду действовать, когда найду достойную тему.
– Допустим, у меня есть для тебя такая тема… очень хорошая тема. – Глаза Ломийо загорелись опасным светом, опрометчиво принятым мною за отблеск неожиданно включившегося паркового фонаря.
– И чего ты хочешь взамен? – Я беспечно поплыл на свет.
– Ничего особенного, – махнул он рукой, – я тебе ее задаром отдам. Но при одном условии.
– Каком? – Я заглотил наживку.
– Потом скажу. Сперва ты расскажи мне, как собираешься писать свой бестселлер!
– Ну, это все же будет во многом зависеть от темы! – Я попытался отработать задний ход, не осознавая, что уже сижу на крючке.
– Ты же уверял, что наперед знаешь! – аккуратно вывел меня на чистую воду Ломийо. – Вот и давай, выкладывай! Или ты просто так трепался?
– Ничего не просто так! – Я затрепыхался в сачке. – Во-первых, это должен быть триллер с захватывающим сюжетом. Тайны, интриги, загадки, древние манускрипты, шифры, коды, шпионские страсти, нацисты, Тибет, какие-нибудь тамплиеры, Святой Грааль…
– Розенкрейцеры[2]2
Розенкрейцеры – члены возникшего в XVII веке тайного общества «Братство Розы и Креста», оккультная организация.
[Закрыть].
– Обязательно.
– Но ведь таких книжек пруд пруди!
– Плохих. Хороших – по пальцам перечесть. И если всё это издают в огромных количествах, значит, подобное чтиво пользуется неизменным спросом. Хитрость заключается в том, чтобы в жестких рамках жанра сделать что-то необычное.
– Согласен. Излагай дальше!
– Во-вторых, конечно, про любовь.
– И секс? – уточнил Ломийо.
– Куда уж без этого в наши времена? В-третьих, экшн. Слежки, схватки, бегства, погони и тому подобное. В-четвертых, несколько сюжетных линий, и желательно – в разных эпохах. В-пятых, в пропорции юмора и трагизма. В-шестых, правдоподобие. Выдумка должна опираться только на достоверные исторические факты так, чтобы невозможно было ее опровергнуть. Ну, и побольше мелких интересных деталей, в-седьмых. Вот, кажется, все.
– А герои? Какими будут главные персонажи?
– Положим, их должно быть трое, нет, лучше четверо – трое мужчин и одна женщина.
– Лучше для чего?
– Для разнообразия психологических типов и ситуаций. Женщина, конечно, редкая красавица. Ее возлюбленный – славный парень, интеллектуал, но не размазня. Его друзья – ему под стать, крепкие, надежные ребята, с интересной судьбой. Один очень большой, а второй – наоборот.
– Это почему?
– Ну не могут же оба быть очень большими!
– Логично.
– Но тот, который маленький, он тоже особенный… Тут надо придумать что-то экзотическое…
– Инопланетянин?
– Вроде того. Китаец. Или какой-нибудь другой азиат. Такой, знаешь ли, добрый дедушка Лю с бровями и железными пальцами, как в гонконгских боевиках. Экзотика экзотикой, но людям нравятся привычные типажи.
– Тогда здоровенный должен быть черным.
– Вот это уже перебор. Тем более, что уже было. Пусть лучше будет еврей. Еврей и китаец – это свежо. Вот такая схема. Теперь гони свою идею!
Ломийо де Ама изобразил на лице мучительное раздумье.
– Знаешь, я хотел поставить тебе условие писать строго в тех рамках, которые ты сам определишь, но теперь я сильно сомневаюсь, что мою тему возможно в них загнать. Боюсь, тебе не справиться.
– Нет такой темы, которую нельзя было бы загнать в любые рамки! – самоуверенно заявил я. – Все дело в умении трактовать. Ты что, не веришь в мои силы? Давай тему и увидишь, как и куда я ее загоню.
– О’кей, – согласился он. – Значит, условие остается в силе. А идея как раз о трактовании. Я много думал о том, что, в принципе, из любого литературного текста можно извлечь что угодно. Например, можно объявить сакральной книгой сказку про Красную Шапочку.
– Ну, это не то чтобы очень новая мысль. В чем гениальность твоей темы?
– Я не говорил – гениальная, я сказал – очень хорошая. Известно, что ни одна сказка не возникает на пустом месте. Ей всегда предшествует какая-то легенда, а легенда, в свою очередь, уходит корнями в глубокую древность, когда излагаемые в ней события были реальными. За века смысл реальной истории искажался настолько, что зачастую менялся на ровно противоположный. Идея же моя такова: взять общеизвестную литературную сказку и придумать ей родословную.
– И какую сказку ты предлагаешь выбрать?
– Думаю, что лучше всего подойдет «Пиноккио». Она самая загадочная.
– Ты шутишь!
– Что, сдаешься?
– Я никогда не сдаюсь! Хотя сейчас мне этого хочется, как никогда, – признался я, почесав макушку. – Ладно, я попробую что-нибудь измыслить. В конце концов, ничто так не стимулирует изобретательность, как вынужденные ограничения. Но ты не думай, что уйдешь от ответственности.
– В каком смысле?
– Я тебе отомщу.
– Каким образом?
– Опишу тебя в книге.
– Не очень-то страшно. Валяй! Да, и вот еще что. Роман должен начинаться со слова «город», а заканчиваться словом «жизни».
– А это еще почему?
– Когда я думал, что буду писать сам, погадал на «Баудолино»[3]3
«Баудолино» – роман итальянского писателя Умберто Эко, повествующий о похождениях плута и стихийного мифотворца по имени Баудолино в христианском мире XII–XIII веков.
[Закрыть].
Город за стеклом похож на дорогие и громоздкие декорации, что соорудили триста лет назад и с тех пор не меняли, а лишь понемногу подлаживали под свежие сценические веяния. Но сейчас на пыльных подмостках разыгрывается самый ветхий сюжет – на них идет гроза.
Стекло между грозой и Мартином похоже на горячий сжатый воздух, которым нельзя дышать, но зато можно потрогать.
Прислонясь к нему головой, Мартин неудобно сидит на подоконнике и глядит на свое отражение в тучах. Тучи отражают человека, который любит смеяться, но давно не имеет для этого повода. На лице его присутствует полный набор морщин, положенный мужчине, разменявшему на размышления четвертый десяток. В те времена, когда Мартин умел шутить, он бы сказал, что с годами его извилинам стало слишком тесно внутри головы, вот они и вылезли наружу, и все мысли теперь написаны у него на лбу.
Лоб Мартина похож на бледное северное море, а волосы – на рыжий осенний лес, в котором море выточило два глубоких залива. Нос длинный, веселый и подвижный, ярко разукрашенный веснушками. Глаза же, напротив, серы и печальны – они не из тех, что готовы широко раскрыться перед незнакомцем, но прячутся подобно японским женщинам за ширмами век и веерами морщинок. Рот красив, но почти всегда перекошен – то из-за трубки, то из-за привычки покусывать нижнюю губу. Подбородок выдающийся, с ямочкой, не слишком-то тщательно выбритый. Уши оттопыренные и любопытные.
Из радио в уши Мартину льются расплавленной медью адские звуки литавр в соль-миноре, и он страдальчески морщится, но не находит в себе сил сдвинуться с места и выключить приемник, и лишь бормочет: «…Безумие… безумец… безумцы…» Наконец музыкальная лавина замирает, и в потрескивающем наэлектризованном эфире жизнерадостный баритон по-североамерикански сообщает Мартину, что он только что прослушал прошлогоднюю живую запись «Парсифаля»[4]4
«Парсифаль» – последняя музыкальная драма Рихарда Вагнера, написанная по мотивам легенд о Святом Граале. Сам автор называл ее «Торжественной сценической мистерией» и считал едва ли не религиозной церемонией.
[Закрыть] из «Метрополитэн Опера» в исполнении… – тут первая капля дождя майским жуком врезается в стекло, словно плевок, нацеленный небом прямо в Мартинов глаз. Рефлекторно отдернув голову, Мартин теряет остатки равновесия и соскальзывает с подоконника. «Прекраснодушные идиоты! – тихо кричит он баритону, дважды стукнув кулаком по полированной крышке „телефункена”. – Неужели вы не понимаете, что это – война?» Не дожидаясь, впрочем, ответа, отключает радио. Освободившуюся тишину тотчас заполняют жестяная чечетка капель, сдержанный кашель грозы и слоновий зов пароходов из гавани.
Глядя, как туча сизым корабельным бортом надвигается на окно, Мартин рассеянно набивает трубку. «Великан Суртр[5]5
Суртр (Черный, смуглый) – в германо-скандинавской мифологии – владыка южной страны Муспельхейм, великан с огненным мечом, которым во время битвы богов Рагнарёк он срубит мировое древо Иггдрасиль и тем положит начало гибели мира.
[Закрыть] придет с юга, убьет Фрейра и спалит все и вся огнем к такой-то матери. Ну да, ну да…» – говорит он еле слышно. Резкое дребезжание звонка входной двери заставляет его вздрогнуть. Табак сыплется на ковер. Пес поднимает огромную лобастую голову и внимательно смотрит на хозяина. Мартин пожимает плечами, сует трубку в карман куртки и направляется в прихожую. Пес вскакивает с лежанки и следует за ним, громко сопя и стуча когтями по паркету. Он поспевает как раз вовремя, чтобы просунуть свой любознательный нос из-под хозяйского локтя в раскрывающуюся дверь.
В полумраке на лестничной площадке стояла Мари – не такая, какой Мартин помнил ее, а такая, какой она должна была бы стать теперь, десять лет спустя. Мартину показалось, будто вся кровь раскаленным молотом ударила ему в голову, легкие окаменели, а руки и ноги, наоборот, сделались соломенными и бесполезными, как это бывает во сне перед бегством или поединком. Он схватился за ошейник собаки и попытался вдохнуть.
Но тут призрак заговорил низким, хрипловатым незнакомым голосом – и в тот же миг судорога отпустила мозг Мартина, и кровь унялась и вернулась восвояси, оставив по себе металлический привкус внезапного страха во рту и звон в ушах, из-за которого Мартин не разобрал ни единого слова. «Успокойся! – приказал он себе. – Это не может быть Мари. Мари умерла – ты знаешь лучше, чем кто-либо другой. Эта женщина просто очень на нее похожа, и даже, возможно, не очень. Здесь темно. И голос совсем другой».
Залп молнии за окном на мгновение обдал синеватым светом лестничный пролет, сделав все вокруг монохромным и плоским, как фотография, и Мартин увидел, что женщина снова что-то говорит ему, – но на сей раз ее слова утонули в грохоте, от которого зазвенели стекла, – было похоже, что туча-корабль налетела днищем на дом. Раскат грома был так долог, что Мартин успел немного отдышаться и прийти в себя:
– Простите, пожалуйста, фройляйн! Я опять не расслышал, что вы сказали, – проговорил он, виновато улыбаясь, как только стало тихо. – Но не угодно ли вам будет войти? Вы совершенно промокли, а гроза вряд ли закончится скоро.
Мартин двинулся вперед и вбок, чтобы освободить проход, и лишь тогда ощутил ноющую боль в пальцах, вцепившихся в ошейник. «Как в соломинку. Да что же это со мной?» – с досадой подумал он и, притворившись, будто попросту придерживает пса, свободной рукой изобразил некий жест, который можно было бы истолковать как приглашающий.
Женщина покачнулась на месте в такт этим движениям, словно от ветра, затем коротко кивнула и вошла. От нее исходил ощутимый на расстоянии жар, а все ее тело вибрировало, как рояльная струна. Открытые до середины плеч тонкие руки, прижимавшие к груди какой-то жалкий узелок, были покрыты гусиной кожей. Спутанные прядки золотисто-рыжеватых волос прилипли ко лбу, широко же распахнутые темные глаза были влажны. «Без шляпки, без сумочки и, по всей видимости, совершенно больная, – констатировал в уме Мартин, входя следом и запирая дверь. – Интересно, что ей от меня нужно? Верно, не сорок тюфяков и одна горошина. Здесь никто не знает, что я врач. Странное дело». Он провел незнакомку в гостиную и усадил в кресло. Женщина позволила укрыть себя пледом, но сидела напряженно, держа свое небогатое имущество на коленях. Пес подошел к ней, вдумчиво обнюхал ее ноги и тут же с тяжелым вздохом бухнулся на ковер.
– Прежде чем мы начнем говорить о деле, которое привело вас ко мне, милая фройляйн, осмелюсь предложить вам согревающего питья, – не терпящим возражения тоном заявил Мартин и удалился в кухню, стараясь не смотреть на гостью.
«Кстати, почему ты так боишься взглянуть ей в глаза? Отчего ты так струсил? Разве тебе еще есть что терять? Или тебя пугает это случайное совпадение? – спрашивал он себя, яростно измельчая корицу, и сам себе отвечал: – Вздор, случайных совпадений не бывает, так что это либо не совпадение, либо оно неслучайно. А боишься ты снова впустить страх в свою жизнь. Не потерять, а приобрести. Но это все пустое – закончится гроза, она встанет и уйдет, ведь она здесь, скорее всего, по ошибке!»
За те несколько минут, что Мартин возился на кухне, женщина не изменила позы, только обхватила руками плечи, точно пыталась удержать свое тело от лихорадочных подергиваний. Услыхав шаги за спиной, она резко – как-то чересчур резко – обернулась, и Мартину снова стало не по себе – на сей раз от той безнадежности и растерянности, которую излучали ее больные глаза. Он почти выдержал этот взгляд, постаравшись ободряюще улыбнуться в ответ, и с таким видом протянул перед собой затейливо украшенную глиняную кружку, словно под ее крышкой и впрямь находилось решение всех житейских проблем, как утверждала готическая надпись сбоку.
– Здесь яблочный настой, корица и еще кое-какие ингредиенты – весьма полезное жаропонижающее средство. Выпейте, пожалуйста!
Женщина выпростала руки из пледа, взяла кружку, не отрывая взгляда от Мартина, и сказала глухим неровным голосом, сквозь который пробивались клокочущие хрипы:
– Благодарю вас и прошу извинить за беспокойство.
Тут свирепый, как цепная собака, кашель вырвался из ее груди, и ей потребовалось не меньше минуты, чтобы усмирить его. Пес, до сих пор лежавший в полной прострации, вскочил, несколько раз утробно взлаял и снова лег.
«Охохох, это очень напоминает двустороннюю пневмонию. А вот она не похожа на немку. Говорит правильно, слишком правильно, по-гимназически, и этот легкий акцент… Полька? Нет, пожалуй, не полька…» – размышлял Мартин, но гостья, откашлявшись, сама разрешила его сомнения:
– Я ищу Йозефа Розенберга. Это брат моего отца, он должен был жить с семьей по этому адресу.
«Так вот оно что! Дело-то еще более странное, чем я мог предположить!» – подумал Мартин, а вслух произнес:
– Увы, мы с Докхи, – он указал подбородком на пса, – единственные обитатели этой квартиры. Ваш дядя, с которым я не имел случая познакомиться, почти два года назад продал ее мне через посредника и уехал то ли в Палестину, то ли в Боливию. Видите ли, климат в нашем городе в последнее время стал очень нехорош для евреев, – завершил он упавшим голосом, увидев, как на глаза собеседницы набежали слезы.
– О, боже мой! – прошептала она, зажмурившись, отчего несколько капель гулко кануло в нетронутое питье. – Что же мне теперь делать?
Как любой мужчина при виде женских слез, Мартин запаниковал:
– Ох, ради бога, не отчаивайтесь, фройляйн! Все это, конечно, непросто, но мы что-нибудь придумаем! В городе еще остались евреи – я лично знаком с несколькими стариками тут неподалеку и завтра же наведу справки. Уверен, что кто-то из них подскажет, где искать вашу родню. А вы покуда…
На этих словах женщина мотнула головой, поставила кружку на столик и попыталась встать, но вместо этого неправдоподобно тихо, как снег, упала навзничь.
– …останетесь у меня, – по инерции договорил Мартин, остолбеневший от неожиданности. – Вот черт, и я ведь даже не знаю ее имени!
Мартин осторожно поднимает на руки обмякшее тело и, подивившись его легкости, укладывает на кожаный диван. Некоторое время стоит над ним в задумчивости, покусывая губу. Наклонясь, берет за тонкое запястье безвольно откинутую левую руку, с удивлением отмечает въевшуюся в поры угольную пыль, прикрыв глаза, с минуту слушает пальцами пульс, поочередно поднимая и опуская их, будто играет на флейте. Затем прямо через платье постукивает пальцами другой руки по грудной клетке, как бы в такт услышанной мелодии. Лицо его при этом делается совершенно бесстрастным и чуть ли не мечтательным. Потом он решительно идет к телефону и, полистав записную книжку, накручивает диск.
Через десяток секунд из трубки доносится по-военному четкое:
– Гёбель у аппарата!
– Бруно, здравствуйте! Это Мартин Гольдшлюссель.
– Рад вас слышать, герр Гольдшлюссель! Чем могу быть полезен?
– Вы меня чрезвычайно обяжете, Бруно, если сейчас же пошлете самого резвого своего мальчика на Мюнхенгассе к Берте с просьбой немедленно прийти ко мне, несмотря на дождь. Мальчику дайте, пожалуйста, десять гульденов и запишите на мой счёт.
– Будет сделано, герр Гольдшлюссель! Что-нибудь еще?
– Нет, это все. Благодарю вас, Бруно. До свидания!
– Желаю здравствовать!
Мартин аккуратно возвращает трубку на рычаг, подходит к своей нечаянной пациентке, некоторое время прислушивается к ее дыханию, берет блокнот и карандаш, садится рядом с диваном и углубляется в составление какого-то списка.
Берта Брушке, крепкая старуха из грубых меннонитов[6]6
Меннониты – последователи учения Менно Симонса (1496–1561), голландского священника, отрекшегося в 1536 году от католической доктрины в пользу анабаптизма, который он, впрочем, принял не полностью. Так, в частности, он отрицал политическую роль церкви, в отличие от проповедников анабаптизма Томаса Мюнстера и Иоанна Лейденского. В XVI веке меннониты подвергались жесточайшим гонениям не только со стороны властей, но даже и простого народа – за отказ от присяги, военной службы и крещения детей, и вынуждены были отправлять культ тайно, под страхом смертной казни. Причиной раскола внутри меннонитской общины явилось отношение к отпавшим от церкви слабых духом. Либеральные меннониты, призывавшие к прощению отступников, в результате яростной дискуссии были изгнаны из лона церкви и обособились в отдельное течение, получив название «грубых меннонитов». По иронии судьбы при размежевании сам Симонс оказался в их числе и, уступив давлению со стороны радикально настроенных верующих, прозванных впоследствии «утонченными», вынужден был примкнуть к ним и предать анафеме либералов, о чем сожалел до конца жизни.
[Закрыть], не терпит обращения «фройляйн». «В мои года зваться девицею стыдно, а уж коли стать фрау меня Господь не сподобил, так пущай и буду просто Берта», – говорит старуха со своим неподражаемым остзейским акцентом. Она появляется через полчаса, обстоятельно встряхивает зонт перед дверью, не обращая внимания на протесты хозяина, снимает в прихожей мокрые ботинки и в одних чулках вдвигается в гостиную. Моментально изучив мизансцену, она поворачивается к Мартину и вопросительно приподымает бровь.
Тот заходит издалека:
– Дорогая Берта, мы знакомы уже два года, и должен сказать, что в городе нет человека, которому я доверял бы больше вас. Но дело тут настолько серьезное и опасное, что я обязан попросить вас держать все в секрете, вне зависимости от того, согласитесь ли вы мне помогать или нет. Хотя, конечно, в вашем случае совершенно излишне говорить об этом.
Берта обиженно поджимает губы так, что лучики морщинок вокруг них кажутся стежками суровых ниток, стягивающими рот намертво, и становится ясно, что говорить и впрямь излишне.
– Простите, Берта, я сморозил глупость.
– С кем не бывает, – удовлетворенно кивает старуха.
– Я вот о чем… Всем известно, что вы одна из немногих, кто продолжает покупать продукты у евреев, не боясь молодчиков из СА[7]7
СА – штурмовые отряды (Sturmabteilung) НСДАП, так называемые коричневорубашечники. Сыграли важную роль в установлении нацистской власти в Германии. После «ночи длинных ножей» 1934 года утратили политическое значение.
[Закрыть].
– Чтобы я энтих дерьморубашечников, прости господи, боялась? – возмущается Берта. – Я чего боюсь, так это как бы мне на том свете иск не вчинили за то, что им, поганцам, на свет родиться помогала, по задницам их шлепала, чтоб задышали. Дай мне волю, я б той самой рукой, – и она машет перед Мартиновым лицом той самой широкой крестьянской рукой, похожей на краюху черного хлеба, – так бы нынче по задам отшлепала, что обратно б дух из их повышибла!
Воображение тотчас рисует Мартину картину: Берта на ратушной площади выбивает дух из гауляйтера[8]8
Гауляйтер – высший функционер НСДАП. Гауляйтер Форстер активно проводил нацифицикацию в вольном городе Данциге.
[Закрыть] Форстера, спустив с него штаны, – получается настолько убедительно, что он хихикает. Старая повитуха, разойдясь не на шутку, набрасывается на него:
– Чего смеетесь? Кабы было б в городе с дюжину таких, как я, мы б вам, мужикам, показали, как с ими разговаривать надо!
– Право, Берта, если Господь пощадит этот город, то только потому, что в нем нашлись два праведника: вы и Густав Пич[9]9
Густав Пич (1893–1975) – немец, ветеран Первой мировой войны, морской капитан, борец с национал-социализмом. Защитник евреев города Данцига в 30-х. Вместе с женой Гертрудой спас от нацистов несколько сотен человек. В 1938 году вынужден был бежать в Палестину.
[Закрыть].
– Вы меня с им не равняйте – он святой, а я – грешница. Оттого он теперича, сказывают, в Святой Земле обретается, а я – в энтом свинарнике. И хватит пустое молоть, говорите дело! Хотя я и сама вижу, что девка – нездешняя, больная. Денег и бумаг, уж конечно, нету. Уход ей нужен, а вам ее мыть-одевать негоже, потому как вы мужчина, хоть и доктор. Так?
– Одно удовольствие с вами дело иметь, Берта!
– Мне про то все доктора говаривали. Думаю, вам сейчас в аптеку надобно, так вы и идите себе, а я свое дело знаю. – С этими словами грозная старуха отворачивается к больной, давая понять, что разговор окончен.
«Грандиозная женщина!» – в очередной раз восхищается Мартин и отправляется за лекарствами. Хотя и не в аптеку, как предположила Берта, а совсем в другом направлении.
Место, куда отправился Мартин, находилось неподалеку. В доме на Ланггассе, на третьем этаже, была небольшая квартира, которую занимал один интересный человек, для окружающих представлявший собою одну сплошную неопределенность, – неопределенного возраста, неопределенной национальности, неопределенных занятий. Он был невысок ростом, темноволос, а лицом смахивал не то на китайца, не то на ещё какого-то азиата, но одевался по-европейски. По-немецки говорил безо всякого акцента и частенько пропускал кружку-другую «Золотого Артуса» в пивном ресторанчике Бодденбурга, что находился этажом ниже его жилища. И хотя мельхиоровая табличка на его дверях гласила «Др. Вольф Шёнэ», никто (за глаза, разумеется) иначе как «чертов китаец» его не звал – все после того случая, как Шлехтфеггеров сынок Гюнтер, из первых штурмовиков в городе, нарочно опрокинул на него кружку пива, сказав что-то вроде: «А после длинноносых возьмемся за косоглазых». А тот, как ни в чем не бывало, промокнул платочком манишку, смерил взглядом громилу и ответил ему так спокойненько: «Берегитесь воды!» И ушел, пока тот пытался сообразить, оскорбили в его лице арийскую расу или нет. И надо же такому случиться, что тем же вечером, катаясь по пьяной лавочке на мотоцикле, Гюнтер сверзился в Моттлау и утоп. Полиция, ясное дело, никакого состава преступления в том не усмотрела, а идти к китаезе за разъяснениями охотников не нашлось. Однако с тех пор лишь кельнер Хуго мог бы похвастаться, что иногда перекидывался с этим не пойми каких наук доктором парой фраз. Да только он был не из хвастливых и языком зря чесать не любил. В окрестных лавках Шёнэ ничего не покупал, даже газет, а все съестные и прочие припасы, видимо, доставлялись ему из порта посыльными, которые тоже разговорчивостью не отличались. Так и вышло, что общественностью на этой темной личности был поставлен гриф «Непонятное, но безопасное, если не трогать», после чего общественность успокоилась, и все контакты с «чертовым китайцем» были сведены к преувеличенно церемонным доброжелательным приветствиям и прощаниям, к вящему удовлетворению обеих сторон. На самом же деле доктор Вольф Шёнэ был вовсе никакой не китаец, хотя, среди прочего, знал толк и в китайской грамоте.
– Да, начало интригует, – сказал Михаэль, возвращая листы. – Только я не очень понимаю, отчего у тебя прошедшее время перемежается с настоящим. Такое чувство, словно читаешь то сценарий, то роман.
– Ты меня не поднимешь на смех, если я скажу, что так захотел текст? Тут удивительное дело – я пробовал переписать эти куски, но получилось значительно хуже.
– А ты не пытался разобраться, почему он этого захотел?
– У меня есть некое смутное предположение… трудно вербализуемое. Я, или, точнее, наблюдатель, еще не уверен в том, что это время – настоящее. Поэтому наблюдающий то и дело приотстает от него на долю секунды, за которую оно успевает сделаться прошедшим, как это всегда происходит с настоящим временем, а не исчезает, к примеру, вовсе. Возникает некий стереоскопический эффект, подтверждающий реальность движения. Вот как если на групповой фотографии фигура одного человека хотя бы чуточку смазана, у нас сразу возникает уверенность, что на снимке не манекены, а живые люди, понимаешь?
– Кажется, да.
– Ну вот, если использовать кинематографическую метафору, я только начинаю крутить ручку проектора, бобина – огромная, в силу инерции раскручивается медленно, поэтому на экране мы видим пока что не плавное действие, а быстро сменяющиеся фотографии. Я сижу в будке и смотрю не на экран, а на ленту, на кадры – то прямо сквозь них, то провожая их взглядом, как бы пытаясь мысленно ускорить движение. Как в медленно едущем поезде, да? А другого объяснения не нахожу. Но мы с тобой три недели не виделись, старик, а говорим о всякой ерунде. Где ты пропадал?
– В Германии. Со мной, как всегда, приключаются странные вещи. Ты знаешь, с моей специальностью работу в здешних университетах не найти. Диссертацию я дописал, стипендия вот-вот закончится, дела паршивые. И вот иду я по своей альма матер и вижу – стоит компьютер, а на экране – сайт по трудоустройству для академических люмпенов типа меня. Дай, думаю, попытаю счастья. Ввел свои данные – и тут же мне выдают одну-единственную вакансию – как для меня созданную. Но в Принстоне. Я подумал, что ничего не теряю, и отправил запрос. И ушел. А через полчаса вернулся, чтобы кое-что уточнить, а там уже этой вакансии нет. Ну, думаю, не судьба. А на следующий день получил приглашение от руководителя проекта – некоего Петера Шэфера – приехать на интервью…
– В Принстон?
– Нет, разумеется. На какую-то папирологическую конференцию в Бланкензее. Это недалеко от Берлина. Представь себе – замок в лесу, озеро, парк…
– Кормили хоть прилично?
– Сносно. Правда, заставили меня попробовать настоящий немецкий квак. Сказали: в Принстоне вам такого не подадут. Ну, я представил себе что-то болотно-зеленое, дрожащее на тарелке и внутренне тоже содрогнулся.
– А оказалось?..
– Дрожащее, но ядовито-розовое. На вкус эта слякоть напоминала плод алхимического брака бывшего йогурта с фригидной манной кашей. Но мне удалось изобразить на лице блаженство, которому позавидовал бы Святой Августин, – я искренне радовался, что в Принстоне такого не подают. А в остальном было прекрасно. Место удивительное и, я бы даже сказал, – мистическое. Вообрази себе обширный парк, уставленный копиями римских статуй времен династии Адриана, при входе – скульптурная группа из каких-то волхвов с восточным колоритом.
– И что тут удивительного и мистического?
– Во всем парке – ни одной птицы, кроме черных лебедей в озере, а по ночам я видел меж деревьев таинственные блуждающие огоньки.
– Ты просто чересчур впечатлителен, друг мой. А чей это замок?
– Берлинского университета. А раньше он принадлежал некоему Зудерманну. Говорят, известный писатель, классик.
– Зудерманн? Никогда не слышал.
– Смотрительница замка сказала, что он пропал в 1928 году.
– Как пропал?
– Я не очень-то понял. Знаешь, ее недоразвитый английский оставлял желать еще лучшего, чем мой увядший немецкий. Вот если б она по-древнегречески рассказывала…
Выйдя из дома, Мартин видит, что гроза сменилась простым нудным дождем. Он раскуривает трубку, поворачиваясь кругом так, будто пытается стать к ветру спиной, и, удерживая раскрытый зонт плечом, внимательно осматривается. Серая, точно нарисованная поплывшей тушью, улица безлюдна и беззвучна. Возле соседнего дома мокнет незнакомый и тоже серый автомобиль. Мартин спускается по лестнице. Какой-то долговязый молодой человек выскакивает из дверей у него за спиной и прыжками через две ступеньки несется вниз, придерживая одной рукой шляпу, а другой – стягивая отвороты пиджака, так что Мартин, обернувшись, не успевает разглядеть лицо бегущего. Человек обгоняет Мартина, лихо перемахивая через лужи, подлетает к машине и садится в нее с правой стороны. Тот, что был за рулем, тотчас заводит мотор и быстро рвет с места. «DZ восемьсот девяносто девять, – машинально запоминает номер Мартин, – год моего рождения». И трогается в путь в том же направлении, куда уехал автомобиль. Колокол Мариенкирхе начинает неспешно звонить, и последний его удар застает Мартина выбивающим затейливый ритм на двери с мельхиоровой табличкой и без электрического звонка.
Дверь отворяется скоро, будто хозяин стоял в прихожей, ожидая условного сигнала – во всяком случае, звука торопливых шагов из квартиры не было слышно. Мартин складывает ладони лодочкой перед грудью и кланяется:
– Здравствуй, Шоно!
– И тебе здравствовать, Марти! – поклонившись в ответ, говорит загадочный человек. – Извини, что заставил ждать, прикорнул четверть часика на диване. – И хитро щурит и без того узкие глаза. – Проходи и будь моим гостем, раз уж разбудил старика.
– Прости, но дело не терпело отлагательств, а телефона у тебя нет.
– Ты прекрасно знаешь, что я терпеть не могу всех этих новомодных штучек на электричестве, у меня от них вечно в голове гудит. Садись и выкладывай свое дело, а я пока что сделаю нам чаю. Тебе по-китайски или по-нашему? У меня есть очень хороший у-лун.
– Значит, по-китайски. – Мартин располагается на подушечке подле чайного столика и вытягивает из кармашка на груди давешний список: – Вот, взгляни и скажи, что ты про это думаешь.
Шоно мельком заглядывает в листок, кивает, потом идет ставить чайник на огонь и, вернувшись, садится рядом с гостем:
– Человек ветра и слизи – женщина – истощение – кашель – сильный жар – жидкость в легких, словом, как вы говорите, – воспаление. Ты все-таки как был, так и остался европейцем – слишком доверяешь классическим схемам. Я бы вместо этого и этого, – он водит по бумаге пальцем, – поставил бы ей иголки примерно сюда, сюда и вот сюда, – и тем же пальцем чувствительно тычет Мартина в разные точки тела. – А растирания с жиром отложил бы на пару дней. Но, думаю, ты и без моей помощи поставишь ее на ноги дней за десять… Хотя с моей поставил бы за неделю, – после небольшой паузы добавляет он и разражается сухим шелестящим смехом.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?