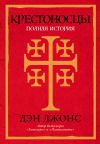Текст книги "Деревянный ключ"

Автор книги: Тони Барлам
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Мартин вяло улыбается в ответ. Шоно похлопывает его по колену, одним изящным движением поднимается на ноги и исчезает в кухне. Пока он отсутствует, Мартин бездумно разглядывает изысканный чайный прибор и понемногу погружается в дремотное состояние. Во сне он с удивлением видит, как улыбающийся Шоно протягивает ему коричневый гриб, и тут же, очнувшись, понимает, что это вовсе не гриб, а фарфоровая стопка с чаем, накрытая маленькой – размером с коленную – чашечкой. Он с поклоном принимает напиток, ловко переворачивает сосуды, зажав их в трех пальцах, вынимает стопку, вдыхает аромат.
– Очень хороший, – говорит он с чувством, – можно сказать, даже превосходный!
– Она красивая? – неожиданно спрашивает Шоно, легонько толкнув его пальцами в бок.
Мартин не спешит с ответом, сначала делает глоток из чашки.
– Она прекрасна, как вкус этого чая. Или ещё прекраснее.
– Поэтому ты не дышишь?
– Дышу я, дышу.
– Рыба на воздухе тоже разевает рот, но это не значит, что она дышит! Это из-за нее? Что не так?
– Да то не так, что, когда я ее увидел, мне будто полную грудь мокрой земли с камнями насыпали. На первый взгляд кажется, что она – просто копия Мари. А на второй – видишь, что это Мари была просто очень удачной копией. Понимаешь?
– Ты хочешь сказать, что эта – оригинал? – Шоно наклоняется над столиком и заглядывает Мартину в лицо, глаза его делаются почти круглыми, а голос почти теряет звук. – И мы все ошибались? Ты уверен?
– Практически. И с этой уверенностью я чувствую себя отвратительно.
– Погоди-ка, но ведь тогда выходит, что… Бог ты мой!
– Вот именно.
– Но почему сейчас, когда ничего уже не успеть?
– Тебе нужен ответ немедленно или ты дашь мне пару дней на размышление? – с преувеличенно серьезным видом спрашивает Мартин.
– Не дерзи старику! Я еще не дал повода втаптывать в грязь свой авторитет! – Шоно на секунду сводит брови и выпучивает глаза, сделавшись похожим на гневное монгольское божество, но мигом разглаживает лицо и усмехается: – Хотя, надо признать, был как никогда близок к этому. Так. Я должен убедиться лично, ты все-таки слишком молод и эмоционален! – Он протягивает Мартину объемистый бумажный сверток. – Тут все, что ты просил, ну, и я добавил кое-что от себя. Ступай и лечи ее хорошенько! Я приду послезавтра, мне надо немного помозговать.
С этими словами Шоно сотворяет рукою жест, каким султаны отгоняют от себя опостылевших жен, а простые смертные – неприятный запах, и, подперев кулаком челюсть, погружается в раздумье. Мартин кланяется и с улыбкой идет к выходу – видно, что разыгранный спектакль ему не в новинку. Шоно продолжает сидеть, как изваяние, но, едва лишь дверь захлопывается, хватается руками за голову, валится на спину и выпаливает в потолок: «Ох, ну это надо же!» И добавляет, помолчав пару секунд, сочное ругательство на непонятном языке.
Мартин возвращается к себе уже в сумерках. С неба сеются мелкие остатки дождя, дребезжит звоночком последний трамвай, похожий на огромный волшебный фонарь, что заманивает запоздалых путников в свое электрическое нутро и увозит их навсегда. Черная мостовая матово поблескивает, как паюсная икра. Темные дома засыпают, подпирая друг дружку узкими плечами, чтобы не упасть на посту. Их плоские фасады – перепонка, отделяющая и охраняющая уют от неуюта, настолько тонкая, что тут и там сквозь нее пробивается теплый, как топленые сливки, свет. Ловцы человеков сматывают удочки, ворча – неудачный день, и только незыблемые маяки пивных продолжают указывать фарватер настоящим мореходам, вечная жажда которых не зависит от количества разлитой в воздухе влаги. В такое время хорошо идти домой, предвкушая вкусный ужин в семейном кругу. Мартин, давно отвыкший, что вечером его ожидает что-то, кроме прогулки с собакой, скромной холостяцкой трапезы, книг и музыки, взволнован.
Сократив по возможности ритуал встречи в прихожей с Докхи, Мартин проходит в гостиную. В ней никого нет, пахнет едой и, кажется, даже прибрано. Берта читает молитвенник подле кровати больной в бывшей детской комнате, из которой она успела соорудить нечто вроде лазарета. Не отрывая взгляда от книги и не прекращая шевелить губами, она предостерегающе поднимает палец. Мартин замирает и, терпеливо ожидая, пока Берта доберется до конца, осматривается. Поймав себя на том, что вновь избегает смотреть в лицо незнакомки, сердится и заставляет глаза остановиться на нем – будто сделанное из костяного фарфора, оно почти бесцветно, лишь на скулах просвечивает внутренний жар. Лежащие на подушке по обе стороны головы туго заплетенные косы огненными змеями охраняют непокойный сон. «Или золотые цепи» – думает Мартин.
По-прежнему глядя в книгу, Берта трогает мокрую тряпку на лбу пациентки и, отложив чтение, обращается к нему со словами:
– Пышет чисто печка. Хоть хлеб на ей пеки.
– Берта, скажите, зачем вы переносили ее одна? Неужели нельзя было дождаться меня?
– Невелика ноша! – фыркает старуха. – Легка, как перышко. В чем и душа-то держится? Я ее сперва в ванне отмывала в семи водах. Вся в саже, что твоя трубочистова щетка. В пароходной трубе, что ль, сюда добиралась, бедняжка? Ну да уж я ее привела в божеский вид. Девка-то рожавшая, – как бы невзначай добавляет она.
– Вы в этом уверены? – спрашивает Мартин, чтобы хоть что-то сказать.
– Мне ли не знать? – Берта укоризненно склоняет голову к плечу. – У меня глаз наметанный.
– Да, простите. А она ничего не говорила в бреду?
Старуха принимает заговорщицкий вид и, понизив голос, сообщает:
– То-то и оно, что бормотала что-то, пока не заснула. По-русски!
Мартин вовремя сдерживается, чтобы опять не спросить, уверена ли она? Но Берта, видимо почувствовав это, уточняет сама:
– Я ж в Эстляндии родилась, в Российской империи. Говорить-то по-ихнему уж не смогу, но понимать понимаю.
– А что она говорила?
– Да ничего ясного. Все «да», «нет» и «отпустите». И еще какого-то Мишеньку поминала. Бредила, понятное дело.
– М-да… Кстати, у нее был узелок. Вы посмотрели, что в нем?
– Я в чужих вещах рыться не приучена! – расправляет плечи Берта. – А на ощупь тряпки там да книжка какая-то. Перстенек на ей был, так вон он – на столике. И вот что, господин доктор. Я с утра к вам жить перейду, покуда ее не выходим. И не перечьте! Денег с вас за то лишних не возьму, будете как обычно платить.
– Но, Берта, дело совершенно не в деньгах. Просто мне неудобно вас эксплуатировать!.. – лепечет Мартин.
– Неудобно левой рукой в правый карман лазить! – перебивает старуха. – Все одно семьи у меня нет. Завтра на рынок схожу. Уж нынче ночью она всяко есть не запросит. Я там сготовила кой-чего, что в реф-ри-же-ра-торе нашла. Собачку вашу мясом покормила. Уж так жалобно смотрел!
– Берта, но Докхи не ест мяса!
– Вот я и говорю, жалобно. – В голосе Берты явственно звучит осуждение. – Вы с им сейчас погуляете, и пойду я – у меня цветы не политы, да и вставать завтра рано.
«Что ж это она все время командует? – думает Мартин, спускаясь по лестнице вслед за Докхи. – Теперь еще у собаки расстройство желудка будет. Этого мне не хватало».
Мартин готовил на кухне лечебный состав, хмурясь и бормоча под нос нечто невразумительное, вроде детской считалки: «Король – камнеломка, ферзь – шалфей, слоны – термопсис и змееголовник, ладьи – желтушник и гипекоум, кони – талая вода, пешки – прохладные травы… А завтра – камфару двадцать пять. Белые начинают, черные доделывают, всё как всегда». Говорил он всё это лишь для того, чтобы изгнать из головы тревожные мысли. Но куда там! С тем же успехом он мог бы пытаться утопить дюжину футбольных мячей одновременно. Мысли упорно всплывали и вертелись хороводом вокруг одного вопроса: что же будет потом? К тому же Мартин боялся лечить эту женщину – нет, он не сомневался ни в своей способности исцелить ее, ни даже в ее выздоровлении. Страх его был совершенно иррационален. Так бедняк, откопавший в своем саду старинный сундук, боится сломать замок и заглянуть под крышку.
Ночь Мартин провел в кресле подле больной. Он то проваливался в скверный сон, то вскидывался, когда та бредила, поил ее, менял холодный компресс и подолгу прислушивался к бессвязным обрывкам незнакомой речи.
Берта пришла с рассветом, заполнила собой все пространство холостяцкого жилища, приготовила завтрак и отпустила Мартина на краткосрочную прогулку с Докхи, а после снарядилась кошелками и сообщила, что вернется не позже, чем через два часа.
Не успели затихнуть ее гренадерские шаги, как с черного хода донесся условный стук. Мартин открыл дверь и, от удивления забыв поздороваться, спросил:
– Шоно? Ты же сказал, что будешь размышлять до послезавтра!
– Однако шибко быстро думал, – с деланным китайским акцентом ответил тот. – И ты здравствуй, мой мальчик!
– Извини. Здравствуй!
– Извинил.
– Очень хорошо, что ты пришел сейчас.
– Вот и я подумал, а вдруг тебе будет приятен мой нежданный визит? И решил безотлагательно проверить свою гипотезу. Ну-с, показывай свою протеже!
Войдя в комнату, Шоно присвистнул на вдохе и поглядел на Мартина:
– Ты ее осмотрел? По бегающим глазкам вижу, что постеснялся. Эх, Марти, Марти, я плохой учитель, хороший побил бы тебя бамбуковой палкой! – И, напустив на себя суровый вид, он уселся на край кровати. – А я ведь тебе доверял. Так, поглядим, что тут у нас! – И с этими словами откинул одеяло.
Женщина оказалась совершенно нагой, по каким-то своим резонам Берта не стала ее одевать в мужскую пижаму. Мартин невольно зажмурился, но образ прекрасного тела успел запечатлеться у него на сетчатке и тут же отчетливо проявился на изнанке века, заставив сердце пропустить несколько ударов. Осознав, что продолжать стоять с закрытыми глазами глупо, Мартин вздохнул и стал смотреть в сторону.
– Ай, какая замечательная фигура! Боттичелли сюда! Праксителя! – восхищенно восклицал Шоно, приступая к пальпации. Поймав на себе укоризненный взгляд ученика, с ненатуральным покаянием в голосе признался: – Да, я никогда не был настоящим монахом. Но видишь ли, в моем возрасте женщинами любуются уже совершенно бескорыстно. Как лошадьми. А вот если бы такая фемина встретилась мне всего лет двадцать назад, то… Я не уверен, что река моей жизни не сменила бы русло.
Окончив обследование, Шоно укрыл пациентку одеялом, приложил свои пальцы к ее запястьям и замолчал. Через пару минут он задумчиво пожевал губами и произнес:
– Знаешь, в чем коварство фарфора? Он кажется холодным, даже когда раскален. Да. Передай мне, пожалуйста, иглы!
– Что ты думаешь о моем диагнозе? – спросил Мартин, протягивая ему черный кожаный футляр.
– Думаю, что я все же не такой уж плохой учитель! – улыбнулся Шоно, вонзая длинные серебряные стебельки в пресловутый фарфор. – Я ее правильно увидел. Но мне еще нужна какая-нибудь ее личная вещь.
– У нее с собой был узелок.
– Что в нем?
Мартин замялся:
– Э… Как-то не успел…
– Давай его сюда! Твоя щепетильность тебя когда-нибудь погубит.
Покончив с иглами, Шоно решительно распустил узел. Предмет, замотанный в несколько деталей женского туалета, оказался не книгой, как предполагала Берта. Это была фотография в деревянной рамке, семейный портрет: темноволосый мужчина с тонкими усиками и веселым, довольным лицом обнимает за плечи круглоликого мальчика в матроске, а светловолосая красивая женщина положила ладонь на плечо мужчины. Мальчик и мужчина живым взглядом смотрят в объектив. Женщина почему-то глядит в сторону.
– Один? Не может быть! Весьма странно. Весьма, – тихонько пробормотал Шоно.
– Что странно? И что один? Я не в состоянии сейчас понимать твои ребусы! – потерял терпение Мартин.
– Прости. Это не мои ребусы. И я тоже пока что не понимаю. Будем надеяться, что эта прелестная особа вскоре сама сможет их нам разгадать. А я должен подумать. Ты знаешь, когда снять иголки. Меня проводит Докхи. Докхи, ты ведь меня проводишь?
С приходом к власти Берты дом делается регулярным, как римский военный лагерь, – в нем налаживается быт, устанавливается порядок, заводится расписание. Насильно освобожденный от большинства хозяйственных забот, Мартин лишь время от времени отряжается в набеги на окрестные магазины да допускается к телу больной для проведения процедур, а большую часть дня бесцельно вышагивает по квартире, не в силах сосредоточиться и вернуться за письменный стол. Не без труда ему удается отвоевать право проводить у скорбного одра хотя бы часть ночи.
В третью вигилию[10]10
Vigilia – здесь «бдение» (лат.)
[Закрыть], едва задремав, Мартин просыпается от ощущения пристального взгляда, то женщина, приподнявшись на локтях, ласково смотрит на него и улыбается. Но не успевает он открыть рот, как она произносит длинную фразу по-русски и вновь возвращается в горячечное забытье. Мартин выслушивает ее легкие и понимает, что кризис недалек. Ему мучительно хочется курить, и он, сам того не замечая, начинает покусывать самшитовый черенок стетоскопа вместо мундштука.
Наутро является Шоно. Он, как обычно, элегантен и жовиален и даже пытается заигрывать с Бертой, превосходящей его в объемах чуть не вдвое, и монументальная старуха, к безграничному удивлению Мартина, принимает эти ухаживания вполне благосклонно. После ее ухода Шоно сообщает:
– Беэр вернулся. Видел его вчера у Боденбурга. Он сказал, что зайдет нынче к тебе.
– И это все?
– Вокруг было слишком много лишних ушей. И чувствовалось, что он едва сдерживается, чтобы их не пообрывать. Похоже, он даже слегка перебрал.
– В это с трудом верится. Там бы не хватило пива.
– И тем не менее. Впрочем, я не дождался кульминации вечеринки. Что там с нашей спящей красавицей?
– Жду кризиса в ближайшее время. Хрипы стали тише.
– Что ж, прекрасно. Я помою руки и посмотрю ее, а ты пока приготовь мне, пожалуйста, немного того питья, что у тебя сносно получается.
– Какого именно?
– А разве у тебя прилично получается еще что-то, кроме кофе? – Довольно засмеявшись, Шоно хлопает Мартина по плечу и удаляется в ванную комнату.
Через четверть часа оба уже смакуют кофе по-бедуински в кабинете. Аромат кардамона и арабески вишневого дыма от Мартиновой трубки создают ленивую атмосферу сераля. Вдумчивый кейф[11]11
Кейф – приятное времяпрепровождение за чашкой кофе (араб.).
[Закрыть] прерывается долгим звонком в дверь. Чувствуется, что рука звонящего тяжела.
– Беэр пришел, – невозмутимо констатирует Шоно. – Впустим?
– Так ведь дверь сломает. – Мартин с сожалением отставляет тонкую чашку и встает. – Вот, уже начал.
Звонок и впрямь сменяется полицейским стуком. Мартин спешит отщелкнуть замок, и в дверном проеме показывается человек величиной с дверь. У него разбойничье лицо – черная борода, низкий лоб с выпуклыми надбровьями, одно из которых пересекает старый кривой шрам, умные и лукавые обезьяньи глаза – и совершенно не вяжущиеся с такой брутальной внешностью светлый шикарный костюм в микроскопическую полоску и светлая же фетровая шляпа итальянского фасона. В ярком шелковом галстуке бриллиантовый зажим. Левая рука Беэра небрежно забинтована. Он нежно обнимает Мартина, потом отстраняет от себя и рассматривает.
– Ты спал? Я уже отчаялся и почти ушел! – говорит он по-английски.
– Твой прощальный стук вырвал нас с Шоно из нирваны. Мы курили опиум.
– А, этот старый мухомор уже тут? Кстати, я рассказывал тебе, как разломал опиумокурильню в Сингапуре?
– Рассказывал, и не раз. Проходи, пожалуйста!
– Подожди, я должен как следует поздороваться с Докхи! – Беэр сграбастывает пса в охапку, прижимает к груди и трется щекой об его складчатую морду. – Кто мой любимый песик? По кому я так скучал? – Продолжая сюсюкать и тискать в объятиях пятипудового кобеля, гость перемещается в кабинет. – Здравствуй, Зеэв[12]12
Волк (ивр.).
[Закрыть]! – по-немецки приветствует он Шоно.
– Здравствуй, Баабгай[13]13
Медведь (бурятск.).
[Закрыть]! – отвечает тот и, окинув Беэра критическим взглядом, заявляет: – Ты теперь говоришь с американским акцентом и одеваешься как сутенер из Шикаго.
– Зато ты по-прежнему говоришь с китайским, а в своем героке[14]14
Герок – двубортный сюртук. Был моден в конце XIX века.
[Закрыть] выглядишь промотавшимся гробовщиком из Моравии, – парирует Беэр и добавляет, усаживаясь в кресло и спуская собаку на пол: – А сутенер лучше гробовщика.
– Это почему еще? – интересуется Мартин.
– Потому что он наживается на радостях жизни!
– Ты вчера хорошо порезвился? – спрашивает Шоно.
– Какое там! Представляешь, меня пытались вышвырнуть из пивной!
– Кто были эти безумцы?
– Какие-то ублюдки, услышав мой акцент, завели «Gott strafe England»[15]15
Господь, покарай Англию! (нем.)
[Закрыть], а когда я потребовал от них извинений, набросились на меня вшестером. Или всемером – мне все никак не удавалось их пересчитать – они слишком мельтешили.
– И?
– Судя по состоянию моей руки, я сломал кому-то челюсть. Но в общем и целом было весело. Я бился и пел «March of the Cameron Men», как в пятнадцатом! – Беэр прикрывает глаза и гнусаво затягивает:
Nach cluinn sibh fuaim na pioba tighinn,
Gu h-ard than monadh `us ghleann;
Agus cas cheuman eutrom a’saltairt an fhraoich!
Si caismeachd Chloinn Camrain a th’ann!..[16]16
Чу! – волынок разносится верезг В холмах и долах там и тут. То, легко приминая стопами вереск, Камероновы парни идут (гэльск.).
[Закрыть]
Докхи начинает очень похоже подвывать, а Мартин и Шоно покатываются со смеху. Вытерев слезы, Шоно говорит:
– Я не знал, что ты – шотландец. Но очень живо вообразил тебя в килте.
– Я из древнего клана МакКавеев. Кстати, почему ты вчера ретировался? Ты должен был прикрывать мне спину!
– Меня бы едва хватило, чтоб прикрыть твою задницу.
– Это самое главное! – хохочет Беэр, – Особенно для нас, шотландцев. Кстати, о задницах, – он разом становится серьезным. – Мы должны их уносить отсюда, и побыстрее. По моим сведениям из надежного источника, война начнется очень скоро, и начнется она, вероятнее всего, в Данциге[17]17
Данциг – нынешний Гданьск – крупный порт на Балтийском море. В 1308 был присоединен тевтонскими рыцарями к Пруссии, после Тринадцатилетней войны в 1466 номинально отошел к Польше, однако получил от короля Казимира фактически статус вольного города. В 1793 после раздела Польши снова стал частью Пруссии, а по Версальскому договору 1919 года был де-юре объявлен вольным городом и находился под управлением Лиги Наций. Территории Данцига вклинивались между Западной и Восточной Пруссией, образуя так называемый «польский коридор» – дававший Польше единственный выход к морю. Несмотря на то, что 95% населения Данцига составляли немцы, Польше были предоставлены права вести его внешнюю политику, осуществлять таможенный контроль и неограниченно пользоваться водными и железнодорожными путями. Также с согласия Лиги Наций с 1926 года в Данцигском порту на косе Вестерплятте размещался польский гарнизон. Отказ Польши вернуть Данциг Германии, а также предоставить ей прямые пути сообщения с Восточной Пруссией стал формальным поводом ко Второй мировой войне, к началу которой подавляющая часть немецкого населения города была нацифицирована и всячески приветствовала воссоединение с Рейхом.
[Закрыть]. Вот здесь… – великан достает из внутреннего кармана пиджака толстый конверт и бросает его на стол, – визы и билеты на пароход до Нью-Йорка. На сборы вам остается чуть более сорока четырех часов. Вопросы?
Мартин и Шоно переглядываются.
– Что случилось? Вам мало времени? Вы собираетесь упаковывать майссенский сервиз на двести персон?
– Видишь ли, Беэр, – тихим голосом говорит Шоно, – дело всего в одной, но очень важной персоне, без которой мы не можем уехать. Пойдем!
Все трое подходят к дверям детской. Беэр заглядывает в комнату поверх голов. Минуту он с ошалелым видом рассматривает лежащую на кровати женщину, потом индейским шагом приближается и изучает ее лицо, низко склонясь над изголовьем, а затем скорее выдыхает, чем произносит, на чистом русском языке: «Шоб я сдох!..»
Глаза женщины неожиданно раскрываются. Взгляд быстро яснеет, обретает смысл.
– Вы кто? – шепотом спрашивает она по-русски.
Ответить на этот вопрос Беэру было непросто.
Мотя Берман, единственный сын успешного одесского коммерсанта, бывшего кантониста, отличившегося в русско-турецкую кампанию, угрюмого медведя Лазаря Бермана, появился на свет в 1890 году. Мать его, хрупкая и тихая красавица Рут из семьи богатого купца Якова Ломброзо-Картби, единственная любовь Лазаря, годившегося ей в отцы, угасла вскоре после родов. Берман-старший хотя и был завидным, несмотря на свои пятьдесят, женихом, о повторном браке слушать не желал, а отношение его к сыну было сложным, если не сказать суровым.
Мотя Берман, здоровяк и шалопай, которого из всех педагогов любил только преподаватель гимнастики, запоем читал приключенческую литературу и мечтал о военных подвигах, необитаемых островах и кладах, прогуливал уроки, предпочитая разноязычную портовую ругань латыни и греческому, а соленые брызги прибоя – библиотечной пыли. Он трижды избегал исключения из гимназии, благодаря связям отца. За все свои похождения он бывал еженедельно порот, что, впрочем, по естественным причинам не прибавляло ему усидчивости – Мотя Берман был прирожденным авантюристом и эскапистом. В первый раз он убежал из дома в десять лет – помогать бурам в их праведной борьбе с английскими завоевателями – и был обнаружен таможенниками на греческой шхуне среди влажных тюков с контрабандой. Второй побег – в пятнадцать – Моте тоже не удался – его арестовали при попытке пробраться в эшелон, направлявшийся в Порт-Артур. В том же году за участие в уличных беспорядках Мотя угодил в каталажку и лишь за большие деньги был вызволен Лазарем, а после им же жестоко избит. К привычным поркам Мотя относился с пониманием, но вот ударов по лицу он отцу простить не смог и решил убежать навсегда. Мотя Берман, прибавив себе года, нанялся матросом на торговое судно и в конце 1907 года оказался в Сиднее, имея при себе пятьдесят долларов и пару запасных штанов.
Мэттью Картби, два года отработав землекопом, водителем грузовика и кузнецом, натурализовался в Австралии в 1909 году и тотчас приступил к воплощению своей заветной мечты – записался в ряды вооруженных сил. Первая мировая война застала его уже младшим лейтенантом.
Лейтенант Мэтт Картби, известный в 4-й пехотной бригаде как Mad Bear[18]18
Бешеный медведь (англ.).
[Закрыть], чудом выжил в Галлиполийской[19]19
Галлиполийская битва – чрезвычайно кровопролитная и безрезультатная попытка Антанты захватить Галлиполийский полуостров, с тем чтобы открыть войскам дорогу через Дарданеллы на Стамбул. Главными героями этой операции, длившейся несколько месяцев, стали австралийские и новозеландские солдаты (ANZAC – Australian & New Zealand Army Corps), впервые участвовавшие в военных действиях такого масштаба. Австралийцы считают, что именно в этом горне выплавилась их нация.
[Закрыть] мясорубке и не получил Креста Виктории только потому, что среди оставшихся в живых соратников не набралось троих очевидцев его геройства. В марте 1916 Мэтт был тяжело ранен в голову и отправлен на лечение в Каир. Однажды госпиталь «Абассия», где он лежал, посетила пожилая леди Анна Изабелла Ноэль, пятнадцатая баронесса Вентворт[20]20
На самом деле леди Анна Блант (урожденная Кинг-Ноэль) стала баронессой Вентворт лишь в 1917 году, незадолго до кончины, унаследовав титул от собственной бездетной племянницы, которую, кстати, тоже звали Ада. Леди Анна была натурой творческой, хорошо играла на скрипке и талантливо рисовала, но основным ее увлечением было разведение арабских скакунов.
[Закрыть], внучка лорда Байрона. Ее сопровождала дальняя родственница – прелестная молодая девушка. Обратив внимание на кудрявого великана со свежим сабельным шрамом на лице, по странному стечению обстоятельств валявшегося на койке с томиком стихов ее дедушки – Мотя поэзии не любил, но больше в тот момент читать ему было решительно нечего, – дама заговорила с ним. Мотина биография привела ее в восторг. Самого же героя привела в восторженный трепет белокурая спутница баронессы, поглядывавшая на него с нескрываемым интересом. Через несколько дней, на протяжении которых Мотя изнывал от внезапной любви, юная леди Ада, изнывавшая от скуки и жары, вновь посетила его – на сей раз в одиночестве. Вскоре ее посещения стали регулярными, а через некоторое время, когда Мотю выписали и он переместился до полного выздоровления в хостель для австралийских и новозеландских солдат, отношения с Адой переросли в бурный роман. Тогда же Моте впервые за все эти годы пришла в голову мысль о примирении с отцом. Но ответ на письмо он получил от душеприказчика, сбившегося с ног в поисках единственного наследника купца первой гильдии. Сделавшись в одночасье богачом, кавалер ордена «За выдающиеся заслуги»[21]21
Орденом «За выдающиеся заслуги» (Distinguished Service Order) обычно награждали старших офицеров, но иногда – и особо отличившихся младших офицеров.
[Закрыть] лейтенант Мэттью Берман-Картби – сохранение фамилии было единственным условием в завещании Лазаря – решился предложить Аде руку и сердце, но юная аристократка весело рассмеялась в ответ и цинично объяснила Моте, что он вполне устраивает ее в качестве любовника и ручного медведя. Узнав, что у возлюбленной есть в Лондоне жених, к которому она отбывает на днях, Мотя едва не лишился рассудка – он, как все медведи, был по природе однолюбом.
После отъезда Ады несчастный и неприкаянный Мотя целыми днями блуждал по окрестностям Каира с пустотой вместо мыслей и мельничным жерновом вместо сердца, и единственным его желанием было провалиться сквозь землю. И вот в один из этих дней, взбираясь по опасному склону на крутой холм, Мотя провалился-таки под землю – он упал в глубокую яму, накрытую древними гнилыми досками, не выдержавшими его недюжинного веса. Обычный человек погиб бы сразу, сломав шею или раскроив себе череп. Счастливчик же Мотя отделался легкой контузией и кратковременной потерей сознания. Самое удивительное то, что сотрясение мозга невероятным образом прояснило и обострило его мыслительные процессы. Обнаружив себя лежащим на кипе каких-то пожелтевших свитков, Мотя моментально понял, что мечта его детства о сокровище неожиданным образом сбылась. При коротком свете спичек завороженно разглядывал он диковинные знаки, не имевшие для него никакого смысла, и ощущал, как в нем рождается и крепнет новая страсть. Над грудой манускриптов он поклялся себе, что прочитает их все до единого.
Бестрепетно приняв извещение о почетной отставке по ранению – война перестала быть делом его жизни, – капитан Мэттью Берман-Картби покинул Каир. Его багаж составляли десять объемистых ящиков и один чемоданчик.
Через пять лет он защитил в Кембридже магистерскую диссертацию, а в двадцать третьем году в Иерусалиме у великого каббалиста рабби Иегуды Ашлага по прозванию Бааль сулям[22]22
Бааль сулям – дословно переводится с иврита как «обладатель шкалы» или «хозяин лестницы». Это прозвище рабби Ашлаг получил за свой сквозной комментарий главной каббалистической книги «Зоар» («Сияние»), который он озаглавил «Сулям».
[Закрыть] появился новый ученик Матитьяху Берман, отличавшийся от прочих хасидов лишь гренадерской статью и выправкой. В 1926 году вместе с учителем он перебрался в Лондон.
В двадцать восьмом в библиотеке Берлинского университета доктор Мэттью Берман познакомился с доктором Вольфом Шёнэ. С тридцатого года Берман работал в Принстоне, время от времени наведываясь в Старый Свет.
И что же ответил этот человек на вопрос «Кто вы?», заданный едва очнувшейся незнакомкой?
Он ответил: «Я с Одессы».
– Я с Одессы, – на мягкий южный манер выговаривает Беэр.
Как ни странно, женщина вполне удовлетворяется этим ответом – тревожная напряженность в межбровье – в аджне, как сказали бы индусы, – тотчас исчезает, веки вздрагивают, точно крылья бабочки, и опускаются:
– Меня зовут Вера, – сообщает она и тут же погружается в спокойный сон.
– Заснула, – по-немецки констатирует очевидное Беэр. Некоторое время он продолжает стоять в прежней позе, потом разгибается и, обернувшись к друзьям, тихо восклицает по-английски: – Скажите мне, что я тоже сплю! Или объясните мне, что все это значит!
– Ты не спишь, – серьезно отвечает Шоно, – а объяснить… – он разводит руками.
– По крайней мере подтвердите, что она действительно похожа на… – Он осекается, бросает быстрый взгляд на Мартина и продолжает, проглотив имя: – Как солнце сегодня – на солнце вчера, или я решу, что по мне плачет психиатрическая лечебница! Ведь не может же быть, чтобы Она пришла два раза за такой короткий срок!
– Никто не знает, чего не может быть. Но ты не ошибаешься, Беэр. Ошибся я, ну, и Мартин вслед за мной – тогда. Солнца вчера не было, было наше желание его увидеть. Впрочем, это ничего не меняет. И давайте продолжим в кабинете, не будем ей мешать!
Вернувшись в рабочую комнату Мартина, Беэр и Шоно устраиваются в креслах возле письменного стола, сам же хозяин присаживается на его краешек.
– Вера, Ве-ра, – перекатывает он во рту имя, как виноградину. – Так и есть, она настоящая[23]23
Vera – истинная (лат.)
[Закрыть]. Я сразу почувствовал.
– Марти, по-русски «вера» означает der Glaube, – слегка виноватым тоном поправляет его Шоно.
– Пистис, – подтверждает Беэр.
– Тем более, – веско роняет Мартин и лезет в карман за трубкой. – Пистис София[24]24
«Пистис София» (дословно с греческого – Вера Мудрость) – один из интереснейших гностических текстов, написанный на коптском языке.
[Закрыть]. Разумеется.
– И все же… – Беэр вытряхивает из серебряного футляра сигару, закуривает. – И все же я сомневаюсь. Шоно, это твоя епархия – развей мой скепсис, если можешь.
– Это будет проще, чем развеять дым твоей ужасной сигары.
– Ты ничего не понимаешь в табаке, это же «Montecristo» от Упманна! В детстве я обожал Дюма.
– Право, лучше бы ты обожал Конан Дойла! – ворчит Шоно.
Беэр подходит к окну и, приоткрыв одну створку, становится возле него.
– Итак, я весь – одно большое ухо.
– Да что тут скажешь? – пожимает плечами Шоно. – Я ошибся один раз, могу ошибиться и во второй. Но по всему выходит, что она – это Она. Зрачки, линии рук, пульсы, да все… Без единой натяжки.
– А «Шиу́р кома́»[25]25
«Шиу́р кома́» (буквально означает на иврите «Пропорции тела», идиоматически – «значительность») – каббалистический трактат. Вот, что пишет о нем Гершом Шолем в книге «Основные течения в еврейской мистике»: «Фрагмент «Шиур кома», сохранившийся в нескольких текстах, изображает «тело» Творца, строго придерживаясь аналогии с телом возлюбленного, описываемого в пятой главе «Песни Песней», и характеризуя с помощью огромных чисел размеры каждого органа. Наряду с этим в нем приводятся непонятные нам тайные обозначения различных органов посредством букв и буквосочетаний. «Всякому, кто знает сокрытые от созданий размеры нашего Творца и славу Святого, да будет Он благословен, уготована доля в грядущем мире»…
Что на самом деле означают эти невероятные меры длины – неясно. Огромные числа не несут смысла или содержания, воспринимаемых умом или чувством, и невозможно посредством их явить в своем воображении «тело Шхины», описать которое они якобы предназначены. Напротив, если основываться на них, то любая попытка такого рода приведет к абсурду. Единицы измерения космичны: высота «тела» Творца равняется 236 тысячам парасангов, другая же традиция утверждает, что только высота подъема Его ступни измеряется тридцатью миллионами парасангов. Но «мера парасанга Бога составляет три мили, а в одной миле 10 тысяч локтей, а в локте три пяди Его пяди, а одна пядь заполняет собой весь мир, ибо сказано: Он, Кто измерил небо Своей пядью». Поэтому ясно, что истинным назначением этих чисел не было указание на какие-либо конкретные меры длины. Выражало ли некогда соотношение цифр, ныне встречающихся в безнадежно перепутанном виде в текстах, какие-либо внутренние связи и гармонии, – вопрос, на который мы едва ли найдем ответ. Но «надмировое» и «нуминозное» еще смутно просвечивают через эти отдающие кощунством числа и невероятные сочетания тайных имен. Святое величие Бога облачается в плоть и кровь в этих громадных числовых отношениях. Во всяком случае, идея Бога-Царя более приспособлена для такого символического выражения, чем идея Бога-Духа. Мы видим вновь, что царственный характер Божества и Его явления в мире, а не Его духовность привлекали внимание этих мистиков. Правда, иногда мы обнаруживаем парадоксальный переход к духовному. Совершенно неожиданно в середине «Шиур кома» мы читаем: «Лик Его подобен зрелищу двух скул, и те подобны образу духа и форме души, и ни одно создание не может узнать Его. Тело Его подобно хризолиту. Свет Его бесконечным потоком льется из тьмы. Его окружают облака и туман, и все князья ангелов и серафимов – словно пустой кувшин пред Ним. Посему нам не дана никакая мера, но лишь тайные имена раскрыты нам».
В сочинениях гностиков II и IV веков и в некоторых греческих и коптских текстах, проникнутых духом мистического спиритуализма, встречаются аналогичные мистические антропоморфизмы при описании «тела Отца» или «тела Истины». Гастер указал на значение подобных антропоморфизмов, определяемых многими учеными как каббалистические, в сочинениях гностика Маркоса (II век), антропоморфизмов, не менее причудливых и темных, чем те, что приводятся в «Шиур кома».
[Закрыть]? – безнадежным голосом уточняет Беэр.
– Говорю же – все! – сварливо отвечает Шоно и, помолчав немного, добавляет: – Есть только одна непонятная мне деталь…
– Какая? – в один голос спрашивают Мартин и Беэр.
– …Но она не ставит под сомнение основной вывод, поэтому до поры я о ней умолчу. Мне пока что не хватает информации, чтобы разобраться с этим. Подождем пробуждения Веры.
– Единственный вывод, который в состоянии сделать я, – бурчит Беэр, – это то, что мне нужно каким-то образом теперь добыть для нее паспорт и визу, иначе весь мой план эвакуации полетит к чертям собачьим, а другого у нас нет. Я, конечно, волшебник, но бюрократия – это не моя специализация. Марти, – вдруг безо всякого перехода подзывает он того к окну, – скажи, тебе знаком владелец этого серого «хорьха»?
– Нет. Я впервые такой же видел пару дней назад и даже случайно запомнил номер – но отсюда я не могу различить цифры. А зачем тебе? Хочешь приобрести?
– Не нравится он мне!.. – бормочет Беэр, разглядывая автомобиль из-за занавески.
– Не нравится – не покупай! А что именно тебе в нем так не нравится? – спрашивает Мартин, видя, что тот не шутит.
– Не знаю, может, показалось… Хотя нет, когда я входил в дом, он стоял на другой стороне улицы. А это странно, вы не находите?
– Может, он просто переехал на теневую сторону? Жарко сегодня, – предполагает Шоно, подойдя к окну.
– Может, и просто. Но меня зацепило что-то, когда я мимо него проходил. Вот что? – Беэр страдальчески морщит лоб, отчего шрам на брови наливается кровью. – А, вспомнил! Машина недешевая, но не из тех, к которым полагается личный шофер, а парень, сидевший за рулем, на владельца не тянул.
– Чего он не делал? Я не понимаю твоего австралийского жаргона! – сердится Шоно.
– Извини, – Беэр переходит на немецкий. – По нему было непохоже, что он сидит в своем собственном автомобиле. Слишком напряженно. И одежда… Ладно, хотя, возможно, все это ничего не значит, уйти мне будет лучше черным ходом. Но прежде, чем я вас покину, скажите, откуда она взялась?
– Пришла. – Мартин разводит руками. – Она ничего не успела сказать, кроме того, что ищет своего дядю, который жил в этой квартире до меня. А потом потеряла сознание.
– Пришла, говоришь? Ясно. – Беэр достает из кармана авторучку с золотым пером и пишет пять цифр на первом попавшемся листе бумаги. – Это мой номер. Я снял домик в Олифе[26]26
Олифа – северо-западный пригород Данцига.
[Закрыть], он в моем распоряжении до конца месяца. Вот уж не думал, что придется в нем жить. Телефонируйте мне в случае… в случае чего. Если не застанете меня, оставьте сообщение прислуге. Ну, я пойду, попытаюсь совершить невозможное. А вы берегите себя… И ее.
Беэр обнимается с Шоно и Мартином, целует в морщинистый лоб Докхи и на удивление бесшумно исчезает в сумраке черного хода.
– М-да… – протянул Михаэль, когда я окончил двухчасовое изложение сюжета. – Надо же. Лихо закручено. Не представляю, правда, как ты умудришься все это написать.
– Ну, ты же как-то написал свой пятитомник, – оптимистически отмахнулся я. – Понятное дело, придется попотеть мозгом. Корпеть и копать…
– Слушай! – закричал он неожиданно, и глаза его сделались еще более безумными, чем обычно. – Я знаю одну вещь, которая подтверждает твою теорию! Я сам видел ее в Иерусалимском музее!
– Что за вещь?
– Оссуарий[27]27
Оссуарий – (здесь) каменный ящик для захоронения костей умершего. – Ред.
[Закрыть] с надписью. Первый век до нашей эры! Эту штуку откопали в семидесятые годы на Гиват Мивтар[28]28
Гиват Мивтар – северный пригород Иерусалима. – Ред.
[Закрыть], кажется! У меня есть фотография, я тебе пришлю! – продолжал вскрикивать он.
– Да что за надпись-то там?
– Ой, я не помню точно, сам увидишь. Есть гипотеза, что это останки последнего царя Иудеи из рода Хасмонеев. Ну, или что-то в этом роде. – Михаэль успокоился так же внезапно, как перед этим взволновался. – Я этой темой никогда вплотную не занимался. А ты займись!
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?