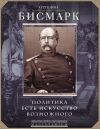Текст книги "Битва железных канцлеров"

Автор книги: Валентин Пикуль
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 23 страниц)
Заключение второй части
Летом 1867 года Горчаков, в ознаменование 50-летнего юбилея службы, был возвышен до звания Российского канцлера, а это значило, что в сложной «Табели о рангах» он занимал первенствующее положение в стране, и равных ему никого не было. Тютчев не преминул вспомнить его приход к власти:
В те дни кроваво-роковые,
Когда, прервав борьбу свою,
В ножны вложила меч Россия —
Свой меч, иззубренный в бою…
И вот двенадцать лет уж длится
Упорный поединок тот…
Почти одновременно с Горчаковым граф Бисмарк стал бундесканцлером Северогерманского бундесрата. Никто не сомневался, что в Европе возникли две большие политические силы, от решения которых отныне зависело многое. Вопрос был лишь в том, куда будет направлена эта умственная и моральная энергия двух мощнейших политиков – к добру ли повернут они свои страны или обратят свое влияние во зло человечеству?..
Подобно гипнотизеру, внушающему больному: «Спать, спать, вы уже спите», Бисмарк усыплял европейцев словами: «Мир, мир, мир… мы хотим только мира». С сердцем всегда холодным, словно собачий нос, Бисмарк проявлял сейчас гигантскую силу воли и колоссальную выдержку, чтобы не начать войну раньше времени. Война, как и мир, всегда требует солидной дипломатической подготовки. Нет, это не летаргия – это лишь деловое, разумное выжидание. Близкий ему человек, берлинский банкир Гирш Блейхредер, помогавший ему в тайных финансовых аферах, советовал наброситься на Францию немедля.
Бундесканцлер высмеял своего Шейлока:
– Историю можно только подталкивать. Но если ее треснуть по спине, она может обернуться и хватить кулаком…
В сейфах Большого генерального штаба уже затаился жутко дышащий эмбрион – план нападения на Францию, и генералы видели в Бисмарке тормоз их нетерпению. Войну можно спровоцировать, а превентивная война – это сущее благо, – примерно так доказывал Мольтке канцлеру. Бисмарк в ответ развил теорию политической стратегии, которая обречена противостоять стратегии генеральных штабов.
Мольтке, выслушав его, сказал:
– Ваша точка зрения, мой друг, безупречна. Но в свое время она будет нам стоить немалых жертв.
– Чепуха! В войне с Австрией, – ответил Бисмарк, – мы имели жертв от поноса больше, нежели от пуль противника…
В конце года он дал интервью английскому журналисту Битти-Кингстону; дымя трубкой, канцлер горячо доказывал:
– Северогерманский бундесрат твердо стоит на позициях сохранения мира в Европе, и немцы первыми не нападут. Я не понимаю, зачем нам вообще война? Мы сыты, мы одеты, у наших очагов всегда приятное тепло. Что мы выиграем от войны? Разве нам нужны стоны, кровь, пожары и страдания? Вот вы говорите – Эльзас и Лотарингия. Руда и еще что там… не знаю. Но это разговор для котят, а не для меня. Я же лучше вас знаю, что в Эльзасе и Лотарингии жители хотят остаться французами… это вам не паршивый Шлезвиг-Голштейн, где жители сами не ведают, кто они такие. Ах, вас еще беспокоят речи наших генералов? Да, иногда они меня беспокоят тоже. Генералы во все времена любят поболтать с таким важным видом, будто они что-то понимают… Между тем, смею вас заверить, что в мирное время всех прусских генералов надобно, как псов, держать на железной цепи, а во время войны их надо вешать…
…Франция, оставшись в трагическом одиночестве, танцевала под сенью германских «бруммеров». Стальная империя Круппов родилась намного раньше империи Гогенцоллернов.
Часть третья
Жернова истории
«Единство, – возвестил оракул наших дней, —
Быть может спаяно железом лишь и кровью».
Но мы попробуем спаять его любовью.
А там посмотрим – что прочней?
Ф. И. Тютчев (ответ Бисмарку)
Три дамы и Бисмарк
Как и все владыки капиталистического мира, королева Виктория ловко утаивала цифру своего состояния. С показной скромностью она поднимала с земли уроненный пенс, а нищему, взывавшему о помощи, дарила букетик полевых цветов. Не дай бог, если у нее попросят на вдов и сирот, – тогда она спешно рисовала пошлый пейзажик: «Продайте его…» Лишь после смерти королевы стало известно, что не только алмазные россыпи в африканской Родезии, но даже самые грязные кварталы лондонского Сохо с борделями для проституток и притонами для бандитов принадлежали именно ей, целомудренной ханже!
Последний отпрыск гнусной Ганноверской династии, которая 123 года наполняла Англию скверной, Виктория чаще других политиков обращалась к словам «на благо человечества», «ради свободы и процветания общества», но под ее скипетром Англия ни на один день не прекращала истребительных колониальных войн… Вот же она, эта богородица! – толстая безобразная женщина с распухшим зобом нездоровой сытости, давшая целой эпохе название от своего имени – викторианство. При жизни мужа, принца Альберта Саксен-Кобургского, она напилась только единожды, когда в замке Бальмораль узнали о взятии Севастополя; на радостях муж велел пить всем сколько влезет, и королева была пьянее лакеев. Виктория сама избрала себе мужа, сама твердо объяснилась ему в любви, сама отвела его под венец, а он играл роль искушаемой невесты. Видя его покорность, Виктория сочла, что все мужья таковы. И потому казнь через повешение для женщин она утверждала всегда с большей легкостью, нежели для мужчин. Ее стол постоянно был завален бракоразводными делами: королева с пристрастием юриста выискивала причины, чтобы оправдать мужчин и осудить женщин. Но зато она любила читать романы, написанные женщинами; ей было любопытно знать, что могут сочинить «эти потаскухи», от которых так много страдают их несчастные мужья.
Всю долгую жизнь Виктория черпала силы из своего эгоизма, вредя не только всему миру, но даже своим детям. В королевской мантии из бархата, окаймленной горностаем, с золотым обручем на голове, с бренчащим на шее ожерельем из орденских цепей Подвязки, Бани, Шиповника и св. Патрикия, – такой она являлась обществу, тряся жирными брылями щек, поражая всех безвкусием одежд, брезгливой апатией к делам, непомерной алчностью к огрызкам пирогов и огаркам свечей, и как-то не хотелось верить, что эта обрюзглая дама с повадками дурной тещи владеет половиною мира! А нехороший блеск в ее глазах выдавал придворным, что она с утра пораньше уже хватила рюмочку-другую крепкого матросского бренди.
Вся жизнь ее прошла под флагом любви к мужу! Один только раз Виктория ослабила туго натянутые вожжи добродетели и покорилась другому мужчине. Это был император Наполеон III, в годы скитаний изучивший женскую породу от великосветских салонов до самых грязных прачечных. Опытный обольститель, он нашел отмычку к ее сердцу – тогда-то Англия, вкупе с Францией, и устроила России кровавую баню под Севастополем. Правда, при свидании с императором Виктория допустила грубую политическую бестактность: она угостила его хересом из погребов Наполеона I, который разграбили при Ватерлоо солдаты герцога Веллингтона. Зато уж император (будьте спокойны!) таких промахов не делал. Принимая королеву в Шербуре, он не забыл, что на берегу стоит памятник его дяде, грозным жестом указывающий на Англию. При королеве статую поворачивали к Англии задом, королева отплывала домой – и Наполеон I снова обращал пасмурный взор к туманам Ла-Манша… В 1857 году Виктория родила восьмого ребенка, через два года, в возрасте 39 лет, стала бабушкой – в Берлине от Вики и Фрица родился внук Вилли (будущий кайзер Вильгельм II), а вскоре муж, катаясь на коньках, провалился под лед и, простудившись, умер. Виктория замкнулась в мрачном убежище Бальмораля, настолько отрешившись от мира, что парламент решил сбавить ей содержание. Это обожгло королеву, словно крапивой, она примчалась в Лондон с уже готовой тронной речью – вся красная от гнева и виски, насыщенная плумпудингами и кровавыми ростбифами.
Фальшивая насквозь, королева обожала фальшь, и лицемеры были ее любимцами. Сейчас ее доверием овладел «юркий Дизи», как прозвали англичане Бена Дизраэли. Сын богатого капиталиста, будущий лорд Биконсфилд начал жизнь с того, что выступал в защиту рабочих от угнетения своего папеньки. Такое разделение труда пошло на пользу обоим: папаша был под охраною сына, а сынок обрел славу передового человека. Дизраэли лез из кожи вон, чтобы возвеличить Викторию в глазах всего мира, он сознательно разжигал в ней ненависть к России – в этом секрет его карьеры… Сегодня «юркий Дизи» сообщил Виктории:
– Величайшая глупость нашего века совершилась – французы, как мы им ни мешали, все-таки докопали эту Суэцкую канаву. Мы поступили умно, не вложив в песок Египта ни единого пенса. Теперь надо закрыть канал с обеих сторон, а ключи от дверей пусть лежат у нас в кармане… Построенный на деньги всей Европы, в том числе и русские, – пророчил Дизраэли, – канал должен стать британским, и Англия, только она, станет собирать пошлину с кораблей под разными флагами…
Англия (только она!) видела в Суэце опасную перемычку для кратчайших путей в Индию. А теперь, когда канал готов, маска викторианского лицемерия сброшена. «Таймс» декларировала с цинизмом: «Мы ничего не сделали для прокладки Суэцкого канала, но мы должны иметь всю прибыль от его эксплуатации. Это – компенсация, которую мы получим за все ошибки, возможно, совершенные нами…»
«Юркий Дизи» уже видел себя на берегах Нила!
* * *
Да, Англия сделала все, чтобы канала не было: пусть кому хочется плавает вокруг Африки. Британский инженер Стефенсон заявил, что зеркало Индийского океана на восемь метров выше зеркала Средиземного моря, и в случае открытия канала волны ринутся на Европу, затопляя все достижения цивилизации. Чтобы обогнать французов, англичане вровень с трассой канала проложили стальные рельсы путей…
Гений или авантюрист (скорее, то и другое), Фердинанд Лессепс разрушил барьер, отделявший Запад от Востока, – в этом его великая заслуга перед Человечеством, в этом же и залог многих бедствий арабов. Конвейер и экскаватор – эти два великих изобретения имеют родину: Суэцкий канал!
Была весна 1869 года, когда в присутствии хедива Исмаила произошла бурная встреча вод Красного моря и Средиземного, – вначале слишком встревоженная, вода скоро успокоилась и породнила континенты. Осенью состоялось официальное торжество открытия.
Пушек гром и мусикия,
Здесь Европы всей привал,
Здесь все силы мировые
Свой справляют карнавал,
И при кликах исступленных
Бойкий западный разгул
И в гаремах потаенных
Двери настежь распахнул.
Так писал об этом событии Тютчев. На открытие канала прибыли писатели Эмиль Золя, Теофиль Готье и Генрик Ибсен, император Франц-Иосиф, прусский кронпринц Фридрих и прочие, но главной царицей праздника была, конечно, она —
С пресловутого театра
Всех изяществ и затей,
Как вторая Клеопатра
В сонме царственных гостей…
Выказывая женщине особое уважение, хедив обещал пересажать на кол всех инженеров, если яхта «Эгль», на которой плыла Евгения Монтихо, сядет на мель. За кормою яхты «Эгль» тронулись и остальные суда. Замыкая их строй, вслед за британским корветом «Рэпид» плыла русская «Арконтия», на которой в окружении финансовых тузов Москвы и Одессы нежился под тентом тучный Николай Павлович Игнатьев (посол в Константинополе). Гремели орудийные салюты, звенели бокалы, с берегов струился песок, на горизонте вровень с кораблями проплывали верблюды… Хедива подвел композитор Джузеппе Верди, обещавший к открытию канала закончить оперу «Аида» на тему, предложенную ему самим Исмаилом.
– К сожалению, – пожаловался хедив императрице Франции, – Верди опоздал с оперой, и я не могу доставить вам приятного удовольствия видеть композитора сидящим на колу.
Евгения, кокетничая, ударила его веером по руке:
– Сознайтесь, зачем вам столько жен?
Исмаил понял, что она напрашивается на комплимент:
– Одну я люблю за ее глаза, другую за походку, третью за разум, четвертую за фигуру, пятую за хороший характер. Но я удовольствовался бы и тобою одной, потому что я сразу заметил – ты совместила в себе все женские прелести…
Хедив разместил гостей в новом сказочном дворце, который обошелся ему в 30 миллионов франков. Для императрицы Франции он устроил из комнат подлинный восточный эдем стоимостью в полтора миллиона. Золото, перламутр, жемчуг, парча, перья павлинов и шкуры барсов устилали путь этой женщины, и никто из гостей не задумывался, что всю эту роскошь (как и сам канал) будут оплачивать нищие египетские феллахи, издали взиравшие на небывалое торжество. Международный банкет в пустыне был устроен на 3 000 персон (кстати, в Зимнем дворце одновременно усаживались за стол 1900 приглашенных). После катания на верблюдах вместо «Аиды» давали «Риголетто» в исполнении лучших певцов мира…
Египетский хедив только успевал поплачивать!
Во время банкета Игнатьев подошел к очень красивому и сдержанному арабу, на бурнусе которого среди прочих орденов сверкал и русский – Белого Орла; это был знаменитый «лев пустыни» Абд эль-Кадир, много лет воевавший против Франции за честь и свободу Алжира. Тихим голосом он, толкователь Корана, заговорил о губительной силе европейского прогресса:
– Ваш материализм – плод тщеславного разума, он приводит к разнузданности людей, всюду сея ненависть и разрушение. Вы заметили только праздник, но в его шуме не разглядели, что первым прошел через канал не французский, а британский пароход… А внутри парохода сидели спрятанные солдаты!
Здесь же Игнатьев слышал, как Эмиль Золя, чокаясь с виновником торжества – Лессепсом, напророчил ему:
– Создав Суэцкий канал, вы точно определили географию того места, где развернутся трагические сражения будущего…
Евгения Монтихо, вернувшись в Париж, застала мужа в нервно-подавленном состоянии. Недавно он снова пережил приступ болезни, его душевные силы, казалось, были уже на исходе.
– Ты знаешь, что недавно сказал Тьер? «Отныне, – заявил он моим министрам, – нет уже ни одной ошибки в политике, которой бы вы еще не свершили…»
Монтихо с бурной материнской радостью подхватила на руки маленького принца Лулу; лаская ребенка, ответила:
– Тьера не надо слушать! Война способна исправить все наши ошибки, какие были. Война нужна Франции хотя бы ради этого очаровательного дитя, ради сохранения для него короны.
…В эти дни Горчаков писал прозорливо: «Наполеон изолировал сам себя в зияющей пустоте, и в поисках выхода из тупика, не исключено, он будет искать удачной войны».
* * *
– А я испанка, самая настоящая, каких можно встретить в кварталах Палома, где под кружевами носят острые навахи.
Так говорила о себе Изабелла II, возродившая при дворе Мадрида нравы времен упадка Римской империи. Нет, читатель, она никогда не забывала о боге и одну из ночей в неделю справляла любовную мессу с кем-либо из клерикалов (чаще всего с Сирилло де аль-Аламейдо, автором книги «Золотой ключ»). Если же, перепутав расписание, к ее услугам являлись сразу двое монахов, то одного из них забирала для горячих молитв наперсница королевы – монахиня Патрочиньо. А в дальнем углу Эскуриала, словно жалкий паук, гнездился муж королевы – храбрый и благородный идальго фон Франсиско, живший доходами от продажи апельсинов из собственных садов в Севилье. Подарить любовнику восемь миллионов реалов сразу для Изабеллы ничего не стоило, лишь бы он показал себя стойким мужчиной, а не тряпкой. При ней в Испании была основана «Академия моральных наук». Но самый блестящий жест королевы – открытие Лосойского водопровода в Мадриде, а то ведь, стыдно сказать, помыться гранду – целая проблема!
Никто не ощущал грозы, и папа римский переслал Изабелле II розу, которая не пахла, – розу из тонких золотых лепестков. Прицепив ее к поясу ажурного платья, Изабелла поехала на морской курорт Лаквейсио; она купалась в волнах Бискайи, когда из Мадрида пришли слухи о народной революции.
– Это замечательно! – сказала Изабелла II, нагишом проследовав на ложе любви. – Пусть же случится что-либо ужасное, чтобы встряхнуть мою скуку… Вот тогда я выхвачу из кружев наваху и покажу всем оборванцам, какая я испанка!
Инсургенты захватили Мадрид, восстал и флот Испании, к власти пришла революционная хунта, раздавшая ружья народу. Изабелла II скрылась в Биаррице, где искал покоя от суеты ее давний приятель – Наполеон III; он сразу все понял.
– Мадам, в вашем распоряжении замок По…
Из замка По она переслала в Мадрид свое отречение от престола. Но революции бывают разные. Иногда, свергнув одного монарха, они сразу же начинают подыскивать себе на шею другого. Европейская печать охотно подсказывала Мадриду новых претендентов на испанскую корону…
В переписке Бисмарка появилось слово Испания.
«Вот что может вызвать взрыв!» – заключил он.
* * *
Жернова истории мелют медленно, но верно…
Бисмарк, словно усердный ревизор, вел строгий учет всем ошибкам Наполеона III, мало того, исподтишка подталкивал императора на свершение новых. В преддверии грозных событий он ошеломил кайзера просьбою об отставке. «Министру, – писал бундесканцлер, – следует быть более хладнокровным, менее раздражительным и прежде всего обладать хорошим здоровьем…»
Бисмарк нервничал. Томился. Он издергался в выжидании той блаженной ситуации, когда можно скомандовать: пли!
Бабельсбергские старые супруги о чем-то шушукались и часто вздрагивали при его появлении. Вильгельм I отставки ему не дал. А между тем Бисмарк и правда был болен. Его доконал ревматизм, его украсила желтуха от крысиного укуса. Он уехал в померанское имение Варцин, где и прозябал в угрюмом затворничестве. Не будем думать, что канцлер устранился от дел. Варцин – это его боевая засада, сидя в которой он зорко следил за действиями противников. Отсюда-то он и подталкивал тяжкие жернова истории, чтобы война из розовых мечтаний о ней стала суровой и непреложной явью.
Дела и дни Горчакова
Возвращались из Гатчины поездом; царь да Горчаков – больше в вагоне никого не было. Александр II всю дорогу много курил. Поезд уже катился по окраинам столицы, когда он сказал:
– Не знаю, что со мною, но таким, как теперь, я еще никогда не был. Раньше хоть радовала охота. А теперь лишь вино да женщины – это как-то отвлекает. Кончится для меня все катастрофой… Не спорьте, князь! Я был в Париже у одной гадалки вместе с дядей Вилли, она ему накаркала долгую жизнь и множество успехов. Потом взяла дату моего рождения – тысяча восемьсот восемнадцатый год – и молча переставила только две последние цифры: получилось тысяча восемьсот восемьдесят первый – вот это и есть год моей гибели.
– Как вы можете верить в такую мистику?
– А почему и не верить?..
Машинист с искусным щегольством затормозил поезд так, чтобы подножка царского вагона застыла как раз над ковриком, разостланным на перроне. Александр II надел каску и шагнул мимо коврика. Неожиданно грубо сказал, обращаясь к канцлеру на «ты»:
– Князь, на днях ко мне в Летнем саду подошла твоя племянница и похвасталась, что вопрос о браке ее с тобою уже решен. Если женишься, я сердиться не буду. Но прежде подумай: Надин за твоей спиной развела шашни с конногвардейцем Николаем Лейхтенбергским. Когда мы ездили на Парижскую выставку, я, чтобы тебя не огорчать, указал шефу жандармов Шувалову не давать ей заграничного паспорта. Разберись сам…
В окружении свиты и охраны царь удалился, а Горчаков испытал слабость в коленях. Но распускаться нельзя, прямо с вокзала надо ехать в совет министров. Там он сказал, что экономику империи можно выправить добычею нефти на Кавказе и угля в Донецком бассейне, – ему не поверили. Вечером у него был в гостях мудрый армянский католикос, недавно вернувшийся из турецкого Вана; в беседе за бутылкой вина они провели время до полуночи, разговаривая по-гречески, по-итальянски и на древней латыни. Проводив гостя, канцлер с помощью Якова устроился в постели, в стакан с водою опустил искусственную челюсть (работы славного парижского дантиста Дезирабода).
– Шыновья вернулишь? – спросил, беззубо шамкая.
– Да где уж там… гуляют.
Утром в министерстве его поджидал Нэпир.
– Да, – говорил Горчаков, – мы обещали Англии не ходить в Бухару и Хиву, но жители Бухары и Хивы не обещали, что перестанут ходить к нам с жалобами на своих ханов.
– Ваш ответ, – иронизировал Нэпир, – напомнил мне ответ дамы, нарушившей любовную клятву: «Да, я клялась любить его до гроба, но я ведь не клялась сдержать свою клятву!»
– Однако депутации угнетенных племен из ханств среднеазиатских сатрапий – это не мой сладкий вымысел! Они идут к нам, взывая о восприятии российского подданства…
При этом, дабы излишне не раздражать Англию, Горчаков благоразумно умолчал о тайной миссии из далекой Индии, которая просила народ России избавить их от колониального гнета. Если бы англичане были уверены в прочности своего положения в Дели, они бы не тряслись над барханами Средней Азии, как нищий над писаной торбой. Теперь Лондон выдвигал идею о разграничении сфер влияния в Средней Азии.
– На сегодня, пожалуй, закончим, – сказал Горчаков Нэпиру. – Мы согласны считать Афганистан буфером между нами при условии, что вы гарантируете нам его независимость и не станете расширять владений афганского эмира за счет Бухары и Коканда во вред чисто российским интересам.
С докладом канцлер отбыл во дворец, где император оставил его обедать в кругу семьи. За столом царь неожиданно спросил – что он думает об Игнатьеве? «Ага, стало быть, подыскивают мне замену».
– Игнатьев очень умен, но поздравляю того, кто ему доверится, – ответил Горчаков с хитростью старого дипломата.
Императрица Мария вдруг вставила шпильку:
– Иметь Бисмарка – какое счастье для немцев!
За этим стояло: у нас Бисмарка нет. Острый кончик тугого воротничка врезался князю в щеку, но он не замечал боли.
– Ваше величество, я не поручусь за немцев, но смею полагать, что русскому народу Бисмарки пока не требуются.
– Дайте поесть спокойно, – вмешался царь.
Первая атака отбита. Надо ожидать второй.
* * *
Великосветский Петербург наполняли слухи au sujet de la blonde (по поводу блондинки). Блондинка – это Надин, которую с «белой ручки не стряхнешь да за пояс не заткнешь».
Горчаков вступил в кризис – старческий:
Чему бы жизнь нас ни учила,
Но сердце верит в чудеса:
Есть нескудеющая сила,
Есть и нетленная краса.
В осеннем парке Павловска канцлер встретил Тютчева; два дипломата бродили среди прудов, засыпающих в умиротворенном покое. Разговор как-то не вязался.
– Неужели нет новостей? – спросил Тютчев.
– Последняя из них такова… Я не сразу сообразил, что к моей увядшей мужской оболочке Надин хотела бы стать красочным приложением, вроде цветной картинки дамских мод, вклеенной в скушнейший нумер еженедельника по вопросам земской статистики. Но я еще не выжил из ума и сознаю весь тяжкий грех перед покойницей Машей… Пора сказать себе, чтобы не мучиться более: ты старик, Горчаков!
Последняя женщина была у каждого, и она отлетала почти безболезненно, как облако… Тютчев замедлил шаги:
Вот бреду я вдоль большой дороги
В тихом свете гаснущего дня…
Тяжело мне… замирают ноги…
Друг мой милый, видишь ли меня?
Все темней, темнее над землею —
Улетел последний отблеск дня…
Вот тот мир, где жили мы с тобою,
Ангел мой, ты видишь ли меня?
– Жестоко, но справедливо, – отозвался Горчаков…
Помолчали. Канцлер потом сказал:
– Нехороший признак: государь груб со мною.
– Он и со всеми таков!
– Со всеми – да, но со мною бывал на равной ноге.
– Вы догадываетесь о причине?
– Косвенно виноват я сам, ибо дал повод к слухам о Надин… А иногда, – с надрывом признался Горчаков, – я с ужасом ловлю себя на том, что теряю мысль в разговоре. Мне страшно! Неужели конец? Это в мои-то семьдесят три года, когда бы только жить да радоваться…
Вечером в Михайловском театре давали «Орфея» Глюка; Горчаков сидел подле Надин, искоса наблюдая за партером, где в окружении ослепительных дам беззастенчиво жуировали его статные красавцы сыновья. По выражению глаз племянницы старик догадался, что она с большим бы удовольствием перешла из ложи в партер. Дежурный флигель-адъютант попросил князя пройти в императорскую ложу. Надин с хрустом разгрызла карамельку, и этот хруст показался канцлеру треском рушащейся карьеры… Александр II сидел со своей сестрой великой княгиней Марией Николаевной, когда-то очень красивой Мессалиной, а теперь эта женщина не расставалась с костылями. Она и начала:
– Вы женитесь или только волокитничаете?
Судя по всему, перед нашествием Пруссии на Париж от Горчакова решили избавиться. Кандидатуры известны: константинопольский посол граф Игнатьев или шеф жандармов граф Шувалов. Горчаков ответил, что каждый человек вправе оставить за собой решение сердечных проблем.
– Дипломатический корпус, – заговорил царь, – поставлен тобою в неловкое положение. Ты говоришь – племянница. Но каждую сплетницу я не стану отсылать в Департамент герольдии за генеалогической справкой… Не будь смешным!
Всем было смешно, только не ему. Внутри дома тоже разлад. Сыновья заявили, что у них нет больше сил выносить присутствие этой… блондинки. Старик понимал, что Надин вторгалась в их меркантильные интересы: женись он на молоденькой, и тогда из наследства им останется один пшик на постном масле. Но рядом с Горчаковым (чего он не замечал) страдала и мучилась еще одна добрая душа… В один из дней канцлер подъехал к дому, и швейцар ошарашил его известием:
– Яков-то умер.
– Яков? Как умер?
– А так. Погоревал. И преставился…
Это было словно предупреждение для него. Горчакову вспомнился Яков молодым хватом-парнем, его бурный роман во Флоренции с красивой торговкой рыбой, и теперь все исчезло, будто провалилось в бездонный колодец. А ведь они были ровесники… В лютый мороз канцлер великой империи, следуя за скорбными дрогами, проводил своего лакея до Волкова кладбища. Оглушительно громко скрипнул снег в могиле, когда на него поставили гроб. С похорон князь вернулся продрогший до костей, едва жив, его бил озноб. Но все же он поехал во дворец…
– Из амплуа влюбленного юноши я должен переключиться на роль благородного старца, озабоченного будущим счастием племянницы. Прошу – выдайте ей заграничный паспорт.
Царь точно определил «будущее счастье» Надин:
– Я скажу Шувалову, чтобы не чинил препятствий для выезда им обоим… ей и герцогу Лейхтенбергскому!
Ну, вот и все. Горчакову стало легче.
* * *
В начале лета он отбыл на немецкий курорт Вильдбад, где в горах Шварцвальда его и застала кровавая интермедия к войне. Здесь его повидал французский журналист Шарль Муи:
– Бисмарк недавно проговорился, что если бы в Зимнем дворце считались с мнением русского народа, то в предстоящей войне Россия бы выступила заодно с Францией против Пруссии. Скажите, канцлер, есть ли в этом смысл?
– Пожалуй, да, – кивнул Горчаков.
– Какое же положение займет ваша империя?
– Россия сохранит нейтралитет до тех пор, пока обстоятельства не заденут ее национальной чести. Вы, французы, можете искать союзников среди обиженных Пруссией: в Италии, обязанной вам за войну в Ломбардии, в Дании, оскорбленной узурпацией Шлезвиг-Голштинии, наконец, в Австрии, где еще не скоро забудут Садовую… Практически я не вижу со стороны Франции никаких услуг, за которые Россия должна бы сейчас платить своей кровью. Вот разве что за Севастополь, где ваша артиллерия не оставила камня на камне.
– Не будьте так жестоки к нам, канцлер!
– Зачем же? Я просто реально смотрю на вещи.
– И каков ваш нейтралитет? Вооруженный?
– Не знаю. Но мы будем тщательно повторять каждый военный жест вашей союзницы Австрии: оседлала она лошадей – наши выведены из конюшен, зарядила Вена пушки – наши тут же будут выкачены из арсеналов… Я не скрываю, – сказал Горчаков, – стоит Австрии выступить против Пруссии, как наша лучшая армия из Варшавы сразу же переместится в Галицию.
– Вы очень откровенны, – заметил Шарль Муи.
– А я не Талейран, который утверждал, что язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли…
Шарль Муи тогда же схватил на карандаш фигуру русского канцлера: сгорбленный, но еще осанистый, хитрое, очень подвижное лицо с тонкими губами сатира, изящные, старомодные манеры, полученные в наследство от XVIII века, и – «предрассудки старины, хотя никто в Европе лучше Горчакова не знал, что от них взять, а что оставить без употребления».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.