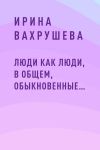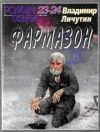Читать книгу "Понять и полюбить"

Автор книги: Виктор Вассбар
Жанр: Приключения: прочее, Приключения
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Так, утирая ладонью выступивший на лбу пот, закончил говорить «обвиняемый» Кузьма Чумаченко, а после расписался под своими словами именем своим.
Освободили Кузьму люди, сказали, чтобы уходил от Тузикова. Не доведёт он до добра.
На следующий день мельник Тузиков всем селом был «взят в оборот». В ходе народного суда, не желая всю вину брать на себя, Иван Самойлович изложил следующее:
«На другой день после стычки с Севостьяновым ко мне на мельницу пришёл батюшка Митрофан и стал увещевать, что во всех бедах на селе виноваты артельщики, руководимые Куприяном Фомичём.
– Уважаемых на селе людей, – указав на меня, – ни в грош не ставит. Всё по-своему норовит сделать. Пожелал молоканку сотворить, нате вам, получите. Задумал тебя, Иван Самойлович, – жалостливо посмотрел на меня, – по миру без гроша в кармане пустить, пожалуйте! Ещё одну мельницу задумал поставить, а с нею и цены за помол снизить. Разве такой жизни ты желаешь себе и семейству своему? Нет, ясно дело! А ему наплевать на тебя и семью твою, ему своя рубаха ближе к телу.
– Тебе-то какая от этого выгода, батюшка? – спросил я его.
– Нет мне выгоды личной от этого, – ответил священник.
Не понял я его поначалу, не понял, что солгал он мне. Имел он выгоду, извести желал Севостьянова моими руками, а мне, дураку, невдомёк было.
– О приходе пекусь, – продолжал говорить отец Митрофан. – Мирно жили, покуда Севостьянов не поставил молоканку, четвёртую по счёту. Народ стал грызться меж собой, а мне приходится усмирять прихожан и не доносить куда след о беспорядках в селе. А ежели он мельницу поставит, то народ совсем перегрызётся и войной пойдёт друг на друга, тут уж не скроешь никакие безобразия. Каторгой для многих сие беззаконие может обернуться, детки сиротами останутся, вдовы руки на себя накладывать зачнут. Вот такая перспектива намечается, Иван Самойлович.
Сидели мы с батюшкой за столом моим, вино пили и планы, как извести Куприяна Фомича строили.
Сговорил он меня послать ночью к дому его работника моего Кузьму Чумаченко. Сказал, что самое лучшее будет, если среди ночи коровник его огнём охватится.
– Не дурак, Севостьянов-то, поймёт, что это первое ему предупреждение, а коли продолжит настаивать на постройке мельницы, можно и… чего сурьёзнее произвесть противу него, – сказал батюшка».
– Что делать будем, люди, с Тузиковым Иваном Самойловичем? – обратился к сельчанам, собравшимся на суд, председатель собрания Дмитрий Поломошнов – сельский писарь. – Бумагу я с его слов составил, и подписал он её. Дальше как поступим с ним?
– Спалить мельницу его к чертям собачьим, как возжелал спалить коровник с коровой в нём у Куприяна Севостьянова, и весь разговор, – донеслось из глубин сборни.
– А и верно, чё цацкаться с ём, мироедом! Кажный божий год повышает цену за помол, – выкрикнул Перепёлкин.
– Смилуйтесь, люди! Пожару-то не было! – взмолил о пощаде Тузиков. – Детки у меня малые.
– А о Севостьяновских детках ты думал? – спросили мельника собравшиеся на суд люди.
– Бес попутал! Отец Митрофан, будь он неладен, споил и сговорил на злое дело. А цену, вот ей Бог, – Тузиков перекрестился, – вдвое спущу. Только не жгите мельницу, не губите семью!
– Это ты сейчас такой сговорчивый, а как начнёт артель свою мельницу ставить, тут же хвост-то и подымешь, – выйдя к народу и встав лицом к нему, твёрдо проговорил Севостьянов.
– Люди добрые, истинно говорю. Вот вам крест! – Тузиков вновь перекрестился. – Ни словом, ни делом поперёк артели не пойду. Только не губите.
– Бог с ним! – кивнул на Тузикова – Севостьянов. – Не держу я на него зла. И вы, народ, отпустите его с миром. Чую, натерпелся он страху, осознал вину свою… Что ж мы звери, что ли? Губить душу человеческую, грех на душу брать! Ну, сглупил человек, так ведь прощение просит. Пущай идёт домой, семья-то, верно, молит за него. Простим его?
– Бог с ним, пущай идёт!
– Поверим… а ежели ещё чего… то…
– Прощаем!
– А Митрофана к ответу!
– Он зачинщик всех бед!
Понеслось со всех сторон.
– Бумагу на Митрофана надо составить. Чтобы, значит, урядник к нам в село пожаловал и дознание провёл. Так что пущай Тузиков покуда здеся побудет, – предложил Дмитрий Поломошнов. – Пущай ещё одну бумагу подпишет, что, мол, так и этак, что не супротив народа, а за правду радеет, противу супостата попа Митрофанки, сговорившего его по пьяному делу поджог в дому Куприяна Фомича устроить.
– А и то верно, пущай подпишет ещё одну бумагу, а только опосля до дому и тёпает, а то потом с него как с гуся вода… Сговорится с Митрофаном, посулит тот ему што-нибудь, тагды ни того, ни сего с него не возьмёшь… ни карася, ни морковки, ни росинки, ни тычинки. Так-то! – заключил Лев Перепёлкин.
Составили вторую бумагу к становому приставу с просьбой привлечь к уголовной ответственности сельского батюшку Митрофана, подписал её Тузиков.
Урядник Поплавский, проведя дознание, доложил становому приставу, что всё изложенное в письме крестьян села Усть-Мосиха соответствует действительности.
В определении статского советника пятого класса Волокита было написано: «Дело прекратить за отсутствием состава преступления!».
На этом всё и закончилось. Вернее, – жизнь продолжилась в обычном ритме, как заход и восход солнца.
Нехристь
– Люди, что же вы позволяете творить над собой? – укорял с амвона прихожан отец Симеон. – Он, этот пришлый, невесть откуда взявшийся человек совращает вас и сбивает с пути истины. Провозглашая, якобы, свет, он несёт в наше село мрак. Вот, посмотрели бы вы на то, что выписывает он из Литвы, волосы дыбом бы встали. Это же сатанинские развратные издания. – Поп Симеон поднял руку над головой, в ней был иллюстрированный журнал, и потряс им. – В нём богохульство и богомерзкие рисунки женщин с открытыми ногами. А вот ещё! – Спрятав первый журнал в широкий карман рясы, поп вынул из складок его другое глянцевое периодическое издание, тоже на нерусском языке, и тоже поднял его над головой. – В нём срам божий. – Поп прикрыл ладонью глаза. – Его не только нельзя раскрывать, но даже брать в руки. – Симеон брезгливо бросил журнал себе под ноги. – В нём обнажённые мужчины и женщины, а под картинками написано, что писали их неруси. Наш русский православный человек до такой мерзости не станет нисходить. Ясно, что это происки сатаны, он насылает на великую Русь своё адское войско и свой поход начал с нашего села, направив в него нехристя немца. Давно уже известно, испокон веков несут войну нам – православным людям немцы басурманы. У них на голове рога, а это знак сатанинского войска.
– Слушаю тебя и диву даюсь. Докель брюзжать будешь? Допрежь литовца у нас татарин был, его понужал, что вразрез тебе шёл. А, спрашивается, что такого он сделал? Ни-че-го! – твёрдо и по слогам влился в «нравоучительную» речь батюшки хозяин маслобойни Ксаверий Плотников. – Не вытерпел он нападок твоих и сбёг? Народ до сих пор понять не может, какого рожна ты спустил на него всех бесов? Только я-то знаю, в чём тут дело. От меня не скроешь мерзкие дела свои!
– Анафема тебя забери, ирод окаянный. Как смеешь ты вести нападки на проводника божьей воли в храме Господа Нашего Иисуса Христа? – взъярился Симеон. – Али забыл, какую бучу устроил татарин в Светлый праздник Рождества Христова? Народ взбаламутил до драки.
– Ты на него-то не вали свою вину, душонку твою поганую все знают. Всем известно, с чего всё началось. Загубил ты Феодосию Косихину, потому как отказала тебе. Следовало бы разобраться, с чего она вдруг заболела горячкой? По мне, думаю, ты руку свою к этому приложил, а опосля не допустил до неё Наталью травницу, чтобы не разобралась она, с чего это вдруг здоровая, молодая девушка в падучую свалилась. Сам за её лечение взялся и до того залечил, что вогнал Феодосию в смерть. А всё от того, что неровно дышал ты к ней. А ведь всем известно, что любила она Шауката, а он её. Душегуб ты, Симеон. А сейчас на Мажюлиса литовца всех демонов спускаешь. Немцем его обозвал. Он-то чем тебе не угодил?
– Как ты смеешь говорить такие речи в церкви?
– А ты мне рот-то не затыкай! А объясни народу, чем добрый человек помешал тебе, – не переставал Ксаверий «разносить» попа.
– Объясни, объясни! – полетело к Симеону со всех сторон церкви.
– А разве ж вы не знаете, что удумал этот пришлый человек?
– Нам-то ведомо! – твёрдо ответил Плотников. – А вот ты разъясни, коли такой самый умный из нас, чем Урбонас мешает тебе. В церкву нашу не ходит, речи супротив тебя не ведёт, машины и агрегаты, что артельщики доверили ему, всегда в порядке, а ежели какая поломка, быстро всё в работу приводит, бабы и те на него не нарадуются. Швейные машинки починяет задарма, а кто в благодарность яйца, али ещё чего даёт, так платит за это.
– А разве ж неведомо вам, люди, – гордо вскинул голову поп, – какую каверзу пришлый собирается в селе построить?
– Мне, и нам всем, – Плотников обвёл прихожан рукой, – всё известно. Только какое ж твоё дело, – мысленно проговорил – собачье, – до дома народного просвещения, что надумал он строить для всего сельского человечества?
– Это дом разврата! – брызнул слюной Симеон.
– Мнится мне, другие мысли у тебя, батюшка. Боишься, что народ не в церковь будет ходить, а в дом просвещения, где будут ставиться спектакли, читаться газеты и книги, следовательно, в твой глубокий карман меньше денег будет падать, где детишки будут заняты делом в техническом и других кружках. О себе ты печёшься, а не о прихожанах. Оттого журналы и газеты, что выписывает господин Урбонас, сперва к тебе попадают, а потом на своё усмотрение что-то ему отдаешь, а что и себе присваиваешь, как и журналы, которыми только что тряс. Голые женщины ему, видите ли, не пондраву. А то понять ты не можешь, что это работы великих мастеров, – художников иностранных.
– Тебе-то откуда это знать, неучу! – взъярился Симеон.
– Я, может быть, особо грамоте не обучен, только у меня глаза и уши есть. Сказывал господин Мажюлис Урбонас про художников, что пишут такие картины, великими они считаются во всём цивилизованном мире. И во дворце нашего Государя Императора Николая второго такие картины есть. Что… к нему пойдёшь, во дворец к Государю Императору? Со стен дома его картины те срывать?
– Не богохульствуй! – взвизгнул Симеон, круто развернулся и, покинув амвон, скрылся за иконостасом.
Ксаверия Плотникова никто не поддержал, промолчал даже приказчик артели. И женщины, которым Мажюлис никогда не отказывал в ремонте и настройке их швейные машинки, не высказались в его пользу, а на улице, выйдя из церкви, они даже стали укорять Плотникова.
– Всё правильно батюшка говорил. Срам, да и только! Это ж, какую такую культуру литовец хочет распространить по селу? – покачивая головой, возмущалась крепко сложенная крестьянка лет двадцати трёх-двадцати пяти.
– Ясно какую… свою… антихристскую, – брезгливо поморщилась маленькая, но плотно сбитая девушка. – Он, подруженька Анфиса, совратит наших мужчин картинками с голыми женскими телесами, они потом на нас смотреть не будут… Или того хуже, заставют вырядиться в ихние заморские наряды и гарцевать перед ёми с голыми ногами и грудями, как лошади на смотре.
– Вота-ко им! Пусть выкусят! – вскинув руку с кукишем, воскликнула Анфиса. – Кабы ни так, буду я перед мужиком своим как лошадь с голыми ногами гарцевать… Не дождётся!
– А и верно, подруженьки! Что нам даст дом, который вздумал построить литовец? И ведь название-то выдумал… дом просвещения, – держась за сердце, поддержала подруг худенькая, явно болезненная девушка лет двадцати. – Просвещать нас срамом голым, это ж надо додуматься до такого бесстыдства!
– Евгения, что за сердце-то держишься? Опять прихватило что ли?
– От духоты это, что в церкви, – ответила Евгения. – Сейчас отпустит.
– Ладно, если так, – участливо ответила Ульяна. – А с литовцем надо строго. Думаю, народ надо собирать и идти к батюшке, просить его анафему литовцу сделать. Пущай с нашего села катится подобру-поздорову, покуда глаза его бесстыжие не выцарапали. Верно, говорю, подруженьки?
– Так-то оно так! Только, как это анафему? Он же нехристь! Ему на нашу анафему плевать и растереть! – с придыхом проговорила Евгения, ещё крепче прижимая руку к груди.
– Вздохни глубже и пройдёт! – посочувствовала Евгении Анфиса. – У меня тоже так бывает… втяну воздух глубоко… щёлкнет что-то внутрях и всё… снова можно дышать.
– Не могу, больно в груди… Сейчас маленько постою и пройдёт. Не тревожьтесь, у меня так часто бывает. Ещё минуточку и отпустит.
Остановились. Следом за ними шли молодые мужчины. Поинтересовались, что случилось с Евгенией.
– Прихватило что-то в груди ейновской, – ответила Ульяна.
– Так надо к литовцу её свести, у него микстуры разные есть. Он в лечебном деле тоже хорош, – сочувствуя Евгении, посоветовал сельский кузнец Ермолай
– Хорош, как сивый Барбос, к которому бабы кажный день кажут нос, и ещё кой што ж! – хмыкнул деревенский балагур Пахом Нефёдов.
– К нему ещё не хватало! – проговорила Евгения. – Слышала, чем он у себя лечит… мазями всякими. Да… и отпускает уже… меньше щемит.
– Во-во, заставляет юбку задирать и ноги мажет, а то и того хуже, по спине голой своими ручищами возёкает. Срам и только! – злобно подёрнула головой Ульяна. – Сегодня к нему за лекарством, а завтра делегацией.
– Какой такой делегацией? – удивлённо воззрился на Ульяну Ермолай.
– С такой, Ермолай, чтобы указать ему от ворот поворот, – ответила Ульяна.
– Ага! Неча ему делать у нас, мужчин наших развращать всякими несуразностями, – поддержала подругу Анфиса.
– Какими несуразностями? – пожали плечами мужчины.
– А такими, что в журналах евонских, которые выписывает из своей Литовии. Ежели нам погано смотреть на голых баб, то вам и подавно срамно должно быть! – отдышавшись, гневно проговорила Евгения.
– С чего это вдруг нам-то должно быть срамно? – вздёрнув брови, хмыкнул Ермолай.
– А и то верно, ежели мы не будем смотреть на баб голых, да не прижимать к себе, – Пахом резко выкинул руку в направлении живота Ульяна, та отпрянула от него, испугавшись, что парень схватит её за то, что прячется под юбкой и вскрикнула, – кто же вас целовать тогда будет?
– Охальник! – выкрикнула Ульяна. – Бесстыдник!
– А мене чего стыдиться? Я человек сурьёзный, голову всякими глупостями не забиваю. А в вашей голове, как погляжу на вас, нагишом все бегают. Можь вы сами хотите на них походить, что на картинках… А шо, там бабы чё надо… красивые и грудастые… Сиськи во! – Пахом на полметра выдвинул обе руки перед своей грудью, – поболе, чем у Анфиски. Одна благодать! Дар божий! Так-то вот!
– Баламут ты Пахом! Был им и останешься до скончания своего века! – приосанившись и вздёрнув «богатую» грудь, кокетливо блеснула глазами Анфиса.
– А мне чего не колготиться?! Я человек свободный! Куда хочу, туда и хожу! Кого хочу, того и топчу! – подмигнул Анфисе Пахом.
– Што с ними разговаривать, с охальниками! Айда, подруженьки, отсель, нечего с ними лясы точить! Себе в убыток! – возмутилась Ульяна обиженная тем, что первый красавец на селе Пахом больше внимания уделил замужней Анфисе, нежели ей, – свободной девушке.
– А чё эт вы говорили о делегации-то? – крикнул вдогонку женщинам до этого молчавший Спиридон Кузнецов. – Что-то я толком не понял.
– А то, что завтра всех баб сберём и пойдём к батюшке, просить его возглавить нас на изгнание из села богохульника литовца, – обернувшись, ответила Ульяна.
– Вона что? – почесал затылок Спиридон. – Народ поднимать… Антересно, антересно! И чё привязались к литовцу? Человек, как человек, культурный и в машинах толк знает. Польза от него селу большая.
– Ежели бабы подымутся, хрена их остановишь? – запустив руку в густую бороду, задумчиво проговорил Ермолай.
На пике следующего дня у дома батюшки Симеона собралась большая толпа женщин. Стояли молча, ожидая делегацию из своих рядов, направленную к нему с просьбой возглавить шествие к дому литовца, с целью выдворения его из села. Со стороны могло показаться, что кто-то установил у дома священника человеческие скульптуры, так как кроме тишины, разливающейся над толпой, не наблюдалось и движения. Бездвижно и тихо, лишь хлопки крыльев коршунов, взмывающих с добычей – мышами, вносили в немую тишину звук жизни, от которого беззвучная масса женщин приобретала цвет и запах. Цвет – разноцветные сарафаны, запах – аромат женского тела.
В предчувствии торжества своей проповеди над умами прихожан отец Симеон смиренно держал руки на животе и выслушивал выборных от женщин.
– Пришли мы к тебе, батюшка, с великой просьбой, – возглавить нас на литовца, бесстыдство по селу сеющего. Своим богохульными книжками он развращает наших мужей. Картинки с богопротивными голыми развратницами кажет им, после чего, насмотревшись всяких безобразий выпячиваемых ими на всеобщий показ, они на нас совсем не глядят. Терпеть такой срам в нашем богобоязненном селе мы не намерены.
Симеон слушал и посматривал в окно, ждал момент, когда стоящие у ограды его дома женщины взорвутся неистовством к ненавистному ему литовцу, посмевшему «залезть в его поповский карман» посредством постройки дома просвещения, который, по мнению батюшки, не только снизит его доход от прихода, но будет являться гнездом разврата и богохульства.
И толпа «взорвалась». Село огласили неистовые крики:
– К ответу богохульника!
– …нехристя окаянного!
– …немца, пособника сатаны!
– Распять его!
– …неча ему делать на русской земле!
– Батюшка, где ты? Покажи свою божью силу! Изгони литовца окаянного из села нашего.
Скрипнула дверь дома батюшки Симеона и на крыльцо вышли делегатки.
– Батюшка выслушал нас, – призывая женщин к тишине, проговорила Анфиса. – Согласен он возглавить наше шествие к дому литовца.
Держа икону Божьей матери над головой, к женщинам вышел отец Симеон.
– Люди, что возжелали вы от раба божья Симеона? – громко проговорил он.
– Наставления твоего жаждем услышать, батюшка! – пронеслось по толпе.
– В церкви ежедневно наставляю вас на путь истины! Слушаете, да не слышите меня! Чем же могу помочь вам, коли уши ваши серой забиты?! Смотрите и не видите! Как же я могу слепцам открыть очи?
– Прости, батюшка! – упали на колени крестьянки. – Бес попутал. Поверили мужьям, что благо принесёт сей нехристь, смирились. Призвали к себе иноверца, а оно вон, как вышло. Погибель он нам несёт! Освободи, батюшка, от басурмана!
– Устал я бороться с вашим неверием в правоту слов моих, да, видно, на то божья воля, до конца дней моих терпеть от вас обиду и направлять вас – заблудших, – на путь истины. Подымитесь с коленей и шествуйте за мной. – Укоризненно посмотрев на женщин, проговорил батюшка, спустился с крыльца и, не останавливаясь, размахивая массивным нательным крестом, двинулся в сторону дома, в котором проживал литовец. Рядом с ним, держа над головой икону Божьей матери, гордо шествовала Анфиса.
– Глянь-ка на Анфиску! – ухмыльнулся сын лавочника Лигостаева семнадцатилетний оболтус Онуфрий, и ткнул локтем в бок своего товарища Кирилла Колобова.
– Чего это они?.. – часто моргая глазами, проговорил юноша.
– Ясно чего… к литовцу пошли… изгонять из села, – ответил Онуфрий.
– А чё он им сделал-то? – пожал плечами Кирилл.
– Батя вчерась сказывал, приходили к нам бабы, мамку хотели уговорить пойти с ними на литовца, только он не пустил. Сказал, что нечего народ смешить. Наше, мол, дело товаром торговать, а не митинговать.
– И чего?
– А ничего… Не пошла!
– А! Понятно! А эти чего?
– А эти дуры, чего с них возьмёшь?! Анфиску понятно, что потянуло на бой с литовцем. Эйный мужик ни одной юбки не пропустит, вот и решила отыграться на нём. Батя сказывал, что Иван её часто в дому литовца бывает… Тот ему картинки с голыми бабами кажет, а опосля Ванька, насмотревшись тех голых картинок, по бабам шасть, только-то его и видали.
– Эт, значит, Анфиске-то ничего и не остаётся от него, – захохотал Кирилл. – Ну и дела!
– Вот такие пироги, друг ты мой ситный! А по мне так Ванька ейный дурак, Анфиска баба видная, всё при ней!
– Ага! – гакнул Кирилл и тотчас, как только Анфиса поравнялась с ним, выкрикнул. – Глянь-ка на неё! Ай да Анфиса! Прям, царевна, не иначе! Ишь, как гордо голову-то запрокинула!
Анфиса даже глазом не моргнула, как шла, гордо вздёрнув голову, так и продолжала возглавлять колонну женщин вместе с отцом Симеоном.
– Айда с ними, – ткнув в бок Онуфрия, проговорил Кирилл и направился к Анфисе, по пути продолжая вызывать её на ответную реакцию. – Гляньте, гляньте на неё, даже ухом не ведёт. Ты чё ж думаешь, баба, ентим удержать свово Ивана? Ты хошь цельный иконостас неси заместо иконы, Иван твой всё одно будет бабам под юбки руки запущать.
– Цыть, молокосос! Не твово ума дело! Молоко на губах не просохло, а туда же. Ты прежде рот свой поганый от мамькиного молока утри, а топом разявай его! – не удосужив юношу даже взглядом, ответила Анфиса.
– Отойди, отрок, от женщины, – гневно взглянул Симеон на Кирилла.
– А то, чего, батюшка? Крестом своим огреешь, что ли?
– Тфу на тебя, богохульник! Как только земля таких бесстыдников носит?! Женщина на цельных десять лет старше тебя, постыдился бы рот свой разявывать. Бога в тебе нет!
– А твой Бог в твоём пузе! Ишь как важно тащишь его впереди себя на цельный метр, – заступился за товарища Онуфрий, и, придвинувшись к Анфисе, ткнул её пальцев в бок.
– Ах, ты ж охальник! – возмутилась Анфиса и, не прекращая движение, резко толкнула парня своим крепким объёмным задом.
Онуфрий, не ожидая от неё такого маневра, заплёлся ногами и повалился на землю, увлекая за собой идущего рядом Кирилла.
– Бог он всё видит! – взмахнул крестом батюшка, следом громкий смех десятка женщин разнёсся по селу.
В колонну женщин, двигающихся к дому Мажюлиса Урбонас, прибывали новые люди, – женщины в солидарность своим подругам, мужчины из любопытства.
Подойдя к дому литовца, женщины подняли визг, из которого было понятно только одно:
– Вон из села!
Две женщины пытался даже поджечь дом литовца, но были удержаны мужчинами.
Анфиса и ещё две женщины бросили камни в дом, разбив стёкла в одном из окон. От дальнейшего разрушения дома их остановил батюшка Симеон.
– Угомонитесь, люди! – обратился он к сельчанам. – Надо мирно решить вопрос с литовцем.
На крыльцо дома вышел Мажюлис и без вопросов и предисловий сказал:
– Вижу, не угоден вам. Сегодня покину ваше село. Желаю здравствовать и процветать.
Через два часа, наняв подводу, Мажюлис Урбонас покинул Бащелак.
В селе, после изгнания литовца, начался праздник. Поп Симеон выставил народу пять ведер вина и два ведра водки.
Народ вдарился в пьяный разгул. Село гуляло – пело и плясало, народ пил и веселился. Поп Симеон торжествовал. В пьянке приняли участие даже те, кто с укоризной смотрел на женщин, изгнавших из села грамотного механика. Началась массовая попойка. На дармовое спиртное, как вороньё на падаль, слетелось всё село. Пили все, у кого были руки, – кто мог держать в них стакан, – мужики и молодые парни, бабы и молодые девки, не отставали от них старики и ребятня.
К вечеру многие «очухались» и пришли домой, не дошли до дома два мужика и девка с парнем.
– Загуляли, – подумали их родственники. – Видно у друзей остались.
К середине ночи над селом зависла зловещая тишина, но с рассветом деревня вновь пустилась в пьяный загул. Началось похмелье.
К полудню перепились все и стали драться, даже бабы и те вспомнили старые обиды, – началась всеобщая потасовка, в результате которой один мужик был убит, два покалечены, а трём бабам поломали рёбра, – счёт на синяки, кровоподтёки и клоки вырванных волос не вёлся.
Мужиков, что не возвратились домой в первый день попойки, нашли у реки – угоревшими на солнце, а молодых любовников, потерявшихся в этот же день, вынесли из-под крыши пустого сеновала, – сгорели в спёртом раскалённом воздухе.
Вот такой получился праздник в борьбе тёмных и светлых сил, праздник поповского торжества, – торжества чёрного над белым, торжества мракобесия над учёностью.
А Мажюлиса Урбонас пригласили к себе артельщики села Усть-Косиха. Перебравшись к ним, литовец незамедлительно приступил к своим обязанностям – механика молоканки и уже через десять дней завод не только увеличил выпуск масла, но и по рекомендации Мажюлиса организовал прибыльную артельную торговлю разными товарами. А ещё через месяц Урбонас сделал агрегат, который, независимо от уровня воды в реке, превращающейся в летнюю пору в ручеёк, приводил в движение все машины завода, и даже прибор для экономии самой воды. Претворил в жизнь и мечту своей жизни, создал народный дом творчества, в котором организовал механический и художественный кружки, привлёк учительницу и школьников к литературному кружку.
Весть об умельце из села Усть-Косиха быстро разлетелась по Бийскому уезду. В Усть-Косиху потянулись артельщики, заводчики и просто мастеровые люди. Всем хотелось поучиться у литовца Мажюлиса Урбонас и перенести его знания и умения на свои производства.
Не приезжали в Усть-Косиху лишь крестьяне села Бащелак, – развалили они свою артель, – растащили и пропили оборудование её.