Текст книги "Лев на лужайке"
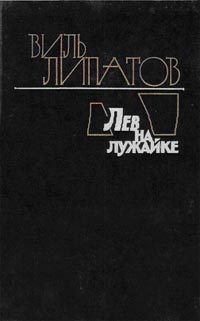
Автор книги: Виль Липатов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 31 страниц)
Читатель непременно заметит, как вяло я написал эту главу, как скучно мне рассказывать, как я аморфен, неэнергичен, неинтересен. Оно и немудрено: мое возвращение в Москву, в столицу, возвращение – я не хвастаюсь – на белом коне было счастьем на три дня, ликованием на семьдесят два часа и ни минутой больше, так как ровно через семьдесят два часа, отсиживая скучнейшую летучку, я понял, что началась серые будни, беспросветные будни литературного сотрудника отдела промышленности, так резко отличные от праздника моего спецкорреспондентства в Сибирске и поблизости. Я заранее был готов на медленное-медленное восхождение наверх, но контраст был таким, что я купил большой коричневый портфель, а чемоданчик типа «дипломат» спрятал подальше.
Серые будни, печальные будни. Болото будней!
Проученный за ярость и заметность на сибирском партийном собрании, хорошенько обдумавший тему «посредственность и карьера», «безликость и карьера», «серость и карьера», окоротивший волосы и надевший очки в маленькой оправе, я уже не мог себе позволить блистать, как блистал прежде, понимая, что уж в редакции-то «Зари» на этапах медленного-медленного продвижения по службе такие субчики, как Валька Грачев, мне не простят ничего, выходящего за рамки обыденности. Я должен был идти в строю, набравшись терпения, не «мыркать» и не спешить к сияющим высотам. Пока я сам выбрал серость, сам переменился ради серости и будней, изнуряющих будней.
Сейчас я поднимался скоростным лифтом на восьмой этаж, поднимался со скоростью века и размышлял именно об этом ускорении времени и темпов жизни, жестоких для многих современников, а для меня благостных и целительных; я, наверное, оглох бы, проведя неделю в «тургеневской» усадьбе. Я нисколько не преувеличиваю, целиком согласен с американским футурологом Тоффлером, утверждающим, что человечество находится в стрессовом состоянии от катастрофически быстрого наступления будущего. Футурошок! Конечно, адаптационная способность человека чуть ли не безгранична, тот же мрачный Тоффлер скорее надеется на оптимистический исход, чем на пессимистический, но жертв футурошока предостаточно. Одна из них – мой редактор Илья Гридасов. Он не заметил, что все побежали, быстро заговорили, не поехали, а полетели, не любили, а только влюблялись, не читали, а только «просматривали» умные книги. Он продолжал жить своей прежней жизнью и, конечно, отстал, существовал анахоретом, пользующимся стеариновыми свечами… Он и внешне был примечателен: имел такие маленькие, сложенные гузкой, малиновые губы, которыми художники Ренессанса награждали красавиц, у него были такие короткие и негнущиеся ноги, что Илья Гридасов казался ходящим на протезах. Он слов произносил по времени раз в десять меньше, чем длились его паузы, и они, паузы, у него означали все, в том числе и желанные мысли собеседника; от этого его считали умным иделикатным человеком…. Много лет спустя известный писатель Егор Тимошин беззлобно скажет мне: «Ты – мещанин самой модерновой кондиции, Никита!» – на что я расхохочусь. Мещанином я считал Илью Гридасова, в недобрую минуту вспоминал четверостишие Бориса Слуцкого из его стихов к пьесе Брехта «Добрый человек из Сезуана»: «Шагают бараны в ряд, бьют барабаны; кожу на них дают сами бараны…»
Сегодня между нами произошел такой разговор:
ВАГАНОВ. Привет, Илья Владимыч!
ГРИДАСОВ. Привет!
ВАГАНОВ. Хорошая погода, черт побери! Радуюсь за колхозы.
ГРИДАСОВ. Погода ничего.
ВАГАНОВ. Казахстан хорошо идет. Славно!
ГРИДАСОВ. Славно.
ВАГАНОВ. Ну, будем давать Сиротенко в номер? По-моему, нужный материал.
ГРИДАСОВ. Ничего.
ВАГАНОВ. И как все-таки? Будем ставить этот роскошный материал в завтрашний номер? Вдруг Игнатов согласится?!
ГРИДАСОВ. Можно.
ВАГАНОВ. Что можно, Илья Владимыч?
ГРИДАСОВ. Можно.
ВАГАНОВ. Поставить материал?
ГРИДАСОВ. Можно.
А он сидел в современном кресле прекрасно прямо, невзирая на свою толщину, надменно, поглядывал на меня лихими глазами. Но все-таки в конце двадцатого века он не был живым человеком, этот Илья Гридасов, редактор промышленного отдела газеты «Заря»; он был создан только и только для девятнадцатого века, и у него в газете «Заря» не было перспектив роста, у него, похоже, впереди был какой-нибудь теоретический журнал, возможно, редакторство в таком журнале…
Я сказал:
– Надо давать материал Сиротенко. Попадаем в струю, то бишь в быстротекущую жизнь. А, Илья Владимыч?!
Он ответил:
– Можно.
… Я не буду пока бороться с Ильей Гридасовым, а, наоборот, учась в Академии общественных наук, буду при всякой встрече с Александром Николаевичем Несадовым – заместителем главного по вопросам промышленности – восхищаться делами Гридасова. Мало ли кто может сесть на его место, пока я грызу гранит науки! Нужно сохранить смешного тихохода…
Между тем забавный диалог с Ильей Гридасовым по моей прихоти продолжался:
ВАГАНОВ. Так я сдаю статью? Она будет полезной, не так ли?
ГРИДАСОВ. Можно.
ВАГАНОВ. Мне нравятся в статье основательность, эрудиция, спокойный тон полемики. Пожалуй, давненько не было таких материалов, давненько!
ГРИДАСОВ. Возможно.
ВАГАНОВ. Беру статью, иду в секретариат, требую немедленной сдачи в набор.
ГРИДАСОВ. Можно.
ВАГАНОВ. Нет, серьезно, Илья Владимыч, статью надо давать.
ГРИДАСОВ. Надо.
Быть может, он был уж не так глуп, если остановил жизнь на темпе девятнадцатого века, затормозил действительность, отодвинул в сторонку бешеные ускорения… Реально, что на посту редактора общественно-научного журнала Гридасов сделает свой журнал таким же популярным, как «Здоровье». Он будет разговаривать с читателями медленным, основательным и многословным языком прошлого, хорошо разговаривать, чтобы человек постепенно успокаивался, начинал видеть лица прохожих, деревья в сквере, осколок луны в еще солнечном небе, асфальт под ногами; многие ли из спрошенных москвичей ответят, в какие два цвета покрашены вагоны поездов метро или каков памятник Гоголю – сидит, стоит? До «Зари» будут доходить анекдоты из жизни Ильи Гридасова, смешные анекдоты!..
Я сказал, стоя в дверях:
– Понес статью в секретариат?
– Можно.
В секретариате я никого не застал, положил статью на стол ответственного секретаря, поразмыслив, направился в кабинет человека, о котором вы еще не слышали, но которому я отвожу четвертое место среди «строителей» Ваганова. Речь идет о Леониде Георгиевиче Ушакове, одном из трех заместителей ответственного секретаря редакции. Это был такой человек, что брось его в море, вынырнет с рыбкой в зубах, это был тот самый Ленечка Ушаков, которого знали все метрдотели Москвы, маркеры всех бильярдных и швейцары закрытых клубов. С ног до подбородка закованный в джинсовую ткань, он сидел на краешке стола, разглядывал макет полосы и недовольно покачивал головой: «Фиговая полоса, вот что я вам скажу, дорогие товарищи! Удивительно, что эту полосу сверстал я сам!»
– Ти-то-то, ти-по-по! – насвистывал он.
Я сказал:
– Высвистишь деньги, Ленечка.
Он быстро отозвался:
– Их все равно нету. Чего ты шастал в комнату ответственного?
– Отнес статью Сиротенко.
– Давай ее сюды-ы-ы-ы! Я – на сегодня и завтра – ответственный во всех смыслах.
Мы легко находили с ним общий язык: оба имели университетское образование, общих знакомых, одинаковую манеру держаться. Только Леониду не понадобился мой трудный путь вперед и вверх – ему протежировали серьезно и могуче.
– Чего куксишься, Никитон?
Я промолчал, хотя настроение сейчас у меня было препаскуднейшим, и только от того, что редактор моего отдела Гридасов был тряпкой. Я с комичным удивлением произнес:
– Можно.
– Что можно? – воззрился на меня Ушаков. Только после этого Леонид понял, о ком идет речь: наверное, я точно передал интонации Гридасова, и у меня, как я сам чувствовал, было гридасовское лицо. Я сказал:
– Поставишь Сиротенко в следующий номер – веду в ресторацию. Пиво и раки. При желании: коньяк и сациви.
Ленечка брал взятки ресторанами и страстно хотел, чтобы его окружал рой подхалимов, мальчиков на побегушках, легкомысленных девочек. И все это он имел, ибо в так называемой сфере неформальных отношений был титаном: купить «Волгу», достать в августе каюту на теплоход, курсирующий по Черному морю, билеты на премьеру в любом театре, устроить на работу, пролезть в жилищный кооператив – все это Ленечка Ушаков проделывал легко. Короче, в его силах было устроить меня слушателем Академии общественных наук.
Можете от брезгливости не читать, но я «ухаживал» за Леонидом Ушаковым, сдувал с него пылинки, угощал его обедами в Доме журналистов и в других ресторанах великого города Москвы. Я не жалел на него ни денег, ни времени; я, равнодушный к хоккею и футболу, высиживал подле Ушакова на ледяном ветру или кромешной жаре часами – так мне хотелось учиться в Академии общественных наук, и пусть кто-нибудь осудит меня за это желание, пусть кто-нибудь бросит в меня камень, если известно, что так быстро, как я хотел, без Леонида Ушакова в Академию попасть мне было невозможно.
– Клюешь на коньяк и сациви? – со смехом переспросил я и тоже сел на краешек стола. – Где наше не пропадало! Поставишь Сиротенко в следующий номер?
– О чем звук, корешок, о чем звук? И ты прав: коньяк и сациви. Кроме того, новые девочки.
Я грустно признался:
– Девочек не будет, Ленечка! Все переметнулись в стан Когиновича…
– Иди ты?
– Гад буду!
Возле молодой литературной группы редакции «Зари» всегда крутилось несколько дальновидных и прехорошеньких девчонок, увлеченных журналистами, которым оставалось два шага до писательского Союза. В последние десятилетия двадцатого века начинает понемногу таять грань между журналистикой и писательством, но пока она существует, Союз писателей пополняется преимущественно журналистами. Девчонки были умны, интересны по-человечески, добры и широки чисто по-русски. С ними любой ресторанный вечер бывал веселее, умнее и трезвее, но вот несколько дней назад произошло смешное: три знакомых девочки перекинулись, как я уже сказал, в лагерь Егора Коркина, почему-то называемого нами Когиновичем. Он был сотрудником отдела литературы, писал рассказы и повести, носил «литературную» бороду и вытертые джинсы, он, несомненно, находился на пути от Дома журналистов к Дому писателей, и это девочками было замечено, учтено и – «измена, измена, измена стучится в наши двери, гражданин прокурор!».
Ленечка, хихикнув, сказал:
– Великолепно, великолепно, только ты надень фрак и выучи несколько умных фраз из книги «В мире мудрых мыслей».
– А это зачем?
– А это для тридцатилетней дамы, которая будет держаться за руль собственного автомобиля… – Он снова хихикнул. – Когда начнется съезд? Где?
– Ресторан «Советский», восемнадцать тридцать.
Ленечка Ушаков, этот баловень судьбы, работающий всегда с таким видом, точно делает одолжение газете, посмотрел на меня уважительно и сказал:
– Ах, ах, какие они не любопытные!
III«Чертог мадам Грицацуевой сиял…» Собрались неожиданно все: я имею в виду Ленечку Ушакова, себя, Вальку Грачева и Егора Коркина, приведшего с собой трех переметнувшихся к нему девочек – двух блондинок и брюнетку.
Мы уже курили по второй сигарете, перемыли косточки всем, кому могли, официант уже бросал в нашу сторону вопросительные взгляды, когда появилась ожидаемая нами дама – та, что «держится за руль собственного автомобиля». Она небрежно кивнула и назвалась:
– Нина Горбатко.
Красавицей, как ее разрекламировал Ленечка, она мне не показалась, но не заметить ее было трудно: женщина чрезвычайно походила на певицу Эдиту Пьеху, но была травмирована этим и сделала с собой все, чтобы не походить. Сев, она внимательно осмотрелась и остановила бесцеремонный немигающий взгляд на мне. Я ответил ей точно таким же взглядом.
– Можно начинать! – сказал кто-то.
Я заранее заказал столик и еду, обговорил по телефону все мелочные подробности.
– Ну и начали!
Я пригубил минеральную воду, с моим трезвенничеством в редакции уже смирились, надежду «распоить» меня оставили, принимали таким, каким я был в непитии, а я, представьте, пьянел от пьяности компании, чувствовал головокружение, когда понемногу напивались соседи по застолью, – это объяснялось мобильностью нервной системы, унаследованной от моей созерцательницы-матери. Мне предельно понравилась Нина, но я вспомнил Нелли Озерову, разлука с которой была долгой, изнуряющей, хотя Нелька уже стала москвичкой.
После трех-четырех рюмок Валька Грачев вцепился в Леонида Ушакова мертвой хваткой. И тогда я понял, что Ленечка может пригодиться не только для поступления в Академию общественных наук. Пока я «отирался» по Сибирску, Валька Грачев изучал соотношение сил на местном небосклоне, разобрался во всей этой космологии и знал, что делает, когда кормил с ложечки Леонида Георгиевича Ушакова…
Нина Горбатко спросила:
– Вы действительно такой добрый, каким кажетесь?
– Только в очках. Пойдем танцевать?
В ресторане «Советский» хорошо танцевать в длинном и широком проходе между двумя рядами столиков. Нина танцевала прекрасно, а я обнимал такую талию, что ого-го! Во время танца она, прижатая ко мне намертво, спросила:
– Этот ваш приятель, Леонид, – он что, талантлив?
– Не то слово, Нина! Он преталантливый заместитель ответственного секретаря.
– И это все?
– Ага.
После длинного застольного разговора и танца я бы мог съесть Нину с солью и без соли; она глаз не спускала с Никиты Ваганова, и мне катастрофически сильно хотелось согрешить, тем более что и квартира была: успел же я спросить, как и где живет моя партнерша? В однокомнатной квартире на Кропоткинской улице…. Со временем я стану там бывать… После танца мы сели рядом и тесно напротив Ленечки Ушакова, на этот вечер для меня безвозвратно потерянного. Ну, кто меня заставлял приглашать в «Советский» Вальку Грачева? Разве не хватило бы Когиновича и его девочек? Ан нет!
– Друзья, дорогие друзья! – сладостно пел Валька Грачев. – Выпьем с теплом и радостью за нашего неповторимого Леонида. Ура!
Он, видимо, тоже вычислил доморощенную философию касательно лести и льстецов, считал, что доза лести ни количеством, ни интенсивностью не нуждается в ограничении, что льстецов журят, льстецов упрекают, но никогда не устраняют от себя даже самые сильные люди мира сего…
– Не надо убивать пересмешника! – сказал я на ухо Нине Горбатко. – И вообще, мне кажется, что вам хочется нравиться.
Она прикусила губу, подумала, затем сказала:
– Неправдочка ваша! Мне грустно и скучно.
– Лжете! Вам хочется нравиться. Так идите начатым путем. Грубите направо и налево!
– Вот как!
Блондинки повисли на Жорке Коркине. И красив он был, и добр, и весел, и трезв в пьяности, и умен, и эрудирован и – бог знает чего только в нем не было!… Это он проложит путь своим девочкам от Дома журналистов до Дома писателей, там они и останутся – повыходят замуж за пожилых и знатных писателей, сделавших счастливыми их и несчастными себя. Прекрасный конец…
А Ленечка открыто страдал от материнской опеки Вальки Грачева, который – дурак! – потерял меру в том, что меры не имеет – подхалимаже. «За нашего неповторимого Леонида!» Вот и разбирайтесь, а мы… Полуобнимая Нину, я сказал:
– Зря тратите французские духи, Нина. Вы и так пахнете морозным вечером. Это не пошло?!
Она ответила:
– Пошло.
Я громко сказал:
– Любить хочется!
Блондинки всполошились. Одна буквально застонала:
– Ой, как хочется любить! Вы молодец, Никита. Молодец!
Вторая – она катала хлебный шарик – промолвила:
– Суждены нам благие порывы…
И они немножко помолчали – грустили по современной жизни, в которой, казалось им, осталось так мало места для настоящей любви. На самом деле это были бредни, это была тоска определенного круга окололитературных и околожурналистских женщин, имеющих дело исключительно с женатыми людьми. Почему-то так называемые технократы женятся позже, чем журналисты и писатели, среди них образуется холостой вакуум, а вот в журналистско-писательской среде неженатых нет. Впрочем, эти забавные наблюдения не относятся к мучениям Ленечки Ушакова, брошенного на попечение дурака Вальки Грачева. Валька пел как петух, закрыв глаза:
– Секретариат «Зари» держится на тебе, Леня! Я не знал, что делать, пока ты не пришел в секретариат. Давайте выпьем за Леонида, как за небывало крепкого работника.
Мы выпили за «небывало крепкого работника», но это не изменило соотношения сил за столом. Кто кем был, тот тем и остался! Нина откровенно льнула ко мне, блондинки обихаживали Когиновича, а Ушакову – шиш на постном масле в лице кислосонной брюнетки.
… Забегая вперед, скажу, что после вечера в ресторане «Советский» Ленечка Ушаков возненавидит Вальку Грачева; он по вине Валентина Грачева одиноко уедет на дребезжащем такси из ресторана «Советский», Никите Ваганову скажет: «Зачем ты позвал этого Грачева?» Я отвечу: «Думал, он тебе интересен!»
… Я сказал Нине:
– Может быть, исчезнем?
Она шепотом ответила:
– После танго.
– Так смотаемся?
Она прижалась щекой к моей щеке?
– Смотаемся, Никита, немедленно смотаемся!
Возвращаясь после танго к столу, чтобы бросить деньги на расчет, я подумал, что не буду добиваться постели в Нининой однокомнатной квартире, что, пожалуй, «пороманю» с нею, пока моя Нелли Озерова проводит недели в мебельных магазинах, обставляя квартиру, полученную ее «господином научным профессором».
Мы с Ниной вышли под звезды и лунищу, мы попали в прохладу и благодать, нам приветливо светили зеленые огоньки такси, недорогих до Кропоткинской улицы, а то у меня просто не оставалось денег. Я же говорил, как трудно было с ними, проклятыми.
… Впоследствии, вспоминая это время, я не смогу понять, каким это образом умудрялся бросать пятьдесят рублей на ресторан «Советский»? С годами и с увеличением заработков я не буду бросать деньги налево и направо, не захочу – таков закон богатения…
Возле дома Нины мы немного постояли, несомненно, ей была понятна моя игра, и она была благодарна, что я не тащусь за ней в дом.
Я сказал, глядя в небо:
– Любые слова сейчас покажутся пошлыми, Нина, и хорошо, если вы это понимаете.
Она сказала:
– Понимаю.
Я продолжал:
– Тогда будем молчать, если есть о чем. Ночь на самом деле преотличная. Стихотворная ночь!
– Вон мое окно! – сказала Нина и показала на шестой этаж. – Как-нибудь приглашу вас на чашку кофе.
– А давно вы живете одна, Нина?
– Недавно! Я как-то поссорилась с мамой. Вот дядя и помог мне быстро купить квартиру…
Однокомнатные квартиры, особенно на Кропоткинской улице столицы, на мостовой не валялись, и мне стало, конечно, интересно, кто этот дядя, умеющий быстро доставать однокомнатные квартиры.
– Вы его наверняка не знаете, – ответила Нина, – он не так давно переехал в Москву из Черногорской области…
Я, конечно, понял, о ком идет речь, но все-таки торопливо спросил:
– А вам полагается по закону жилая площадь?
– Естественно.
Я торжественно произнес:
– Тогда вашего дядю зовут Никитой Петровичем Одинцовым.
Нина поразилась:
– Вы знаете моего дядю?
– И довольно хорошо!
* * *
… О, будь благословенна статья некоего Сиротенко, приведшая меня в ресторан «Советский» и познакомившая с Ниной Горбатко – племянницей Никиты Петровича Одинцова. Отныне умница Нина станет связующим звеном, через нее будут передаваться поклоны и поздравления, она мне будет приносить приглашения в дом и на дачу Никиты Петровича Одинцова, так как в этот – «болотный» – московский период моей жизни нас будет разделять слишком большое расстояние – социальное, не географическое. Он, крупный работник ЦК, и я, литсотрудник промышленного отдела газеты «Заря», – нет у нас точек пересечения. Никита Петрович не всегда сможет пригласить меня в свою компанию, и тогда начнет действовать его любимая племянница Нина, гостем которой я и буду считаться. И мы будем играть в преферанс, играть долго и по крупной, и для Никиты Петровича день выигрыша будет праздником с фанфарами. О, будь благословенна статья Сиротенко!..
– Ваш дядя – человек замечательный! – радостно сказал я Нине. – Это вам говорит Никита Ваганов, тот Никита Ваганов, который опубликовал полосу, то есть пятиколонник, о лесной промышленности Черногорской области…
Она нахмурила лоб, потом воскликнула:
– Ах, вот как! Вспоминаю. Вас дядя назвал «журналистом от бога».
– Он так и сказал?
– Не так! Он произнес панегирик. – Она удивленно протянула: – Почему, интересно, я забыла, что речь идет именно о Ваганове?
– А дядя, наверное, не называл фамилию. Меня он иногда зовет Никитушкой Вторым, говоря, что не по степеням, а по возрасту делит на первого и второго. – Я радостно рассмеялся. – Как мы с ним играли в преферанс!
– Ох! Об этом тоже знаю! Он вас величал Бандитом с Кривым Ножом!
– Совершенно точно!
* * *
… Судьба, сама судьба руководила мной, когда я в первый вечер, нравясь Нине чрезвычайно, не полез целоваться и обниматься, не стал проситься в ее квартиру, чтобы изменить жене и Нелли Озеровой. Все это произойдет позже и кончится для меня позорно: у нас ничего не получится, и, глядя в потолок, Нина печально скажет: «Мы – разные механизмы!» Я уже ждал отставки, но Нина только поцелует меня, и мы останемся нежными друзьями практически навсегда. А в то утро она шептала, счастливая: «Да разве в этом дело? Ох, боже мой! Я люблю тебя, Никита».
Я влюбил в себя Нину на долгие-долгие годы, сделался необходимым, удовлетворяя тоску женщины по любви. В самом расцвете нашей дружбы с Ниной Валька Грачев – конечно, он! – положит на мой стол роман Мопассана «Милый друг». Я замечу: «Дурачина и невежда! Мопассан поверхностно написал свой знаменитый роман!» Они мелко пахали, эти ребята типа Вальки Грачева, не знающие нюансов…
* * *
Я оживленно сказал Нине:
– Как говорится в песне: мы будем петь и смеяться, как дети.
Она хорошо рассмеялась, умница этакая:
– А вы, Никита, еще и забавный!
– Будешь забавным, если читатели, эти значительно идейно и художественно выросшие за последние годы читатели, заметили, что имя Никиты Ваганова стало сходить со страниц газеты…
… Два с половиной года протрубил я в должности литсотрудника промышленного отдела, два с половиной года работал за медленного, как осенняя муха, Илью Гридасова, изрекающего свои бесконечные «можно»; два с половиной года я приласкивал Ленечку Ушакова, родственника могущественных людей; два с половиной года почти на все праздники бывал приглашен или Ниной Горбатко, или самим Никитой Петровичем – нет разницы.
Кажется, через неделю после «Советского» Валька Грачев пришел ко мне, устало опустился в кресло, помедлив, сказал:
– А хорошую я сам себе свинью подложил, Никита! Ушаков меня видеть не может, трясется, как паралитик.
Не умеешь подхалимничать – не берись, не знаешь дозировки – накройся шляпой и молчи. Это большое искусство – подхалимаж, и дилетантам в нем делать нечего: опасно во всех отношениях.
Я сказал, разглядывая свои ногти:
– Все можно исправить.
– Как? Как?
– Быть паинькой – это раз! Дербалызнуть Ленечку Ушакова хлопушкой для мух по носу – это два!
Он испуганно отшатнулся:
– Ты шутишь?
– Нисколько-о-о-о-о-о! Зарежь немедленно его статью об отхожих промыслах.
* * *
… Это пойдет на пользу Вальке Грачеву, хотя он поначалу мне не поверил, подумал, что я на него расставляю силки, хочу сбросить со счетов соперничества, черт бы его побрал!.. А что касается Леонида Георгиевича Ушакова, то он, всемогущий, продолжал роскошную жизнь. Я уже пытался объяснить, каков он, но сделал это посредственно. Понимаете, во многих организациях или учреждениях встречаются такие добрые молодцы, которые высокого служебного положения не занимают, занимать его не хотят, но живут в свое полное удовольствие, живут за счет могущественных родственников или могущественных связей. Рабочий день таких людей занят телефонными звонками по всем поводам, кроме служебного, – они делают кучу услуг для сослуживцев. Одному помогают обменять квартиру, второму – достать автомобиль, третьему – поставить телефон, четвертому – пристроить тещу в дом для престарелых. Как правило, их не любят, но помощью охотно пользуются, водят по ресторанам, поят и кормят. Таков был и Ленечка Ушаков, который наконец-то сказал мне:
– Ты и без Академии сделаешь карьеру, Вагон! С твоей пробивной силой… Ай, да черт с тобой! Поговорю с предками, учись себе на здоровье, Вагон!
И вот, вырвав из Ленечки Ушакова согласие поговорить с предками на предмет моей учебы в Академии общественных наук, я был предельно – предельно! – счастлив, так как понимал, что университет мне не дал того, что даст Академия общественных наук…
Относительно Вальки Грачева: разговор с ним продолжался.
– Зарежь статью Ушакова и – вся недолга! – повторил я с нажимом. – Ему пользительно получать шишки, идиоту, везучей скотине. И тебя он, поверь, чрезвычайно зауважает. Он слаб в ногах. Они все – такие вот! – слабы в ногах…
Валька, понятно, трусил, много усилий потратил он, чтобы все-таки «зарубить» статью, отнять у Ленечки Ушакова рублей сто двадцать «подкожных» от жены, но зато впоследствии Вальку Грачева ожидала такая же снисходительная любовь, какой одаривал прохиндей Ленечка Никиту Ваганова…. Впоследствии, через много лет, я Ленечке Ушакову добром припомню услугу, но, уплатив долги, расстанусь с ним: просто-напросто отдам в другую газету, другому редактору, несмотря на то, что вся родня Ушакова останется по-прежнему могущественной. Читателю этой исповеди или дневника уже известно, что я не боюсь ни черта, ни бога. Не испугался я и сверхмогущественной родни Леонида Ушакова и даже, напротив, заработал на этом моральный куш. Отец Ушакова скажет: «Наконец-то нашлась управа и на моего недоросля!»
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































