Текст книги "Сквозь тернии"
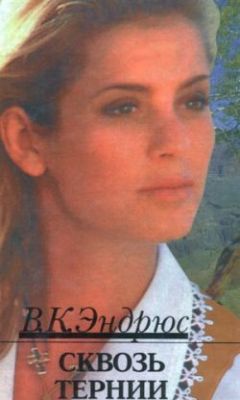
Автор книги: Вирджиния Эндрюс
Жанр: Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 21 страниц)
– Ну, Барт, это уж слишком.
– Но это еще не все, что я сделаю, если ты Тронешь меня!
Она растерялась. Не смеет прикоснуться ко мне. Подняла тонкие бледные руки к горлу и прошептала:
– О, Боже… Надо было мне знать, что ребенок, зачатый таким образом, обернется против меня… Барт, мне так жаль, что твой сын такой монстр…
Монстр? Это я – монстр?
Нет – это она монстр! Она делала со мной то же самое, что мать Малькольма сделала с ним. Запереть на чердаке… Я ненавидел ее теперь так же сильно, как раньше – любил.
Я закричал:
– Ненавижу тебя, мама! Хочу, чтобы ты умерла!
Тогда она отвернулась со слезами на глазах и убежала.
Но обернулась все-таки, чтобы запереть меня в этом темном, затхлом месте, которое я ненавидел и боялся. Ну что ж, стану сильным, как Малькольм, и таким же безжалостным. Она за это заплатит. Я заставлю ее заплатить. Я ведь просто хотел, чтобы она снова была хорошей, и чтобы любила меня чуть больше, чем Синди и Джори. Я заплакал. Но все еще будет по-моему.
Придя домой, папа узнал о происшедшем и отлупил меня ремнем. Мне понравилось, что он не обращал внимания на мои просьбы и извинения.
– Ну что, больно? – спросил он, когда я натянул штаны.
– Не-а, – я улыбнулся. – Чтобы сделать мне больно, надо повредить мне кости, но тогда полиция бросит тебя в тюрьму за истязание ребенка.
Папа поглядел мне в глаза холодно и жестко.
– Ты думаешь, что мы мягкие, добрые родители, и чувствуешь себя безнаказанным? – говорил он всегда спокойно. – Ты думаешь, что пока ты несовершеннолетний, на тебя нет управы, но ты ошибаешься, Барт. Мы все живем в цивилизованной стране, где люди должны подчиняться законам. Никто не смеет преступить закон безнаказанно, даже Президент. А самое тяжелое наказание для непослушных детей – запереть их, чтобы они не могли свободно гулять и играть.
Я молчал. Папа продолжил:
– Мы с мамой решили, что терпеть больше твое поведение нельзя. Поэтому, как только я договорюсь, ты поедешь на прием к психиатру. Если ты и тогда будешь упорствовать, мы оставим тебя на попечении врачей, которые найдут способ заставить тебя вести себя, как нормальный человек.
– Вы не можете! – закричал я, напуганный тем, что меня запрут в сумасшедшем доме навеки. – Я убью самого себя!
Папа строго посмотрел на меня:
– Не убьешь. И не думай, что ты умнее нас с мамой. Мы с твоей мамой противостояли и не таким, как ты – десятилетний дерзкий ребенок. Помни это.
А вечером, когда я лежал в постели, я услышал, как мама с папой кричат друг на друга. Кричат так, как я еще ни разу в жизни не слышал.
– Как тебе пришла в голову мысль послать Барта на чердак, Кэтрин?! Неужели ты не понимаешь? Неужели нельзя было приказать ему оставаться до моего прихода в своей комнате?
– Нет! Это не наказание. Он любит свою комнату. У него в комнате есть все, что нужно для удовольствия. А вот чердак – это не удовольствие. Я сделала то, что была обязана.
– Обязана сделать? Кэти, или ты не понимаешь, чьими словами ты сейчас говоришь?
– Ну что ж, – ледяным голосом проговорила мама, – разве я не предупреждала тебя: я – сука, которая всегда заботится только о себе.
Они повезли меня к врачу на следующий же день. Посадили там в кресло и приказали ждать. Нас позвали. Мама с папой вошли со мной. За столом сидела женщина. Выбрали бы, по крайней мере, мужчину. Я сразу возненавидел ее за то, что ее волосы были такие же черные и блестящие, как у мадам Мариши на старой фотографии. Ее белая блузка вздымалась на груди так сильно, что я отвернулся, чтобы не видеть.
– Доктор Шеффилд, вы с женой можете подождать за дверями, мы с вами поговорим позже.
Я с тоской глядел вслед уходящим родителям. Никогда еще я не чувствовал себя так неуютно, как тогда, когда мы остались с ней наедине, и она посмотрела мне в глаза своими добрыми глазами, скрывающими темные мысли.
– Тебе бы не хотелось быть здесь, правда? – спросила она.
Я ничего не ответил.
– Мое имя – доктор Мэри Оберман. Ну и что?
– Посмотри, здесь на столе есть игрушки… может быть, ты что-то выберешь?
Игрушки… я же не младенец.
Я метнул на нее взгляд. Она отвернулась, и я понял, что она почувствовала неловкость.
– Твои родители говорят, что ты любишь играть роль другого человека. Наверное, у тебя нет товарищей по играм?
Конечно, нет. Но это не ее дело. Идиотка, я был бы последний простак, если бы рассказал ей о Джоне Эмосе, и что он мой лучший друг. Когда-то моим другом была бабушка, но она предала меня.
– Барт, конечно, ты можешь продолжать молчать, но этим ты только принесешь еще большую боль тем, кто тебя любит. Но ведь и тебе сделали больно, тебе больнее всех. Твои родители хотят помочь тебе. Поэтому они привели тебя сюда. Ты должен сам себе помочь. Расскажи, что тебе приносит радость и счастье. Расскажи, что тебя тревожит, расстраивает. И нравится ли тебе твоя жизнь.
Я не скажу ей ни нет, ни да. Ничего не стану говорить. Она начала объяснять, что люди замкнутые, которые ни с кем не делятся своими проблемами, могут себя разрушить эмоционально.
– Ты ненавидишь своих родителей? Не стану отвечать.
– А своего брата Джори ты любишь?
Да, с Джори все в порядке у меня. Просто было бы лучше, если бы он не был таким уж ловким и красивым. Был бы, как я.
– А что ты думаешь о своей приемной сестре Синди? Может быть, мой взгляд ей все рассказал, поэтому она что-то записала в тетради.
– Барт, – начала она снова, отложив ручку. Глаза ее глядели по-матерински добро. – Если ты отказываешься отвечать, то у нас не остается иного выбора, как положить тебя в госпиталь, где много врачей, а не один, будут пытаться восстановить твое психическое здоровье. Никто там плохо с тобой обращаться не будет, но это совсем не так приятно, как быть дома. Там у тебя не будет своей комнаты, своих вещей; своих родителей ты будешь видеть раз в неделю, да и то на час. Не думаешь ли ты, что гораздо лучше будет нам договориться и соединить наши усилия? Что случилось с тобой этим летом, почему ты так изменился? Вспомни.
Нет, не хочу, чтобы меня запирали в сумасшедшем доме с кучей придурков, которые больше и наверняка злее, чем я, … и к тому же, я не смогу тогда навещать Джона Эмоса и Эппла…
Что мне делать? Я вспомнил строчки из дневника Малькольма, и как он умел только делать вид, что поддается на уговоры, но сам всегда делал только то, что хотел.
Я начал плакать, сказал, что обо всем сожалею, и делал это так искренне, что даже сам поверил. Я сказал:
– Это все из-за мамы… Она любит Джори больше, чем меня. Она все время возится с Синди. У меня никого нет. Мне одиноко и плохо.
Она все приняла за чистую монету и после разговора со мной сказала родителям, что нам надо с ней продолжать видеться в течение года.
– Он очень застенчивый мальчик, – она улыбнулась и тронула маму за плечо. – Но не обвиняйте ни в чем себя. Барт запрограммирован на самонеудовлетворенность, и даже если вам кажется, что он ненавидит вас, это означает, что он недоволен собой. Поэтому ему кажется, что все, кто любит его – глупцы. Это болезнь. Такая же, как физическая болезнь, и даже хуже. Он пока не может найти себя.
Я прятался и подслушивал, и был страшно удивлен ее словами.
– Он любит вас, миссис Шеффилд, почти религиозной любовью. Боготворит. Поэтому он ожидает, что вы во всем будете совершенны, в то же время зная, что он недостоин вашей любви. И, как это ни парадоксально, он как раз страстно желает, чтобы все ваше внимание и вся ваша любовь были направлены только на него.
– Но я все же не понимаю, – проговорила мама, облокачиваясь на папино плечо, – как он может одновременно любить меня и желать сделать мне больно?
– Человеческая натура очень сложна. Особенно сложен ваш сын. В нем постоянно борются два начала: доброе и злое. Он, может и бессознательно, знает об этой борьбе – и нашел любопытное решение. Он индифицирует свое темное, злое начало со стариком, которого называет Малькольм.
Оба – папа и мама – застыли в ужасе с раскрытыми ртами.
Перед тем, как прочесть вечернюю молитву и лечь спать, я пробрался в мое заветное место в холле, откуда было слышно все, о чем говорят родители в спальне.
– Мне сегодня показалось, что мы все еще на чердаке и никогда, никогда оттуда не выберемся… – говорила печально мама.
Какую связь имел чердак со мной и с Малькольмом?
Только ту, что и его, и меня наказали, заперев на чердаке?
Я тихо пробрался обратно в мою комнату и лег, напуганный разговором о моем «бессознательном» и страшась самого себя.
Под подушкой у меня всегда теперь лежал дневник Малькольма. Я впитывал в себя его страницы день и ночь. И становился все сильнее, все мудрее.
СУМЕРКИ СГУЩАЮТСЯ
Мама с папой сидели в гостиной следующим вечером перед камином. Незамечаемый ими, я скрючился возле двери на полу, думая, что они не вспомнят обо мне. Мне было неприятно думать о том, что я обманываю их, но иногда лучше знать наверняка, чем гадать.
Сначала мама молчала, а потом стала говорить о визите к психиатру.
– Барт ненавидит меня, Крис. Он ненавидит и тебя, и Джори, и Синди. Думаю, что и Эмму тоже… но презирает он только меня. Он не может простить мне того, что я люблю не только его.
Он притянул ее к себе и положил ее голову к себе на грудь. Так они и сидели.
Потом они неожиданно решили пойти проверить, спит ли Барт или убежал, и я был вынужден поспешно спрятаться в ближайшую нишу, чтобы меня не заметили.
– Он обедал? – спросил папа, когда они выходили из гостиной.
– Нет. – Она сказала это, будто хотела, чтобы Барт спал, боясь, что когда он не спит, проблем не избежать.
Но они умудрились разбудить его, и, не отвечая ни слова на их притворные извинения, он поднялся и проследовал в столовую.
Даже если мальчик не разговаривает много дней, а только мрачно и злобно на всех смотрит – семейный обед есть семейный обед.
Но этот обед был уж слишком мрачен. Даже Синди пребывала в непонятном раздражении. Ели все без аппетита. Эмма тоже не разговаривала, лишь подавала на стол. Даже ветер, который до сих пор дул неустанно, затих, и листья на деревьях повисли, как побитые морозом. Внезапно похолодало, и холод навел меня на мысль о смерти, о чем Барт твердит неустанно.
Я думал о том, каким образом мама с лапой уговорили Барта пойти к психиатру. Кто мог разговорить его, если он так невероятно упрям? А папа так занят и без Барта – но тот, конечно, не видит, как его любят и как о нем заботятся.
– Пошел спать, – сказал Барт, поднимаясь из-за стола, не поблагодарив, не спрося разрешения встать. И ушел. Мы остались сидеть, будто застыв. Нарушил тишину папа:
– Барт сам не свой. Очевидно, что-то так его беспокоит, что он даже не ест. Надо добраться до истины.
– Мама, – предложил я, – я думаю, если ты пойдешь к нему, посидишь сначала с ним подольше; и потом некоторое время не будешь обращать внимания на нас с Синди, то это подействует.
Она странно, долгим взглядом посмотрела на меня, будто не веря, что это так просто решается. Папа поддержал меня, сказав, что, по крайней мере, вреда это не принесет.
Барт притворялся, что спит; это было ясно. Мы с папой встали на полпути к двери его комнаты, чтобы он не мог нас видеть. Мы приготовились защитить маму. Папа положил предупреждающе руку мне на плечо и прошептал:
– Ведь он всего лишь ребенок, Джори, очень ранимый ребенок. Он меньше ростом, чем большинство мальчиков его возраста, тоньше, слабее, и, может быть, в этом тоже есть проблема. У Барта гораздо больше проблем роста, чем у большинства мальчиков.
Я ждал, что он скажет еще что-нибудь, но он только прошептал:
– Удивительно, отчего в нем так мало грации, в то время как его мать так грациозна.
Я посмотрел на маму, которая стояла над якобы спящим Бартом.
И вдруг она выбежала из комнаты и бросилась к папе:
– Крис, я боюсь его! Иди сам. Если он проснется и заорет на меня, как вчера, я не удержусь и ударю его. Я не знаю, как с ним обращаться, кроме как запереть снова на чердаке или в шкаф. – Тут она поднесла, будто спохватившись, руки ко рту. – О, я не хотела сказать это, – слабо прошептала она.
– Конечно, нет. Надеюсь, он не услышал. Кэти, прими-ка аспирин и иди спать, а я погляжу, чтобы легли мальчики.
Он подмигнул мне, и я улыбнулся в ответ. Обычно мы с папой говорили по вечерам о том, о сем… вернее было бы сказать, что он ненавязчиво объяснял мне, как разбираться в сложных ситуациях. Настоящий мужской разговор, в котором женщина не должна участвовать.
Папа спокойно вошел в комнату Барта и присел на край кровати. Я знал, что Барт всегда чутко спит, но тяжесть папиного тела сразу перекатила тощую фигурку Барта на бок. Это разбудило бы даже меня, хотя я обычно спал крепко.
Я подкрался поближе и увидел, что под закрытыми веками глазные яблоки Барта быстро-быстро бегают, будто он наблюдает за игрой в теннис.
– Барт!.. Проснись.
Барт подскочил так, будто рядом пальнула пушка. Он испуганно уставился на папу.
– Сынок, еще нет и восьми вечера. Эмма приготовила лимонный пирог, который она поставила в холодильник. Не делай вид, что тебе не хочется. Вечер замечательный. Когда я был, как ты, мне представлялось, что сумерки – лучшее время для гулянья на улице. Можно прятаться, воображать себя шпионом, а вокруг красивые огни…
Барт глядел на папу так, будто тот говорил на иностранном языке.
– Полно, Барт, не торчи здесь в одиночестве. Мы с мамой тебя любим, ты это знаешь. И ничего страшного нет в том, что иногда ты что-то делаешь не так. Другие вещи гораздо больше значат. Например, честь, уважение людей. Перестань представляться не тем, кто ты есть. Тебе нет нужды становиться каким-то особенным; в наших глазах ты и так особенный.
Барт враждебно смотрел на папу. Отчего папа, такой мудрый и проницательный, не видел в Барте то, что видел я? Или он ослеп? Мама увидела это; она всегда видела людей яснее, чем папа.
– Послушай, Барт. Лето кончилось. И лимонный пирог будет съеден другими. Бери то, что дается тебе сегодня, или завтра его уже может не быть.
Почему он так цацкается с этим злобным мальчишкой?
Папа повернулся, чтобы уйти. Барт двинулся за ним, как тень.
Внезапно Барт быстро забежал вперед и встал перед папой:
– Ты мне не отец, – зарычал он, – и ты меня не обманешь! Ты ненавидишь меня и хочешь, чтобы я умер!
Папа тяжело опустился на стул рядом с мамой, которая держала на коленях Синди. Барт подошел к качелям и уселся, крепко вцепившись руками в веревки, будто боялся упасть с комнатных качелей.
Все ели превосходный лимонный пирог – все, кроме Барта. Папа поднялся и сказал, что ему надо навестить тяжелого больного в госпитале. Он бросил беспокойный взгляд на Барта и тихо сказал маме:
– Выбрось все из головы, родная, и не волнуйся. Я скоро буду. Наверное, Мэри Оберман – не лучший психиатр для Барта. Он ненавидит женщин; я найду другого психиатра, мужчину.
Он наклонился, чтобы поцеловать ее. Я услышал влажный звук поцелуя. Они так долго смотрели друг другу в глаза, будто читали там что-то.
– Я люблю тебя, Кэти. Пожалуйста, не волнуйся. Все будет хорошо. Мы выживем
– Да, – сказала она, – но я не могу не думать о Барте… он, мне кажется, тоже переживает.
Выпрямившись, папа посмотрел на Барта долгим тяжелым взглядом.
– Да, – твердо сказал он. – И Барт переживет все это. Смотри, как он вцепился в веревки, а ведь его ноги почти достают до пола. Он просто не верит себе самому. Он черпает силу в своем воображении. Надо помочь ему обрести покой и уверенность. К нему не подходят методы воспитания, применяемые обычно для десятилетних мальчиков. Хотя и других мы пока не нашли.
– Пожалуйста, будь осторожен, – как всегда напутствовала она его, провожая, и было видно, что она рвется за ним и глазами, и сердцем.
Решившись защищать от Барта маму и Синди, я, однако, очень скоро стал засыпать. Каждый раз с трудом приоткрывая глаза, я видел, как Барт все качается и качается на качелях, бессмысленно глядя в пространство.
– Пойду уложу Синди, Джори, – сказала мама и позвала: – Барт! Пора спать… Я приду попрощаться с тобой. Вычисти зубы, вымой руки и лицо. Мы оставили тебе кусок пирога. Можешь съесть его перед тем, как пойти чистить зубы.
Никакого ответа от Барта; но он встал с качелей, как-то очень неловко, осторожно, посмотрел на свои босые ноги, на пижаму… Пошел переставлять с места на место все вещи, рассматривая их, будто видел в первый раз, и снова ставя на место. На секунду его внимание задержалось на лодочке из венецианского стекла, потом уставился на изящную фарфоровую статуэтку балерины в танце, которую мама подарила доктору Полу после своего первого замужества… Она очень была похожа на маму.
Он неловко подцепил статуэтку своими деревянными пальцами… повертел… взглянул, что написано на подставке: «Лимож», там было написано, я тоже читал… и выпустил из рук.
Она упала на пол и разбилась на несколько частей. Я бросился собирать их, думая, что подберу их раньше, чем заметит мама, но Барт поставил на балерину свою ногу и раздавил ей голову. Голой ногой!
– Барт! – закричал я. – Что ты делаешь! Ты же знаешь, что мама дорожит этой статуэткой больше всех своих вещей.
– Оставь меня! Молчи о том, что я сделал. Это случайно, слышишь, случайно получилось.
Чей это был голос? Чей угодно, но только не Барта. Это снова говорит тот старик, которого он играет.
Я бросился за веником и совком, надеясь, что успею, пока мама не заметит… От прекрасной балерины остались жалкие фарфоровые крошки.
Когда я вспомнил о том, что Барт может быть опасен, я побежал в комнату Синди и нашел его там. Он мрачно смотрел, стоя в дверях, как мама расчесывает сидящую на коленях у нее Синди.
Мама взглянула и поймала его взгляд. Она хотела улыбнуться, но ее улыбка растаяла, прежде чем расцвела. Она успела что-то увидеть в глазах Барта.
Барт рванулся к ней и столкнул Синди с маминых колен. Синди упала и разревелась. Она побежала к маме, и мама с Синди на руках нависла над Бартом:
– Барт, объясни, почему ты это сделал?
Он с усмешкой посмотрел в ее лицо и, не оглянувшись, вышел.
– Мам, – сказал я, когда она успокоила Синди и уложила ее в постель, – Барт помешался. Скажи папе, чтобы нашел ему любого врача, но пусть он останется там, пока его не вылечат.
Я видел раньше ее слезы, но никогда не видел еще, чтобы она так отчаянно, так бессильно рыдала.
И я, вместо папы, держал ее в объятиях и успокаивал. Это придало мне сил и гордости: я почувствовал себя взрослым и решительным. Я чувствовал ответственность за нее.
– Джори, Джори, – всхлипывала она, – почему Барт так ненавидит меня? Что я сделала?
Что я мог ответить? Я сам хотел бы знать, почему.
– Может быть, лучше подумать, почему Барт не такой, как я, потому что я скорее умру, чем заставлю тебя страдать.
Она обняла меня.
– Джори, моя жизнь представляется мне сплошным препятствием к счастью. И я чувствую, что если случится еще одно несчастье, то я сломаюсь… поэтому я не могу допустить, чтобы оно случилось. Люди столь сложны, Джори, особенно взрослые люди. Когда мне было десять лет, я думала, что взрослым жить легко: у них есть сила, власть, на их стороне права… Я никогда не думала, что быть взрослой и растить детей так трудно. Но не таких детей, как ты, конечно, милый…
Я уже знал, что ее жизнь была полна грусти и разочарований; что она пережила потерю родителей, затем Кори, Кэрри, моего отца – и потом своего второго мужа.
– Дитя моего отмщения, – прошептала она про себя. – Все время, пока я носила Барта, я не переставала ощущать свою вину. Я так любила его отца… и я же способствовала его смерти.
– Мама, – спросил я, внезапно озаренный догадкой, – может быть, Барт чувствует твою вину, когда ты глядишь на него… как ты думаешь?
Часть третья
ЯРОСТЬ МАЛЬКОЛЬМА
Солнечный свет упал мне на лицо, и я проснулся. Одевшись, я ощутил себя много моложе Малькольма, чему был, надо признаться, рад. С другой стороны, мне стало грустно, потому что Малькольм был столь беззащитен…
Отчего я не дружил с мальчиками своего возраста? Почему я был не такой, как все? Почему ко мне привязывались старики? Теперь, когда я знал, что Эппла украла моя бабушка, все ее слова о любви ко мне не имели никакого значения. Нужно было признаться себе, что у меня оставался отныне один друг – Джон Эмос.
Я вышел и слонялся до завтрака по окрестностям: вдыхал все запахи земли, рассматривал все сущее, что боялось меня теперь при свете дня, бросалось от меня наутек. Откуда-то выскочил кролик и побежал прочь, как сумасшедший, хотя, видит Бог, я не причинил бы ему никакого зла, никакого…
За завтраком все глядели на меня так, будто ждали от меня какой-то чудовищной выходки. Папа даже не спросил у Джори, как он сегодня себя чувствует, сразу обратился ко мне. Проклятый изюм! Я мрачно смотрел на свою остывшую запеканку. Ненавижу изюм!
– Барт, я задал тебе вопрос. И так знаю.
– Я в порядке, – не глядя на папу, ответил я.
Отец всегда просыпается в прекрасном настроении и никогда не бывает хмур по утрам, как я или как мама.
– Мне бы только хотелось, чтобы мы наняли хорошую кухарку. Или пусть лучше мама готовит сама для нас, как другие мамы. Потому что то, что готовит Эмма, невозможно есть ни человеку, ни животному.
Джори пристально посмотрел мне в глаза и поддел меня под столом ногой, намекая, чтобы я держал язык за зубами.
– Эмма не готовила эту запеканку, Барт, – ответил отец. – Это готовая пища из упаковки. И, помнится, до этого утра ты всегда любил, когда много изюма. Ты даже выпрашивал его у Джори. Но если этим утром изюм так тебя раздражает, не ешь его. А почему у тебя нижняя губа кровоточит?
Черт, правда что ли, или ему кажется? Врачам всегда везде мерещится кровь, потому что они режут людей.
Джори взялся ответить за меня.
– Он изображал волка этим утром до завтрака. Догадываюсь, что он погнался за кроликом, чтобы откусить ему голову, и укусил сам себя. – Джори ухмыльнулся, явно довольный моим глупым видом.
Но что-то здесь было не так, потому что никто даже не спросил, почему это я изображал волка. Они все глядели на меня так, будто знали, что я способен на любую глупость.
Я слышал, как мама с папой шептались обо мне. Слышал, как доктора говорили вполголоса что-то насчет новой головы.
Я не позволю им! Они не посмеют!
Мама вышла в кухню поболтать с Джори, пока папа заводил в гараже машину.
– Мама, мы и вправду поедем на спектакль? Она взглянула на меня обеспокоенно, затем выдавила из себя улыбку и произнесла:
– Конечно. Я не могу разочаровать студентов, их родителей и всех других людей, ведь они уже купили билеты. Дураки всегда в разлуке с деньгами. Джори сказал:
– Думаю, надо позвонить Мелоди. Вчера я сказал ей, что шоу может не состояться.
– Джори, почему ты это сделал?
Он глядел на меня так, будто это я был во всем виноват: даже в том, что шоу все-таки состоится. Нет, я не поеду! Даже если они вспомнят обо мне и будут упрашивать. Я не желаю смотреть этот глупый балет, где все только танцуют и не говорят ни слова. Это будет даже не Лебединое озеро, а какая-то глупейшая, тупейшая Коппелия.
Папа зашел в дом, потому что, как всегда, что-то позабыл.
Услышав разговор, он заметил мимоходом:
– Наверное, ты там будешь исполнять принца?
– Ты, папа, разве не знаешь, что в Коппелии нет роли принца? – рассмеялся Джори. – Я там почти все время в кордебалете, но вот мама будет потрясающа! Она сама сделала хореографию своей партии.
– Что? – взревел папа, оборачиваясь к матери. – Кэти, ты же знаешь, что недопустимо танцевать с таким коленом! Ты мне пообещала, что не будешь больше выступать на сцене! В любой момент колено может подвести тебя, и ты рухнешь прямо на сцене. А еще одно падение может для тебя означать конец всей жизни: станешь парализованной.
– Ну, пожалуйста, еще один раз, – умоляюще попросила мать, как будто вся ее жизнь от этого зависела. – Я буду играть просто механическую куклу, сидящую в кресле; не надо раздувать историю из ничего!
– Нет! – опять взревел отец. – Если в этот раз тебя не подведет твое колено, ты будешь думать, что у тебя все в порядке и тебе все можно. Тебе захочется еще раз повторить свой успех, и ты опять будешь подвергать себя опасности. Еще одно падение, и ты сломаешь ногу, таз, спину… все это уже было, ты же знаешь!
– Назови еще все подряд кости в моем теле! – закричала она на отца, а я в тот момент отчаянно думал об одном: если она сломает себе что-нибудь и не сможет больше танцевать, она будет все время оставаться дома со мной.
– Честное слово, Крис, иногда мне кажется, что я – твоя рабыня, так ты ведешь себя со мной! Погляди на меня. Мне тридцать семь, и очень скоро я буду стара, чтобы танцевать. Дай мне почувствовать себя полезной, как ты сам себя любишь ощущать. Я должна там танцевать – хотя бы еще один раз.
– Нет, – еще раз сказал он, хотя уже и не так твердо. – Если я сейчас сдамся, это никогда не кончится. Ты будешь и дальше настаивать…
– Крис, я не намерена умолять тебя… Я не студентка, доказывающая, что может сыграть роль, и я еду, хочешь ты этого или нет! – Она бросила на меня такой взгляд, что мне показалось, будто ее больше волнует, что я думаю по этому поводу, чем что думает по этому поводу отец.
А я был счастлив, очень счастлив… потому что она должна упасть! Глубоко внутри я был уверен, что одного моего желания будет достаточно, чтобы она упала. Я буду сидеть в публике и не буду отрывать от нее властного взгляда – она подчинится мне. Я буду играть с ней: я научу ее ползать и обнюхивать землю, как индеец или как собака, а она будет удивлена тем, как много можно узнать по запахам.
– Я говорю не о каком-то пустяковом растяжении, Кэтрин, – продолжал гневный муж. – Всю свою жизнь ты жила своей профессией и не придавала значения боли, получая слишком много стресса от успехов. Но настает время, когда пора подумать о том, что благосостояние всей семьи зависит от твоего здоровья.
Я досадовал на отца, что он из-за своей вечной забывчивости вошел и услышал слишком много. Мать даже не удивилась, что он снова забыл свой бумажник, хотя, как врач, должен был бы иметь хорошую память. Она отдала бумажник, который остался лежать возле тарелки, язвительно улыбнулась и сказала.
– И это повторяется каждый день. Ты идешь в гараж, включаешь мотор и только тут вспоминаешь, что забыл бумажник.
Он ответил с той же язвительностью:
– Я делаю это специально, чтобы иметь возможность вернуться и дослушать все то, что ты мне не сказал а еще. Он положил бумажник в боковой карман.
– Крис, я вовсе не хочу идти против твоей воли, но я не могу себе позволить, чтобы все прошло, как второсортный спектакль. Кроме того, это большой шанс для Джори – его первое соло…
– Хотя бы раз в жизни, Кэтрин, послушай меня… Рентген показал, что хрящ сломан, и ты сама жалуешься на хронические боли. Ты не танцевала на сцене уже много лет. Хроническая боль – это одно дело, острая боль – другое. Ты хочешь ее заработать?
– О, эти медики! – вздохнула она. – Как вы все время помните о бренности и хрупкости человеческого тела. Да, у меня повреждено колено, и что из этого? Все мои ученики постоянно жалуются на боли там и сям. Когда я преподавала в Южной Каролине – так было, и когда в Нью-Йорке – так было, и в Лондоне… но что для танцора – боль? Нечто столь незначительное, что и мысли не возникает, чтобы с этим считаться…
– Кэти!
– Колено не болит уже полных два года, даже более. Разве я жаловалась на боль или спазмы? Признайся, что нет!
Папа молча вышел из кухни и пошел снова в гараж.
В порыве она бросилась за ним следом, а я следом за ней, желая услышать конец этого спора, надеясь, что она настоит на своем. И тогда – тогда она будет моя.
– Крис, – закричала она, раскрывая дверцу радом с водителем и бросаясь Крису на шею. – Не уезжай таким рассерженным. Я люблю тебя, уважаю и клянусь тебе, что это будет мое самое последнее представление. Клянусь, что я никогда, никогда больше не выйду на сцену. Я… я знаю, почему мне необходимо оставаться дома… я знаю.
Они поцеловались. Я никогда не видел еще взрослых, которые так любили бы целоваться, как они. Она выходила из машины, все еще гладя его по щеке, нежно глядя ему в глаза. Напоследок она еле слышно проговорила:
– Это мой единственный шанс профессионально станцевать с сыном Джулиана, дорогой. Взгляни на Джори, и ты увидишь, как он похож на Джулиана. Я сама сделала хореографию па-де-де, в котором я танцую механическую куклу, а он – механического солдатика. Это лучшее мое творение. Я хочу, чтобы ты был там, чтобы ты гордился своей женой и сыном. Я не желаю, чтобы ты оставался дома, досадуя и думая о моем колене. Честное слово, я вполне окрепла и не чувствую никакой боли!
Она гладила его, целовала, и я понял, я увидел, что он любит ее больше всего на свете, больше, чем нас, даже больше, чем себя самого. Дурак! Последний идиот, кто любит так женщину!
– Ну хорошо, – сказал он. – Только это действительно в последний раз. У тебя не было практики много лет, а это опасно. Ты даже на тренировках слишком нагружаешь это колено, так сильно, что другие сочленения могут также пострадать.
Я наблюдал, как она вышла из машины, повернулась к нему спиной, все еще отчего-то медля, и произнесла грустно-грустно:
– Когда-то мадам Мариша сказала мне, что для меня вне балета жизни нет, и я тогда отказалась в это поверить. Теперь, похоже, настает время, когда я смогу в этом убедиться.
Прекрасно!
Ее последние слова возродили в нем новую идею. Облокотясь на дверцу машины, он спросил:
– Кэти, а как насчет книги, которую ты собиралась писать? Как раз время начать…
Тут он заметил меня и пристально поглядел на меня:
– Барт, помни, что тебя здесь все любят, тебе не о чем беспокоиться. Если ты чувствуешь неприязнь к кому-нибудь, ты должен просто сказать об этом мне или матери. Мы тебя всегда выслушаем и сделаем все, чтобы ты был счастлив.
Счастлив? Я буду счастлив только тогда, когда он исчезнет из ее жизни навсегда. Я буду счастлив только вдвоем с мамой, когда она будет моя – только моя. И вдруг… я вспомнил того старика… двух стариков. Ни один из них не желал, чтобы она оставалась в живых… ни один. Я бы хотел быть как они, особенно таким, как Малькольм. Я бы предпочел, чтобы Он был в гараже, поджидая, когда уедет отец, а я бы остался один. Он любил, когда я бывал один, когда я был одинок, унижен, печален, сердит… сейчас бы, наверное, Он улыбался.
Не успели уехать мама с Джори, за ними папа, как Эмма снова начала злить и поучать меня.
– Барт, стер бы ты эту кровь с губы. Так и будешь кусать сам себя? Порядочные люди берегутся случайных увечий и ран.
Что она знает обо мне? Что она понимает? Я не чувствую боли и поэтому кусаю губы. Мне нравится вкус крови.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































