Текст книги "Сквозь тернии"
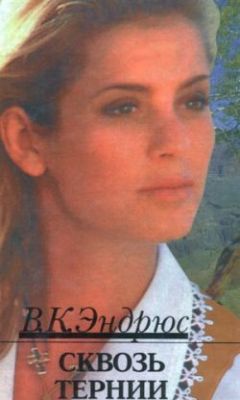
Автор книги: Вирджиния Эндрюс
Жанр: Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц)
В госпитале Барта положили в постель. К нему пришли врачи, осматривали, совещались. Они пытались выставить папу из палаты, потому что в профессиональной этике врачей – не лечить больных из своей собственной семьи. Наверное, оттого, чтобы не было слишком много эмоций, мешающих профессионализму.
– Нет! – закричал папа. – Я останусь. Он – мой сын, и я должен знать, что с ним.
Мама только плакала и держалась за безвольную руку Барта. Я чувствовал себя неважно и корил себя за то, что не сделал все, что мог, чтобы вовремя найти его.
– Эппл, Эппл… – бормотал все время Барт. – Хочу видеть Эппла.
Он был в ужасном состоянии. Он так потел, что его худое, маленькое тело промочило простыни. Мама начала рыдать.
– Выведи маму, – приказал мне папа. – Не надо, чтобы она видела это.
Пока мама плакала в комнате ожидания, я прокрался обратно и увидел, как папа впрыскивает инъекцию пенициллина в руку Барта.
– Нет ли у него аллергии к пенициллину? – спросил другой врач.
– Не знаю, – ответил папа. – У него никогда не было инфекций. Другого выхода нет, надо попытаться. Приготовьте все, чтобы снять реакцию в случае ее появления.
Он обернулся и увидел меня, притаившегося в углу.
– Сын, пойди к маме. Ты тут ничем помочь не можешь.
Я не мог двинуться с места. Что-то удерживало меня в операционной. Может быть, чувство вины? Я должен был находиться здесь, с Бартом. Некоторое время спустя папа подал сигнал няне, и та пошла за другими врачами. Значит, Барту стало хуже. Я не мог поверить собственным глазам: по всему телу Барта показались огромные набухшие рубцы… они были красные и, видимо, чесались, потому что рука Барта ожила и бродила от одного рубца к другому… Тогда папа приказал привезти каталку, и они увезли Барта…
– Папа! – закричал я. – Куда его? Ему отнимут ногу?
– Нет, сын, – тихо ответил папа. – У твоего брата сильная аллергическая реакция. Надо сделать трахеотомию, пока ему не заблокировало дыхание.
– Крис, – позвал другой врач, – все в порядке. Том прочистил трахею. Трахеотомия не понадобится.
Прошел день, но Барту не стало лучше. Было похоже, что он расчешет себя до мяса и умрет от другой инфекции. С ужасом я смотрел, оставшись вечером в госпитале, как распухшие пальцы Барта тщетно пытаются избавить тело от жуткой муки непрерывными конвульсивными движениями. Теперь все его тело было пунцовым. Уже глядя в папино лицо, можно было сказать, что положение сверхсерьезно. Руки Барта связали, чтобы он не мог чесаться. Тогда его глаза стали вылезать из орбит, и казалось, что это два огромные красные яйца. Губы Барта распухли так, что стали на три дюйма шире обычного.
Я не мог поверить, что бывает такая жуткая аллергия.
– Ах! – кричала мама, в ужасе глядя на Барта и вцепившись в папину руку.
Прошло еще два дня – никакого улучшения. Свой десятый день рождения Барт встретил, бредя на больничной койке; путешествие в Диснейленд отменили, а поездку в Южную Каролину отложили до следующего года.
– Посмотри, – сказал как-то папа с надеждой в усталом лице, – опухоль уменьшается.
Аллергия прошла. Я думал, что теперь Барт начнет поправляться. Но я ошибался. Потому что у Барта оказалась реакция на любой антибиотик, который к нему применяли. Нога его распухла еще сильнее.
– О, что нам делать, что нам делать теперь?! – плакала мама так сильно, что я стал опасаться за ее здоровье.
– Мы делаем все, что можем, – только и мог ответить папа.
– Боже мой, – пробормотал Барт в забытьи, – ты спас меня?
Слезы побежали по моему лицу и капали на рубашку, как дождь.
– Бог не спас тебя, – сказал папа.
Он преклонил колена у постели Барта и молился. Он держал в руке маленькую ручонку Барта. Мама в это время спала на кушетке, поставленной для нее в палате. Она не знала, принимая таблетки, которые дал ей папа, что они не от головной боли, а снотворное. Она была так расстроена, что не заметила разницы.
Папа прикоснулся ко мне:
– Иди домой и поспи, сын. Ты уже сделал много для своего брата.
Я медленно поднялся и пошел к двери. Ноги не слушались меня. Бросив последний взгляд на Барта, я увидел, как он без устали ерзает, а папа в это время устало присел возле мамы на кушетку.
На следующий день маме надо было идти в балетный класс, а потом она побежала в госпиталь.
– Жизнь идет, – сказала она, уходя. – Тебе надо учиться, Джори. Позабудь про проблемы Барта, если можешь, и позанимайся музыкой.
Как только она вышла, меня осенило. Эппл! Барт говорил об Эппле, о своем огромном щенке. Щенок-пони, как он называл его.
Я кинулся к телефону:
– Как там Барт? – спросил я у папы.
– Плохо. Джори, я не знаю, как об этом сообщить твоей маме, но специалисты хотят ампутировать ногу Барта, пока инфекция не проникла дальше в организм. Я не хочу идти на эту меру – но и рисковать жизнью Барта тоже нельзя.
– Не позволяй им ампутировать ему ногу! – почти закричал я. – Передай Барту и удостоверься, что он понял – я позабочусь об Эппле! Пожалуйста, оставь ногу Барту.
Ведь ясно, как день, что после ампутации Барт совсем замкнется в себе и помешается.
– Джори, твой брат лежит без признаков сознания и отказывается разговаривать. Он совсем не старается выздороветь. Мне кажется, он хочет умереть. Мы не можем давать ему антибиотики, и температура у него повышается. Но что-то мы должны сделать, чтобы сбить эту температуру.
Впервые я проголосовал на дороге. Очень милая женщина подвезла меня, и я что было силы побежал к дому соседей. Если Барт узнает, что с Эпплом все в порядке, он выздоровеет. Он просто наказывает сам себя, так же, как когда-то он, разбив что-то, бил кулаками о дерево. Я утирал слезы на бегу, осознав, что мой младший брат для меня гораздо большее, чем я думал раньше. Дурачок, который просто не рад самому себе. Вечно играет в кого-то, представляется, рассказывает взрослые истории, чтобы произвести впечатление. Папа давно предупредил меня: «Делай вид, что веришь в его игры, Джори». Но, может быть, мы все слишком верили, что это игры.
Я удивился, увидев Эппла в сарае, привязанным к столбу, глубоко врытому в землю. Поодаль стояла миска с едой. Достать до нее Эппл никак не мог. Его жалобные глаза, его свалявшаяся шерсть рассказали мне историю его голода. Кто же над ним так издевается? Земля вокруг была разрыта его мощными когтями. Подросший щенок, он пытался устроить подкоп, но тщетно. Теперь он обессиленно лежал и тяжело дышал. Дверь сарая была наглухо закрыта.
– Все в порядке, мальчик, – пытался подбодрить я его, давая ему чистую воду.
Он начал лакать с такой ненасытной жадностью, что мне пришлось отнять ее снова на время. Я мало знал, как лечить собак. Но знал, что собаки, как и люди, после долгой жажды должны пить понемногу. Потом я отвязал его. Пошел к его полке с запасами и выбрал самое, по моему мнению, лакомое из длинного ряда банок. Эппл голодал среди собачьего изобилия. Я смог нащупать все ребра, когда погладил его. А шерсть его была когда-то такой пушистой и красивой!
Когда он поел и напился, я причесал его шерсть и распутал клочья. Потом уселся на грязный пол и положил его громадную голову себе на колени.
– Барт скоро придет, Эппл. И придет на своих ногах, обещаю тебе. Не знаю, кто так зло пошутил над тобой, но я доищусь.
Меня беспокоила как раз мысль о том, что искать нет надобности: тот самый человек, который больше всего любил Эппла, и мог быть его мучителем. Именно у Барта была такая дикая логика. Если Эппл так страдал в его отсутствие, то он будет в десять раз больше рад, когда Барт придет. Неужели Барт так жесток?
На улице стояла прекрасная погода. Приближаясь к особняку, я услышал приглушенные голоса двух людей. Это были та старуха в черном и ее безобразный дворецкий. Оба сидели в прохладном паттио, затененном пальмами в цветных кадушках и папоротниками в каменных урнах.
– Джон, я чувствую, что должна пойти и проверить еще раз щенка Барта. Он так обрадовался мне утром; я не поняла, отчего же он такой голодный. Почему он должен быть привязан на цепь? В такой прекрасный день можно дать собаке порезвиться.
– Мадам, сегодня день вовсе не прекрасный, – проговорил очень злобно выглядевший дворецкий. Он вытянул ноги в шезлонге и посасывал пиво. – Вы одеты в черное, не удивительно, что вам жарко.
– Меня не интересует твое мнение о том, как я одета. Меня интересует, почему Эппла держат на цепи.
– Потому что собака может убежать искать своего молодого хозяина, – саркастически заметил Джон. – Я полагаю, вы об этом не подумали.
– И все же он выглядит слишком грустным и слишком истощенным. Надо его проведать.
– Мадам, лучше бы вы были озабочены судьбой внука, который вот-вот потеряет ногу!
Она уже почти встала с кресла, но при этих словах вновь опустилась на подушки.
– О Боже! Ему хуже? Ты услышал разговор Эммы с Мартой?
Я вздохнул: действительно, Эмма любила посплетничать, хотя ее просили держать язык за зубами. Я не думаю, чтобы она сказала что-то секретное. Мне она никаких секретов не рассказывала. А у мамы вечно не было на них времени.
– Конечно, слышал. Эти двое сплетниц каждый день перемывают хозяевам косточки. Хотя, если верить Эмме, доктор и его жена – просто ангелы.
– Джон, что Марта узнала о Барте? Расскажи мне!
– Кажется, мадам, мальчишка всадил себе в колено ржавый гвоздь, и теперь у него газовая гангрена. Такая гангрена, при которой нужно ампутировать конечность, или больной умрет.
Я внимательно наблюдал за их выражениями лиц: старуха была страшно расстроена, а старик – равнодушен, если не сказать – доволен достигнутым эффектом.
– Ты лжешь! – вскричала она, вскакивая. – Джон, ты обманываешь меня, чтобы помучить. Я уверена, что Барт поправится. Его отец найдет способ спасти мальчика. Я уверена. Он должен… – и она разрыдалась.
Она сняла вуаль, чтобы вытереть слезы, и я увидел ее лицо, на котором лежала печать страдания. Неужели она и в самом деле так любит Барта? Почему? Неужели она и вправду родная бабушка Барта? Не может быть. Ведь нам сказали, что его бабушка находится в клинике для душевнобольных, в Виргинии.
Я сделал шаг вперед, чтобы меня заметили. Леди была удивлена моим появлением, но тут же вспомнила о своем незакрытом лице и поспешно надела вуаль.
– Добрый день, – поздоровался я, обращаясь к женщине и игнорируя старика, к которому чувствовал сильнейшее отвращение. – Я случайно услышал, что говорил вам ваш дворецкий, мадам, но он прав только частично. Мой брат очень болен, но у него нет газовой гангрены. И его ноге ничего не грозит. А наш отец – слишком опытный доктор, чтобы допустить ампутацию.
– Джори, ты уверен, что Барт поправится? – спросила она с большим участием. – Он очень дорог мне… Я не могу сказать тебе, до чего он мне дорог… – Она замолчала и начала крутить кольца на своих тонких пальцах.
– Да, мадам, – сказал я. – Если бы у Барта не оказалась аллергия к большинству лекарств, что ему давали, то инфекция давно была бы побеждена. Во всяком случае, папа должен знать, что делать и в случае аллергии. Мой папа всегда знает, что делать. – Я повернулся к старику и постарался говорить, как можно авторитетнее. – Что касается Эппла, не следует его держать в закрытом наглухо сарае в такую жару. И совсем не следует ставить его воду и пищу вне досягаемости. Я не знаю ваших планов, но почему вы заставляете такую прекрасную собаку страдать? Лучше бы вы позаботились о создании условий для собаки, иначе мне придется доложить о жестоком обращении с животными обществу защиты животных.
Я повернулся и пошел к дому.
– Джори! – закричала вслед мне леди в черном. – Подожди! Не уходи. Я хочу спросить тебя о Барте. Я обернулся.
– Если вы хотите помочь моему брату, – сказал я, – то помощь может быть только одна: оставить его в покое. Когда он вернется, выдумайте какую-нибудь правдоподобную причину, по которой вы не сможете его больше принимать: пощадите его чувства и душу.
Она вновь стала упрашивать меня остаться и поговорить, но я решительно пошел вперед, думая, что сделал кое-что для защиты Барта. От чего его надо было защитить – я не знал.
В ту же ночь у Барта поднялась температура. Его завернули в термическое одеяло, которое работало, как холодильник. Я видел, как папа с мамой переглядывались, касались друг друга руками, будто придавая друг другу силы. Оба сразу принялись растирать руки и ноги Барта принесенным льдом, будто они действовали, как единый организм, не сговариваясь, понимая друг друга без слова. Я склонил голову, тронутый их любовью и пониманием.
Мне хотелось бы рассказать им о женщине в черном, но я обещал Барту молчать. У Барта она была единственным другом в его жизни, она подарила ему единственного его любимца… Но, чем дольше я скрывал от них, тем сильнее они стали бы переживать ее внезапное вторжение в нашу жизнь. Отчего они не приняли бы ее появления, я не знал – я только предчувствовал.
Как хотелось мне быть мужчиной, уметь принять правильное решение, быть твердым!
Засыпая, я вспомнил слова, которые часто повторял папа: «Пути Господни неисповедимы».
Следующее, что я помню, это лицо папы, который тряс меня и кричал:
– Барту лучше! Он поправится! Ему сохранят ногу!
Медленно, день за днем, распухшая до невероятных размеров нога выздоравливала; опухоль спадала. Постепенно и цвет кожи стал нормальным, хотя до сих пор Барт так ни с кем и не разговаривал, только бессмысленно глядел в пространство перед собой.
Однажды, завтракая вместе с нами дома, папа потер усталые глаза и сообщил нам нечто невероятное:
– Кэти, этому трудно поверить, но лаборатория обнаружила в культуре тканей, взятых из раны Барта, неожиданные микроорганизмы. Мы полагали, дело в ржавчине, она вызвала загноение, но кроме ржавчины там обнаружен вид стафилококка, который связан с экскрементами животных. Тем более подобно чуду, что мы умудрились не допустить развития гангрены.
Мама, тоже бледная и усталая, склонилась к нему на плечо:
– Если бы здесь был Кловер, тогда бы я еще могла поверить…
– Ты же знаешь нашего Барта. Если даже за версту отсюда есть грязь, он обязательно найдет ее и поднимет. Кстати, вчера он снова бредил яблоком, так я купил и дал ему одно. Он бросил его на пол. Но когда я сказал ему, что на восток мы в это лето не полетим, он казался обрадованным. – Папа посмотрел на меня. – Надеюсь, ты не очень расстроен, Джори. Нам необходимо подождать будущего лета, чтобы навестить твою бабушку, или, возможно, я смогу на Рождество вырваться с работы. Барт выздоравливал, и теперь меня начинала постепенно разбирать злость. Он нашел верный способ избежать визита на восток, думал я, к «проклятым могилам» и «проклятым старухам». Он даже пожертвовал Диснейлендом. А это не в привычках Барта – чем-нибудь жертвовать. Барт всегда добивается всего, чего хочет.
В тот вечер меня оставили с Бартом, а мама с папой разговаривали в больничном холле с друзьями. Я рассказал Барту о разговоре между его «бабушкой» и ее дворецким, и как она волновалась за него.
– Она любит меня, – гордо прошептал Барт слабым голосом. – Она любит меня больше всех. Кроме, может быть, Эппла. – Но тут он задумался.
Не обольщайся, хотелось мне сказать Барту. Но я не имел права разочаровывать его и красть у него привилегию быть самым любимым, пусть даже и вне семьи. Со смешанным чувством я наблюдал перемену настроений на его впечатлительном личике. Что же он за человек, мой брат? Очевидно, ему требовалась вся любовь родителей, вся без остатка, и ему одному.
– Бабушка боится этого проклятого старика, – сказал он, – но я с ним справлюсь. У меня теперь есть сила. Я долго копил. Я вправду сильный.
– Барт, почему ты туда ходил?
Он пожал плечами и уставился на стену.
– Не знаю. Просто хотелось.
– Ты же знаешь, папа подарит тебе собаку, любую, какую захочешь. Нужно только поговорить с ним, и он сейчас же купит тебе щенка такого же, как Эппл.
Его яростные глаза хотели испепелить меня на месте.
– В мире нет собаки такой же, как мой щенок-пони. Эппл особый.
Я переменил тему.
– А почему ты думаешь, что эта женщина боится своего дворецкого? Она сама сказала тебе?
– Ей и не надо было говорить. Я сам могу сказать. Он так ужасно смотрит на нее. А она боится. Я понял, что тоже боюсь – неизвестно чего.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Хорошо, конечно, когда вокруг тебя столько суетятся и так балуют. Но долго это не продлится. Как только я выздоровлю, так мама переменится. Две длиннющие недели в вонючем госпитале – там хотели отрезать мне ногу и сжечь ее в печи. Теперь я счастлив, как только гляжу на свои ноги – вот они, обе здесь. Вот будет шуму, когда я в школе расскажу, что мне хотели отрезать ногу! Я стану героем. Но я не позволил себе, скажу я, гнить там и умирать. Я даже не плакал. Я тоже могу быть храбрым.
Я вспомнил, как папа смотрел на меня дни и ночи, печальный и озабоченный. Может, он и вправду любит меня, хотя я не его сын?
– Папа! – закричал я, увидев его.
– Рад видеть тебя здоровым и счастливым на вид. – Он присел на краешек кровати, притянул меня к себе и поцеловал. Мне стало неудобно. – Барт, у меня хорошие новости. Температура твоя выровнялась. Колено заживает. И то, что ты сын врача, имеет свои преимущества. Я выписываю тебя прямо сегодня. Потому что, если тебя не выписать, боюсь, ты растаешь, как свечка. А дома, надеюсь, Эммина чудодейственная еда нарастит на твоих костях немного мяса.
Он глядел на меня так добро, будто я и впрямь значил для них столько же, сколько и Джори. Мне захотелось плакать.
– Где мама? – спросил я.
– Я уехал очень рано, а она осталась дома, чтобы организовать тебе встречу и торжественный обед. Я надеюсь, ты не возражаешь против этого?
Очень возражаю! Хочу, чтобы она была здесь! Я-то знаю: она не приехала, потому что возится с противной Синди – заплетает ей ленточки в косички. Я промолчал и позволил папе перенести себя в машину. Как хорошо было на улице, как хорошо было ехать домой!
В фойе папа поставил меня на шатающиеся ноги. Я поглядел на маму, потому что первого она поцеловала папу – хотя я был здесь, рядом, и хотел, чтобы она меня поцеловала. Но я знаю, почему она не сделала это. Она теперь боится меня. Потому что она боится моего худого лица, некрасивого, бледного, и моего костлявого тела. Она заставила себя улыбнуться. Когда, наконец, она подошла ко мне, как подходят выполнить последний долг, хотя я и не умирал, – я сморщился. Изображает счастье и удовольствие видеть меня. А сама больше не любит меня, не хочет, чтобы я жил. Джори тоже старался изо всех сил, изображая счастье и радость, хотя я знаю: они все были бы рады, если бы я умер. Я чувствовал себя совсем как Малькольм, когда он был маленьким мальчиком: никто был ему не рад, никому он был не нужен," и он был такой одинокий…
– Барт, милый мой! – сказала мама. – Отчего такая грусть? Почему ты не рад? Ты не хочешь вернуться домой?
И она попыталась обнять меня, но я улизнул. Я видел, что ей больно, но это уже не имело значения. Ведь она играет, как играл кого-то я.
– Так чудесно, что ты опять дома, – снова солгала мама. – Мы с Эммой целое утро планировали, как развлечь тебя и сделать счастливым. Тебе не нравилась больничная пища, поэтому мы приготовили все твои самые любимые блюда.
И она снова попыталась обнять меня, но я не позволил ей «обольстить» меня своими «женскими чарами», о чем предупреждал меня Джон Эмос. Вкусная еда, улыбки и поцелуи – все это «женские чары».
– Ну, Барт, не надо быть таким мрачным. Мы с Эммой все твои любимые блюда включили в меню праздничного обеда.
Я пристально посмотрел на нее. Мама покраснела.
Подошел папа и дал мне в руки короткую трость:
– Переноси тяжесть тела на нее, пока колено не заживет окончательно.
Занятно, конечно, ходить, постукивая тростью, как старичок… как Малькольм Фоксворт. Приятно, когда все вокруг тебя суетятся, спрашивают, почему же ты не ешь. Но ни один из подарков, в честь моей выписки приготовленных, не стоил тех, что мне подарила бабушка, живущая по соседству.
– Послушай, Барт, – прошептал Джори за обедом, – неужели ты такой неблагодарный? Все только и делают, что вытанцовываются перед тобой.
– Ненавижу яблочный пирог, – сказал я.
– Но раньше яблочный пирог был твой любимый…
– Никогда! И цыплят я ненавижу, и картофельное пюре, и зеленые салаты – все, все ненавижу!
– Похоже на то, – проговорил с возмущением Джори, отвернувшись от меня.
Сначала он решил не замечать меня за мое дурацкое поведение, а потом повернулся и взял с моей тарелки нетронутую куриную ногу.
– Ну что ж… раз ты не хочешь, не позволим добру пропадать.
Он съел все без остатка. Теперь я даже не мог проникнуть ночью на кухню и подкрепиться, когда они не видят. Ну и пусть. Пусть поволнуются, что я исхудаю до скелета. И умру. Я буду лежать в холодной сырой могиле. Вот тогда они обо мне пожалеют.
– Барт, пожалуйста, постарайся чего-нибудь поесть, – умоляла мама. – Что плохого в этом пироге?
Я скривился. Но тут рука Джори протянулась, чтобы схватить мой кусок пирога, и я дал ему по руке.
– А я не могу есть пирог, когда наверху нет мороженого.
– Эмма, принесите мороженое, – ослепительно улыбнувшись, сказала мама.
Я отодвинул тарелку и развалился на стуле:
– Плохо себя чувствую. Мне надо побыть одному. Не люблю, когда вокруг меня столько суеты. Это мне портит аппетит.
Папа начинал смотреть на меня так, будто у него кончилось терпение. Он не стал ругать Джори за то, что тот схватил мой пирог. Вот и все: прошел час, они все уже устали от меня и пожалели, что я не умер.
– Кэти, – сказал папа, – не надо умолять Барта, он поест, когда проголодается.
В желудке у меня урчало от голода. Я хотел именно то блюдо, что стояло передо мной, и которое теперь забрал Джори. Так я и сидел, умирая от голода, а все вокруг нисколько этого не замечали; они смеялись, разговаривали и вели себя так, будто меня здесь не было. Я встал и похромал в свою комнату. Папа вдогонку сказал:
– Барт, тебе нельзя играть на улице, пока твоя нога не зажила окончательно. Поспи, но с вытянутой ногой. Попозже посмотришь телевизор.
Ну вот. Телевизор. Снова пытаются отделаться. Нисколько не рады моему возвращению.
Чтобы казаться послушным, я пошел именно в мою комнату, как мне и сказали, но встал в дверном проеме и прокричал им как можно громче:
– Не смейте тревожить меня, когда я отдыхаю!
Продержали меня две недели в этом дрянном госпитале, а теперь, когда я вернулся, хотят продержать меня еще больше взаперти. Вот я покажу им! Никто не посмеет запирать меня! Но, прежде чем я сумел вылезти незамеченным через окно, прошло долгих шесть дней. Я и так уже пропустил пол-лета, не поехал в Диснейленд. Но я не упущу оставшегося.
На проклятое дерево возле стены я забрался совсем не с прежней легкостью. К тому времени, как я спущусь и дойду до бабушкиной двери, я скрючусь от боли. Боль – это совсем не так безобидно, как я себе представлял. Но ведь Джори как-то растянул лодыжку и вышел тут же танцевать на сцену, игнорируя боль. Значит, я тоже смогу.
Взобравшись на стену, я взглянул вниз: не смотрит ли кто. Нет. Никого. Даже и не подумают, что я могу повредить свою больную ногу. Что это за гадкий запах?
Я начал принюхиваться. Это оттуда, из дупла старого дуба. Ага, вспоминаю. Там что-то дохлое. Но что – не могу вспомнить. В голове будто туман.
Эппл. Лучше буду думать об Эппле. Позабуду про колено. Стану думать, что больная нога принадлежит кому-то старому и дряхлому, вроде Малькольма. Моя молодая нога хотела все время куда-то бежать, но моя старая нога контролировала все ее действия, заставляя опираться на трость.
Ах! Что за разрывающая сердце картина ждет меня в сарае! Бедный Эппл – мертвый от тоски, куча шерсти и костей. Я буду кричать, проклинать всех тех, кто заставил меня уехать на восток и сгубить моего лучшего, преданнейшего друга. Только животные способны любить с такой преданностью.
Казалось, прошло лет сто, как я в последний раз был тут. Держись, старина, думал я. Возьми себя в руки, приготовься выдержать этот удар стойко, как выдержал бы Малькольм. Эппл слишком сильно тебя любил, и заплатил смертью за свою любовь. Никогда-никогда уже мне не иметь такого друга, как мой щенок-пони.
У меня никогда не хватало чувства равновесия, а тут и вовсе меня мотало справа-налево, в глазах был туман, я был как невменяемый. Я почувствовал, что кто-то стоит у меня за спиной. Я обернулся через плечо, но никого не увидел. Никого, кроме устрашающего силуэта динозавра, в который превратились кусты. Глупые садовники могли бы придумать что-нибудь поинтереснее, чем без конца стричь кусты. Надо было повидаться с Джоном Эмосом: пусть подзарядит мои мозги новой порцией мудрости.
Приготовившись к самому худшему, я подошел к сараю. Ничего не вижу, ослеп. Темно! Отчего так темно? Я пробирался вперед медленно и осторожно. Все ставни сарая закрыты. Бедный Эппл – остался в темноте, один и голодный. Комок застрял у меня в горле. Я внутренне плакал по своему любимцу.
Я сделал над собой усилие, чтобы войти вовнутрь. Вид мертвого Эппла нанесет рану моей душе, моей бессмертной душе, которая должна остаться чистой, если я собираюсь войти в светлые врата рая, как вошел в них Малькольм. Так говорил Джон Эмос.
Еще шаг. Я остановился. Вот он, Эппл – и вовсе не мертвый! Он играл в стойле с красным мячом, хватая его огромной пастью, окно у него было раскрыто, а в миске было полно еды. Чистая вода была в другой миске.
Меня затрясло. А Эппл равнодушно посмотрел на меня и начал снова играть. Он совсем не скучал по мне!
– Ты! Ты! – закричал я. – Ты здесь ел, пил, развлекался! И все это время, когда я был на пороге смерти, ты вовсе и не тосковал! А я-то думал, что ты меня любишь. Я думал, ты будешь скучать по мне. А теперь ты даже не рад мне! Даже не завиляешь хвостом, не залаешь! Я ненавижу тебя, Эппл! Ненавижу тебя за то, что ты не любил меня!
Тут только Эппл узнал меня и побежал ко мне, поставил свои огромные лапы мне на грудь и лизнул в лицо. Он бешено заколотил хвостом, но меня уже было не обмануть! Он, видно, нашел себе нового хозяина, который лучше ухаживал за ним. Иначе бы его шерсть не выглядела так чисто и красиво.
– Почему ты не умер от одиночества?! – заорал я.
Мне хотелось, чтобы он провалился сквозь землю, так я его ненавидел. Он почувствовал мое настроение и поджал хвост, повесив голову, и виновато глядел мне в глаза.
– Убирайся! Пострадай так, как я страдал! Тогда ты обрадуешься, когда я вернусь! – И я забрал всю его еду, воду и выбросил их.
Я схватил его красный мяч и забросил его так далеко, чтобы его больше не нашли. Все это время Эппл внимательно наблюдал за мной. Он хотел все вернуть, но было уже поздно.
– Теперь ты поскучаешь, – и я, рыдая, закрыл за собой все окна, ставни и двери. – Оставайся здесь и умри с голода! Я никогда не вернусь, никогда!
Выйдя на солнце, я вспомнил о том, что у Эппла прекрасная мягкая подстилка из сена. Я вернулся, открыл сарай и вилами отгреб все сено. Эппл начал поскуливать, стараясь вырваться ко мне. Но я не пустил.
– Лежи теперь на холодном твердом полу! Твои кости станут болеть, но я не пожалею, потому что больше не люблю тебя! – Я со злостью вытер слезы.
За свою жизнь я имел только трех друзей: Эппла, бабушку и Джона Эмоса. Эппл сам убил мою любовь к нему, а один из двоих предал меня, потому что кормил Эппла и украл его любовь. Но Джон Эмос не стал бы беспокоиться о собаке – это, должно быть, бабушка.
Я задумчиво шел домой. В эту ночь нога так болела, что я стонал, поэтому папа пришел и дал мне лекарство. Он взял меня на руки и сидел так, говоря мне успокаивающие, усыпляющие слова.
Мне снились кошмары. Везде были мертвые кости.
В реках текла кровь, неся части человеческих тел вниз, прямо в океан. Мертв. Я был мертв. Везде погребальные венки. Присылали все новые и новые, и все говорили, как они рады, что я умер. А океан огня играл свою дьявольскую мелодию, и я еще больше возненавидел всю музыку, все танцы еще больше, чем раньше.
Солнце заглянуло ко мне в окно и вырвало меня из объятий дьявола. Когда я открыл глаза, боясь взглянуть на свет, я увидел Джори. Он сидел у меня в ногах и с жалостью смотрел на меня. Нужна мне его жалость!
– Барт, ты кричал ночью. Мне очень жаль, что нога твоя до сих пор болит.
– Нога у меня вовсе не болит! – заорал я.
Я встал и прохромал на кухню. Там мама кормила Синди. Проклятая Синди. Чтоб она пропала. Эмма поджаривала для меня бекон.
– Только кофе и тост, – рявкнул я. – Вот все, что я буду есть.
Мама вздрогнула, а потом подняла ко мне необычно бледное лицо:
– Барт, пожалуйста, не кричи. Потом, ты ведь не любишь кофе.
– У меня такой возраст, что я могу пить кофе! – рявкнул я в ответ
Я осторожно опустился в папино кресло с подлокотниками. Подошедший папа не попросил меня уступить ему кресло. Он уселся на мой стул, налил до половины в чашку кофе и долил сливок. Дал чашку мне.
– Ненавижу кофе со сливками!
– Как ты можешь быть уверен, если ты не пробовал?
– Знаю.
Я отказался пить испорченный кофе. Малькольм пил только черный кофе – значит, буду пить и я. Все, что я буду есть на завтрак – сухой тост. И, если я хочу стать мудрым, как Малькольм, я не должен намазывать его маслом и земляничным джемом. Потому что может быть несварение. Я должен опасаться несварения.
– Папа, что такое несварение?
– Кое-что такое, чего у тебя не должно быть. Да, трудно быть Малькольмом все время. Папа опустился на колено возле меня и ощупал мою ногу:
– Сегодня дела хуже, чем были вчера, – сказал он и подозрительно прищурился. – Барт, я надеюсь, ты не ползал на больном колене?
– Нет! – проорал я. – Я не сумасшедший! Это простыни. Они протерли мне кожу. Ненавижу хлопковые простыни! Шелковое белье лучше.
Малькольм спал только на шелковом белье.
– Откуда же ты это знаешь? – спросил папа. – У тебя никогда не было шелкового белья.
Он продолжал осматривать колено, вымыв его предварительно. Потом он насыпал на рану какой-то белый порошок и приклеил свежую накладку.
– А теперь давай поговорим серьезно. Я прошу тебя, Барт, обратить внимание на это колено. Неважно, где ты находишься: в доме, в саду или на веранде – не ползай в грязи.
– Это не веранда, а патио. – Я нарочно подчеркнул это, чтобы показать, что он вовсе не такой всезнайка.
– Ну хорошо, патио – тебе от этого легче? Нет. Мне никогда не было легко. Я стал над этим думать. Да, иногда мне бывало хорошо, когда я представлял себя Малькольмом, всесильным, богатым, умным и хитрым. Играть роль Малькольма было легче, приятнее, чем любую другую. Отчего-то я знал, что если я буду играть роль Малькольма, то я и стану таким же – всесильным, почитаемым, любимым.
День тянулся и тянулся. Все только и делали в тот бесконечный день, что следили за мной. Наступили сумерки; должен был прийти папа, и мама прихорашивалась перед его приходом. Эмма готовила обед. Джори был в балетном классе, поэтому я незаметно проскользнул в патио и поспешил в сад.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































