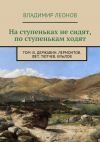Текст книги "Статьи о русской литературе"
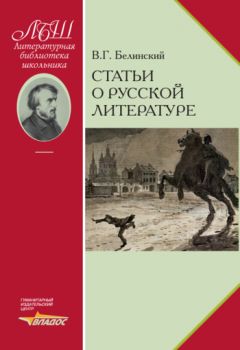
Автор книги: Виссарион Белинский
Жанр: Критика, Искусство
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц)
Катаешь кубарем весь мир;
Как резвости твоей примеров,
Полна земля вся кавалеров,
И целый свет стал бригадир.
Тонко хваля Екатерину, поэт говорит:
Изволит царствовать правдиво,
Не жжет, не рубит без суда;
А разве кое-как вельможи
И так и сяк, нахмуря рожи,
Тузят инова иногда.
Сатирически описывая свое прежнее счастие, когда, бывало, все удавалось ему, и в милости бояр, и в любви, и в игре, и в поэзии, поэт очень забавно и вместе колко жалуется на безвременье преклонных лет своих:
А ныне пятьдесят мне било:
Полет свой счастье пременило;
Без лат я горе-богатырь;
Прекрасный пол меня лишь бесит,
Амур без перьев нетопырь,
Едва вспорхнет, и нос повесит.
Сокрылся и в игре мой клад;
Не страстны мной, как прежде, музы;
Бояре понадули пузы,
И я у всех стал виноват.
Умоляя счастие снова осыпать его своими дарами, поэт остроумно подшучивает над Горацием, обещаясь писать школярным слогом:
«Беатус – брат мой, на волах
Собою сам поля орющий
Или стада свои пасущий!» —
Я буду восклицать в пирах.
К числу таких же од принадлежит и «Мой истукан». В ней особенно замечательны некоторые черты характера поэта и его образа мыслей. Таковы два превосходнейшие стиха:
Злодейства малого мне мало,
Большого делать не хочу.
Замечательна и следующая строфа: поэт говорит, что ни за какие дела не стоил бы он кумира —
Не стоил бы: все знаки чести,
Дозволены самим себе,
Плоды тщеславия и лести,
Монарх! постыдны и тебе.
Желает хвал, благодаренья
Лишь низкая себе душа,
Живущая из награжденья:
По смерти слава хороша,
Заслуги в гробе созревают,
Герои в вечности сияют!
Доселе говорили мы о Державине как о русском поэте, в известной степени и в известном характере отразившем на себе XVIII век в той степени, в какой отразило его на себе тогдашнее русское общество. Теперь нам следует показать Державина как певца Екатерины, как представителя целой эпохи в истории России.
Царствование Екатерины Великой, после царствования Петра Великого, было второю великою эпохою в русской истории. <… >
Поэзия Державина – самое живое и самое верное свидетельство того, до какой степени эта эпоха была благоприятна поэзии и до какой степени могла она дать поэзии разумное содержание. В этом отношении должно обращать внимание не на похвалы Екатерине певца ее, которые, как похвалы современника, не могут иметь той неоподозреваемой достоверности и искренности, как голос потомства; но здесь должно обращать внимание на ту свежесть, ту теплоту искреннего и задушевного чувства, которыми проникнуты гимны Державина Екатерине, на тот смелый и благородный тон, которым они отличаются. <… >
Ода «Фелица» – одно из лучших созданий Державина. В ней полнота чувства счастливо сочеталась с оригинальностию формы, в которой виден русский ум и слышится русская речь. Несмотря на значительную величину, эта ода проникнута внутренним единством мысли, от начала до конца выдержана в тоне. Олицетворяя в себе современное общество, поэт тонко хвалит Фелицу, сравнивая себя с нею и сатирически изображая свои пороки. Исповедь его заключается стихами:
Таков, Фелица, я развратен!
Но на меня весь свет похож.
Не оставляя шуточного тона, необходимого ему для того, чтоб похвалы Фелице не были резки, поэт забывает себя и так рисует для потомства образ Фелицы:
Едина ты лишь не обидишь,
Не оскорбляешь никого;
Дурачества сквозь пальцы видишь,
Лишь зла не терпишь одного;
Проступки снисхожденьем правишь,
Как волк овец, людей не давишь;
Ты знаешь прямо цену их:
Царей они подвластны воле,
Но Богу правосудну боле,
Живущему в законах их.
Ты здраво о заслугах мыслишь:
Достойным воздаешь ты честь;
Пророком ты того не числишь,
Кто только рифмы может плесть;
А что сия ума забава —
Калифов добрых честь и слава,
Снисходишь ты на лирный лад:
Поэзия тебе любезна,
Приятна, сладостна, полезна,
Как летом вкусный лимонад.
Слух идет о твоих поступках,
Что ты нимало не горда,
Любезна и в делах и в шутках,
Приятна в дружбе и тверда;
Что ты в напастях равнодушна,
А в славе так великодушна,
Что отреклась и мудрой слыть.
Еще же говорят неложно,
Что будто завсегда возможно
Тебе и правду говорить.
Неслыханное также дело,
Достойное тебя одной,
Что будто ты народу смело
О всем, и въявь и под рукой,
И знать, и мыслить позволяешь,
И о себе не запрещаешь
И быль и небыль говорить;
Что будто самым крокодилам,
Твоих всех милостей зоилам,
Всегда склоняешься простить.
Стремятся слез приятных реки
Из глубины души моей.
О сколь счастливы человеки
Там должны быть судьбой своей,
Где ангел кроткий, ангел мирный,
Сокрытый в светлости порфирной,
С небес ниспослан скиптр носить!
Там можно пошептать в беседах
И, казни не боясь, в обедах
За здравие царей не пить.
Там с именем Фелицы можно
В строке описку поскоблить
Или портрет неосторожно
Ее на землю уронить;
Там свадеб шутовских не парят,
В ледовых банях их не жарят,
Не щелкают в усы вельмож;
Князья наседками не клохчут,
Любимцы въявь им не хохочут
И сажей не марают рож.
Ты ведаешь, Фелица, правы
И человеков и царей:
Когда ты просвещаешь нравы,
Ты не дурачишь так людей;
В твои от дел отдохновенья
Ты пишешь в сказках поученья
И Хлору в азбуке твердишь:
«Не делай ничего худого —
И самого сатира злого
Лжецом презренным сотворишь».
Заключительная строфа оды дышит глубоким благоговейным чувством:
Прошу великого пророка,
Да праха ног твоих коснусь,
Да слов твоих сладчайша тока
И лицезренья наслаждусь!
Небесные прошу я силы,
Да их простя сафирны крылы,
Невидимо тебя хранят
От всех болезней, зол и скуки;
Да дел твоих в потомстве звуки,
Как в небе звезды, возблестят.
Оду эту Державин писал, не думая, чтоб она могла быть напечатана; всем известно, что она случайно дошла до сведения государыни. Итак, есть и внешние доказательства искренности этих полных души стихов:
Хвалы мои тебе приметя,
Не мни, чтоб шапки иль бешметя
За них я от тебя желал.
Почувствовать добра приятство —
Такое есть души богатство,
Какого Крез не собирал.
<…> «Видение мурзы» принадлежит к лучшим одам Державина. Как все оды к Фелице, она написана в шуточном тоне; но этот шуточный тон есть истинно высокий лирический тон – сочетание, свойственное только Державинской поэзии и составляющее ее оригинальность. Как жаль, что Державин не знал или не мог знать, в чем особенно он силен и что составляло его истинное призвание. Он сам свои риторически высокопарные оды предпочитал этим шуточным, в которых он был так оригинален, так народен и так возвышен, – тогда как в первых он и надут, и натянут, и бесцветен. «Видение мурзы» начинается превосходною картиною ночи, которую созерцал поэт в комнате своего дома; поэтическая ночь настроила его к песнопению, и он воспел тихое блаженство своей жизни:
Что карлой он и великаном
И дивом света не рожден
И что не создан истуканом
И оных чтить не принужден.
Далее заключается превосходный поэтически и ловко выраженный намек на подарок, так неожиданно полученный им от монархини за оду «Фелица»:
Блажен и тот, кому царевны
Какой бы ни было орды
Из теремов своих янтарных
И сребророзовых светлиц,
Как будто из улусов дальных,
Украдкой от придворных лиц
За россказни, за растобары,
За вирши или за что-нибудь
Исподтишка драгие дары
И в досканцах червонцы шлют.
Явление гневной Фелицы, во всех атрибутах ее царственного величия, прерывает мечты поэта. Фелица укоряет его за лесть; она говорит ему:
……………….Когда
Поэзия не сумасбродство,
Но вышний дар богов, тогда
Сей дар богов кроме лишь к чести
И к поученью их путей
Быть должен обращен, – не к лести
И тленной похвале людей.
Владыки света – люди те же,
В них страсти, хоть на них венцы:
Яд лести их вредит не реже:
А где поэты не льстецы?
Ответ поэта на укоры исчезнувшего видения Фелицы дышит искренностию чувства, жаром поэзии и заключает в себе и автобиографические черты и черты того времени:
Возможно ль, кроткая царевна!
И ты к мурзе чтоб своему
Была сурова столь и гневна
И стрелы к сердцу моему
И ты, и ты чтобы бросала,
И пламени души моей
К себе и ты не одобряла?
Довольно без тебя людей,
Довольно без тебя поэту
За кажду мысль, за каждый стих
Ответствовать лихому свету
И от сатир щититься злых!
Довольно золотых кумиров,
Без чувств мои что песни чли;
Довольно кадиев, факиров,
Которы в зависти сочли
Тебе их неприличной лестью;
Довольно нажил я врагов!
Иной отнес себе к бесчестью,
Что не дерут его усов;
Иному показалось больно,
Что он наседкой не сидит,
Иному – очень своевольно
С тобой мурза твой говорит;
Иной вменял мне в преступленье,
Что я посланницей с небес
Тебя быть мыслил в восхищеньи
И лил в восторге токи слез;
И словом: тот хотел арбуза,
А тот – соленых огурцов;
Но пусть им здесь докажет муза,
Что я не из числа льстецов;
Что сердца моего товаров
За деньги я не продаю
И что не из чужих анбаров
Тебе наряды я крою;
Но, венценосна добродетель!
Не лесть я пел и не мечты,
А то, чему весь мир свидетель:
Твои дела суть красоты.
Я пел, пою и петь их буду
И в шутках правду возвещу;
Татарски песни из-под спуду,
Как луч, потомству сообщу;
Как солнце, как луну поставлю
Твой образ будущим векам,
Превознесу тебя, прославлю;
Тобой бессмертен буду сам.
Пророческое чувство поэта не обмануло его: поэзия Державина в тех немногих чертах, которые мы представили здесь нашим читателям, есть прекрасный памятник славного царствования Екатерины II и одно из главных прав певца на поэтическое бессмертие. <…>
Чтоб верно характеризовать и определить значение Державина как поэта, должно обратить внимание на его собственный взгляд на поэзию и поэта. В артистической душе Державина пребывало глубокое предчувствие великости искусства и достоинства художника. Это доказывается многими истинно вдохновенными местами в его произведениях и даже превосходными отдельными стихотворениями. Мы непременно должны указать на них, как на факты для суждения о Державине, как поэте. В оде «Любителю художеств», неудачной и даже странной в целом, внимание мыслящего читателя не может не остановиться на следующих стихах:
Боги взор свой отвращают
От не любящего муз;
Фурии ему влагают
В сердце черство грубый вкус,
Жажду злата и сребра.
Враг он общего добра!
Ни слеза вдовиц не тронет,
Ни сирот несчастных стон:
Пусть в крови вселенна тонет,
Был бы счастлив только он;
Больше б собрал серебра.
Враг он общего добра!
Напротив того, взирают
Боги на любимца муз;
Сердце нежное влагают
И изящный, нежный вкус:
Всем душа его щедра.
Друг он общего добра!
Если б эти стихи прозаичностию и шероховатостию выражения не поражали нашего вкуса, избалованного изяществом новейшей поэзии, их можно было бы принять за перевод из какой-нибудь пьесы Шиллера в древнем вкусе. Сознание высокого своего призвания Державин выразил особенно в трех пьесах. Странная и невыдержанная в целом пьеса «Лебедь» есть как бы прелюдия к превосходному стихотворению «Памятник»:
Необычайным я пареньем
От тленна мира отделюсь,
С душой бессмертною и пеньем,
Как лебедь, в воздух поднимусь.
В двояком образе нетленный,
Не задержусь в вратах мытарств;
Над завистью превознесенный,
Оставлю под собой блеск царств.
Да, так! хоть родом я не славен;
Но, будучи любимец муз,
Другим вельможам я не равен
И самой смертью предпочтусь.
Не заключит меня гробница,
Средь звезд не превращусь я в прах,
Но, будто некая певица,
С небес раздамся в голосах.
Затем поэт воображает, что его стан обтягивает пернатая кожа, на груди является пух, а спина становится крылата и что он лоснится лебяжьею белизною; в виде лебедя парит он над Россиею, и все племена, населяющие ее, указывают на него и говорят:
«Вот тот летит, что, строя лиру,
Языком сердца говорил
И, проповедуя мир миру,
Себя всех счастьем веселил!»
Мысль изысканная и неловко выраженная, но последний куплет очень замечателен:
Прочь с пышным, славным погребеньем,
Друзья мои! Хор муз, не пой!
Супруга! облекись терпеньем!
Над мнимым мертвецом не вой!
«Памятник» так хорошо известен всем, что нет нужды выписывать его. Хотя мысль этого превосходного стихотворения взята Державиным у Горация, но он умел выразить в такой оригинальной, одному ему свойственной форме, так хорошо применить ее к себе, что честь этой мысли так же принадлежит ему, как и Горацию. Пушкин по-своему воспользовался, по примеру Державина, применением к себе этой мысли, в собственной оригинальной форме. В стихотворении того и другого поэта резко обозначился характер двух эпох, которым принадлежат они: Державин говорит о бессмертии в общих чертах, о бессмертии книжном; Пушкин говорит о своем памятнике: «К нему не зарастет народная тропа» и этим стихом олицетворяет ту живую славу для поэта, которой возможность настала только с его времени.
Не менее «Памятника» замечательно стихотворное посвящение Державина Екатерине II собрания своих сочинений: оно дышит и благоговейною любовию поэта к великой монархине, и пророческим сознанием своего поэтического достоинства:
Что смелая рука поэзии писала,
Как Бога, истину Фелицу во плоти
И добродетели твои изображала,
Дерзаю к твоему престолу принести,
Не по достоинству изящнейшего слога,
Но по усердию к тебе души моей.
Как жертву чистую, возженную для Бога,
Прими с небесною улыбкою твоей,
Прими и освяти твоим благоволеньем
И музе будь моей подпорой и щитом,
Как мне была и есть ты от клевет спасеньем.
Да, веселясь, она и с бодрственным челом
Пройдет сквозь тьму времен и станет средь потомков,
Суда их не страшась, твои хвалы вещать;
И алчный червь когда, меж гробовых обломков,
Оставший будет прах костей моих глодать:
Забудется во мне последний род Багрима,
Мой вросший в землю дом никто не посетит;
Но лира коль моя в пыли где будет зрима
И древних струн ее где голос прозвенит,
Под именем твоим громка она пребудет;
Ты славою – твоим я эхом буду жить.
Героев и певцов вселенна не забудет;
В могиле буду я, но буду говорить.
<…> Мы уже доказали в первой статье, что в эстетическом отношении поэзия Державина представляет собою богатый зародыш искусства, но еще не есть искусство. Это блестящая страница из истории русской поэзии, но еще не сама поэзия. Читая даже лучшие оды Державина, мы должны делать над собою усилие, чтоб стать на точку зрения его времени относительно поэзии, и должны научиться видеть прекрасное во многом, что в то время казалось безусловно прекрасным. Итак, Державин и в эстетическом отношении есть поэт исторический, которого должно изучать в школах, которого стыдно не знать образованному русскому, но который уже не может быть и для общества тем же, чем может и должен быть он для людей, посвящающих себя основательному изучению родного слова, отечественной поэзии. Ломоносов был предтечею Державина, а Державин – отец русских поэтов. Если
Пушкин имел сильное влияние на современных ему и явившихся после него поэтов, то Державин имел сильное влияние на Пушкина. Поэзия не родится вдруг, но, как все живое, развивается исторически: Державин был первым живым глаголом юной поэзии русской. С этой точки зрения должно определять его достоинства и его недостатки, – и с этой точки зрения его недостатки явятся так же необходимыми, как и его достоинства. Называть Державина русским Пиндаром, Анакреоном и Горацием могли только во времена детства нашей критики. Пиндара, Анакреона и Горация читает весь просвещенный мир на их родных языках и в бесчисленном множестве переложений; в Державине ничего не найдет ни француз, ни англичанин, ни немец. Богатырь поэзии по своему природному таланту, Державин, со стороны содержания и формы своей поэзии, замечателен и важен для нас, его соотечественников: мы видим в нем блестящую зарю нашей поэзии, а поэзия его – «это (как справедливо сказано в предисловии к изданным ныне его сочинениям) сама Россия Екатеринина века – с чувством исполинского своего могущества, с своими торжествами и замыслами на Востоке, с нововведениями европейскими и с остатками старых предрассудков и поверий – это Россия пышная, роскошная, великолепная, убранная в азиатские жемчуги и камни и еще полудикая, полуварварская, полуграмотная – такова поэзия Державина, во всех ее красотах и недостатках».
Горе от ума
Комедия в 4-х действиях, в стихах
Сочинение А.С. Грибоедова
<…> Трагедия или комедия, как и всякое художественное произведение, должна представлять собою особый, замкнутый в самом себе мир, т. е. должна иметь единство действия, выходящее не из внешней формы, но из идеи, лежащей в ее основании. Она не допускает в себя ни чуждых своей идее элементов, ни внешних толчков, которые бы помогали ходу действия, но развивается имманентно, т. е. изнутри самой себя, как дерево развивается из зерна. Поэтому всякая пьеса в драматической форме, вполне выражающая и вполне исчерпывающая свою идею, целая и оконченная в художественном значении, т. е. представляющая собою отдельный и замкнутый в самом себе мир, есть или трагедия, или комедия, смотря по сущности ее содержания, но нисколько несмотря на ее объем и величину, хотя бы она простиралась не далее пяти страниц. Так, например, пьесы Пушкина: «Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь», «Русалка», «Борис Годунов» и «Каменный гость» – суть трагедии во всем смысле этого слова, как выражающие, в драматической форме, идею торжества нравственного закона и представляющие, каждая в отдельности, совершенно особый и замкнутый в самом себе мир.
Теперь посмотрим, каким образом комедия может представлять собою особый, замкнутый в самом себе мир, для чего бросим беглый взгляд на высокохудожественное произведение в этом роде, – на комедию Гоголя «Ревизор».
В основании «Ревизора» лежит та же идея, что и в «Ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем»: в том и другом произведении поэт выразил идею отрицания жизни, идею призрачности, получившую, под его художническим резцом, свою объективную действительность. Разница между ими не в основной идее, а в моментах жизни, схваченных поэтом, в индивидуальностях и положениях действующих лиц. Во втором произведении мы видим пустоту, лишенную всякой деятельности; в «Ревизоре» – пустоту, наполненную деятельностию мелких страстей и мелкого эгоизма. Чтобы произведения его были художественны, т. е. представляли собою особый, замкнутый в самом себе мир, он взял из жизни своих героев такой момент, в котором сосредоточивалась вся целостность их жизни, ее значения, сущность, идея, начало и конец: в первом – ссору двух приятелей, во втором – ожидание и прием ревизора. Все чуждое этой ссоре и этому ожиданию и приему ревизора не могло войти в повесть и комедию, и та и другая начаты с начала и кончены в конце: нам не нужно знать подробности детства обоих друзей-врагов, ни того, что было с ними после, как их видел поэт: мы знаем это из повести, потому что знаем этих героев с головы до ног, знаем всю сущность их жизни, вполне исчерпанную поэтом в описании их ссоры. Так точно, на что нам знать подробности жизни городничего до начала комедии? Ясно и без того, что он в детстве был учен на медные деньги, играл в бабки, бегал по улицам, и как стал входить в разум, то получил от отца уроки в житейской мудрости, т. е. в искусстве нагревать руки и хоронить концы в воду. Лишенный в юности всякого религиозного, нравственного и общественного образования, он получил в наследство от отца и от окружающего его мира следующее правило веры и жизни: в жизни надо быть счастливым, а для этого нужны деньги и чины, а для приобретения их – взяточничество, казнокрадство, низкопоклонничество и подличанье перед властями, знатностию и богатством, ломанье и скотская грубость перед низшими себя. Простая философия! Но заметьте, что в нем это не разврат, а его нравственное развитие, его высшее понятие о своих объективных обязанностях: он муж, следовательно, обязан прилично содержать жену; он отец, следовательно, должен дать хорошее приданое за дочерью, чтобы доставить ей хорошую партию и, тем устроив ее благосостояние, выполнить священный долг отца. Он знает, что средства его для достижения этой цели грешны перед Богом, но он знает это отвлеченно, головою, а не сердцем, и он оправдывает себя простым правилом всех пошлых людей: «Не я первый, не я последний, все так делают». Это практическое правило жизни так глубоко вкоренено в нем, что обратилось в правило нравственности; он почел бы себя выскочкою, самолюбивым гордецом, если бы, хоть позабывшись, повел себя честно в продолжение недели. Да оно и страшно быть «выскочкою»: все пальцы уставятся на вас, все голоса подымутся против вас; нужна большая сила души и глубокие корни нравственности, чтоб бороться с общественным мнением. И не Сквозники-Дмухановские увлекаются могучим водоворотом этой магической фразы «все так делают» и, как Молоху, приносят ей в жертву и таланты, и силы души, и внешнее благосостояние. Наш городничий был не из бойких от природы, и потому «все так делают» было слишком достаточным аргументом для успокоения его мозолистой совести; к этому аргументу присоединился другой, еще сильнейший для грубой и низкой души: «жена, дети, казенного жалованья не стаёт на чай и сахар». Вот вам и весь Сквозник-Дмухановский до начала комедии. Что касается до форм, в каких он выражался и проявлялся до того, они все те же, все его же, как и во время комедии. Так же нетрудно понять, что с ним было и по окончании комедии, как он дожил свой век. Художественная обрисовка характера в том и состоит, что, если он дан вам поэтом в известный момент своей жизни, вы уже сами можете рассказать всю его жизнь и до и после этого момента. Конец «Ревизора» сделан поэтом опять не произвольно, но вследствие самой разумной необходимости: он хотел показать нам Сквозника-Дмухановского всего, как он есть, и мы видели его всего, как он есть. Но тут скрывается еще другая, не менее важная и глубокая причина, выходящая из сущности пьесы. В комедии, как выражении случайностей, все должно выходить из идеи случайностей и призраков и только чрез это получать свою необходимость: почтенный наш городничий жил и вращался в мире призраков, но как у него необходимо были свои понятия о действительности, хотя и отвлеченные, и сверх того самый основательный страх действительности, известной под именем уголовного суда, то и должно было выйти комическое столкновение, как сшибка естественного влечения сердца к воровству и плутням с страхом наказания за воровство и плутни, страхом, который увеличился еще и некоторым беспокойством совести. «У страха глаза велики», – говорит мудрая русская пословица: удивительно ли, что глупый мальчишка, промотавшийся в дороге трактирный денди, был принят городничим за ревизора? Глубокая идея! Не грозная действительность, а призрак, фантом или, лучше сказать, тень от страха виновной совести, должны были наказать человека призраков. Городничий Гоголя – не карикатура, не комический фарс, не преувеличенная действительность и в то же время нисколько не дурак, но, по-своему, очень и очень умный человек, который в своей сфере очень действителен, умеет ловко взяться за дело – своровать и концы в воду схоронить, подсунуть взятку и задобрить опасного ему человека. Его приступы к Хлестакову, во втором акте, – образец подъяческой дипломатии. Итак, конец комедии должен совершиться там, где городничий узнает, что он был наказан призраком и что ему еще предстоит наказание со стороны действительности или, по крайней мере, новые хлопоты и убытки, чтобы увернуться от наказания со стороны действительности. И потому приход жандарма с известием о приезде истинного ревизора прекрасно оканчивает пьесу и сообщает ей всю полноту и всю самостоятельность особого, замкнутого в самом себе мира. В художественном произведении нет ничего произвольного и случайного, но все необходимо и логически вытекает из его идеи. Каждое лицо в нем, способствуя развитию главной идеи, в то же время есть и само себе цель, живет своею особною жизнию. Далее мы из «Ревизора» разовьем подробно эту идею, а пока заметим мимоходом, что вследствие этого взгляда на искусство Мольер – такой же художник, как Гомеров Тирсис – красавец, и так же похож на Шекспира, как титулярный советник Поприщин на Фердинанда VIII, короля испанского. Конечно, французы правы, что ставят Мольера выше Корнеля и Расина: он действительно был человек с большим талантом, с неистощимою живостию и остротою французского ума; он истощил все богатство разговорного французского языка, воспользовался всею его грациозною игривостию для выражения смешных противоречий; он подметил и верно схватил многие черты своего времени. Но он велик в частностях, а не в целом; но его действующие лица не действительные существа, а карикатуры, так же как его произведения – сатиры, а не комедии, так же как сам он поэт местами, а не художник, который потому художник, что творит целое, стройное здание, выросшее из одной идеи. Например, в его «Скупом» Гарпагон, конечно, хорош, как мастерски написанная карикатура, но все другие лица – резонеры, ходячие сентенции о том, что скупость есть порок; ни одно из них не живет своею жизнию и для самого себя, но все придуманы, чтобы лучше оттенить собою героя quasi-комедии[24]24
Мнимой комедии (лат.). – Ред.
[Закрыть]. То же и в «Тартюфе»: все лица присочинены для главного, и сам Тартюф так нехитер, что мог обмануть только одного человека, и то потому, что этот один – пошлый дурак. Завязка и развязка мнимых комедий Мольера никогда не выходит из основной идеи и взаимных отношений действующих лиц, но всегда придумывается, как рама для картины, не создается, как необходимая форма. Это оттого, что у него никогда не было идеи и поэзия для него никогда не была сама себе цель, но средство исправлять общество осмеянием пороков. Какой это художник!..
Многие находят страшною натяжкою и фарсом ошибку городничего, принявшего Хлестакова за ревизора, тем более что городничий – человек, по-своему, очень умный, т. е. плут первого разряда. Странное мнение, или, лучше сказать, странная слепота, не допускающая видеть очевидность! Причина этого заключается в том, что у каждого человека есть два зрения – физическое, которому доступна только внешняя очевидность, и духовное, проникающее внутреннюю очевидность, как необходимость, вытекающую из сущности идеи. Вот когда у человека есть только физическое зрение, а он смотрит им на внутреннюю очевидность, то и естественно, что ошибка городничего ему кажется натяжкою и фарсом. Представьте себе воришку-чиновника такого, каким вы знаете почтенного Сквозника-Дмухановского: ему виделись во сне две какие-то необыкновенные крысы, каких он никогда не видывал, – черные, неестественной величины – пришли, понюхали и пошли прочь. Важность этого сна для последующих событий была уже кем-то очень верно замечена[25]25
Смотри «Литературные прибавления к «Инвалиду»», 1839, № 3, т. II.
[Закрыть]. В самом деле, обратите на него все ваше внимание: им открывается цепь призраков, составляющих действительность комедии. Для человека с таким образованием, как наш городничий, сны – мистическая сторона жизни, и чем они несвязнее и бессмысленнее, тем для него имеют большее и таинственнейшее значение. Если бы, после этого сна, ничего важного не случилось, он мог бы и забыть его; но, как нарочно, на другой день он получает от приятеля уведомление, что «отправился инкогнито из Петербурга чиновник с секретным предписанием обревизовать в губернии все относящееся по части гражданского управления». Сон в руку! Суеверие еще более запугивает и без того запуганную совесть; совесть усиливает суеверие. Обратите особенное внимание на слова «инкогнито» и «с секретным предписанием». Петербург есть таинственная страна для нашего городничего, мир фантастический, которого форм он не может и не умеет себе представить. Нововведения в юридической сфере, грозящие уголовным судом и ссылкою за взяточничество и казнокрадство, еще более усугубляют для него фантастическую сторону Петербурга. Он уже допытывается у своего воображения, как приедет ревизор, чем он прикинется и какие пули будет он отливать, чтобы разведать правду. Следуют толки у честной компании об этом предмете. Судья-собачник, который берет взятки борзыми щенками и потому не боится суда, который на своем веку прочел пять или шесть книг и потому несколько вольнодумен, находит причину присылки ревизора, достойную своего глубокомыслия и начитанности, говоря, что «Россия хочет вести войну, и потому министерия нарочно отправляет чиновника, чтоб узнать, нет ли где измены». Городничий понял нелепость этого предположения и отвечает: «Где нашему уездному городишке? Если б он был пограничным, еще бы как-нибудь возможно предположить, а то стоит черт знает где – в глуши… Отсюда хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь». Засим он дает совет своим сослуживцам быть поосторожнее и быть готовыми к приезду ревизора; вооружается против мысли о грешках, т. е. взятках, говоря, что «нет человека, который бы не имел за собою каких-нибудь грехов», что «это уже так самим Богом устроено» и что «волтерианцы напрасно против этого говорят»; следует маленькая перебранка с судьею о значении взяток; продолжение советов; ропот против проклятого инкогнито. «Вдруг заглянет: а! вы здесь, голубчики! А кто, скажет, здесь судья? – Тяпкин-Ляпкин. – А подать сюда Тяпкина-Ляпкина! А кто попечитель богоугодных заведений? – Земляника. – А подать сюда Землянику! Вот что худо!»… В самом деле, худо! Входит наивный почтмейстер, который любит распечатывать чужие письма в надежде найти в них «разные этакие пассажи… назидательные даже… лучше, нежели в «Московских ведомостях»». Городничий дает ему плутовские советы «немножко распечатывать и прочитывать всякое письмо, чтобы узнать – не содержится ли в нем какого-нибудь донесения или просто переписки». Какая глубина в изображении! Вы думаете, что фраза «или просто переписки» бессмыслица или фарс со стороны поэта: нет, это неумение городничего выражаться, как скоро он хоть немного выходит из родных сфер своей жизни. И таков язык всех действующих лиц в комедии! Наивный почтмейстер, не понимая, в чем дело, говорит, что он и так это делает. «Я рад, что вы это делаете, – отвечает плут-городничий простяку-почтмейстеру, – это в жизни хорошо», и видя, что с ним обиняками не много возьмешь, напрямки просит его – всякое известие доставлять к нему, а жалобу или донесение просто задерживать. Судья потчует его собачонкою, но он отвечает, что ему теперь не до собак и зайцев: «У меня в ушах только и слышно, что инкогнито проклятое; так и ожидаешь, что вдруг отворятся двери и войдет…»
И в самом деле, двери отворяются с шумом, и вбегают Петры Ивановичи Бобчинский и Добчинский. Это городские шуты, уездные сплетники; их все знают как дураков и обходятся с ними или с видом презрения, или с видом покровительства. Они бессознательно это чувствуют и потому изо всей мочи перед всеми подличают и, чтобы только их терпели, как собак и кошек в комнате, всем подслуживаются новостями и сплетнями, составляющими субъективную, объективную и абсолютную жизнь уездных городков. Вообще с ними обращаются без чинов, как с собаками и кошками: надоедят – выгоняют. Их дни проходят в шатанье и собирании новостей и сплетней. Обогатясь подобною находкой, они вдруг вырастают сознанием своей важности и уже бегут к знакомым смело, в уверенности хорошего приема. «Чрезвычайное происшествие!» – кричит Бобчинский. «Неожиданное известие!» – восклицает Добчинский, вбегая в комнату городничего, где все настроены на один лад, а особливо сам городничий весь сосредоточен на idée fixe[26]26
Навязчивой идее (фр.). – Ред.
[Закрыть]. «Что такое?» – «Приходим в гостиницу!» – восклицает Добчинский. «Приходим в гостиницу», – перебивает его Бобчинский. Начинается рассказ самый обстоятельный, самый подробный, от начала до конца: зачем пошли в гостиницу, где, как, когда, при каких обстоятельствах, – словом, по всем правилам топиков или общих мест старинных риторик. Чудаки перебивают друг друга; каждому хочется насладиться своею важностию, быть центром общего внимания, а вместе и занять себя, наполнить свою пустоту пустым содержанием. Забавнее всего то, что им самим хочется как можно скорее добраться до эффектного конца, а между тем и хочется продолжить свое торжество и рассказать все с начала и подробнее. Бобчинский овладевает рассказом, говоря, что у Добчинского «и зуб его со свистом и слога такого нету», и Добчинскому осталось только помогать жестами рассказу счастливого Бобчинского, изредка обегать его некоторыми фразами, которые тот снова перехватывает и продолжает свой рассказ. Наконец дошли до «молодого человека недурной наружности, в партикулярном платье». Представьте себе, какое впечатление должен был произвести этот «молодой человек недурной наружности, в партикулярном платье» на воображение городничего, уже и без того настроенное ожиданием проклятого «инкогнито»! И вот наконец Бобчинский передает донесение трактирщика Власа: «Молодой человек, чиновник, едущий из Петербурга, – Иван Александрович Хлестаков, а едет в Саратовскую губернию, и что чрезвычайно странно себя аттестует: больше полуторы недели живет, дальше не едет, забирает все на счет и денег хоть бы копейку заплатил». Следует остроумная сметка проницательного Бобчинского: «С какой стати сидеть ему здесь, когда дорога ему лежит бог знает куда – в Саратовскую губернию? Это, верно, не кто другой, как самый тот чиновник». Не естествен ли после этого ужас городничего?