Текст книги "Александр III. Истоки русскости"
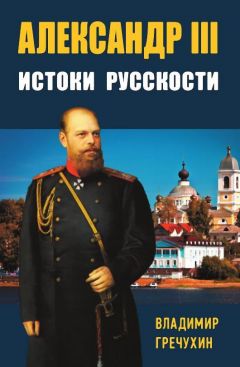
Автор книги: Владимир Гречухин
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Европейская политика (Россия и Запад)
…Когда я горестно листаю
Российской летопись земли,
Я тех царей благословляю,
При ком войны мы не вели.
При ком границ не раздвигали,
При ком столиц не воздвигали,
Не усмиряли мятежей,
Рождались, жили, умирали
В глухом углу, в семье своей.
Мне стали по сердцу те поры,
Мне те минуты дороги,
Те годы жизни, о которых,
Ища великого, историк
Небрежно пишет две строки
Александр Солженицын
…Масштабы российской политики издавна имели отнюдь не региональный, а поистине межконтинентальный характер. Её государственные интересы были в равной мере великими как в Европе, так и в Азии. И основные векторы политических действий имели свою весьма значительную направленность на Юг, Восток и Запад. И если во времена Александра III восточное направление ещё не представлялось исключительно важным, то южное и западное всегда имели первостепенное значение. А на самом первом месте не могло ни быть дел европейских, эта политика всегда оставалась самой главной. Как её понимал и осуществлял император Александр III?
Нередко можно слышать мнение, что у больших политиков уже в молодые годы весьма заметно складываются некие политические симпатии и намечаются ориентиры будущих правительных дел. Может быть… И если посмотреть на молодые годы будущего императора с этой стороны, то ясно увидим, что Александру Александровичу была свойственна яркая германофобия. Более того, к любому немецкому началу он относился весьма холодно и даже с немалым отчуждением. И даже в русской Прибалтике он был весьма холоден с тамошним немецким дворянством и недостаточно внимателен к нему.
В молодости Александр Александрович в великосветском общении нередко проявлял несдержанность и излишнюю откровенность. Так, во время обострения отношений между Францией и Германией, он не скрывал горячих симпатий к французам, и в свете стали хорошо известны его слова: «Эти поганые немцы… Я уверен, что французы ещё дадут себя знать свиньям-пруссакам. О, как бы я был счастлив!»
Разумеется, став Наследником, а потом и императором, Александр Александрович научился лучше владеть своими чувствами, но далеко не всегда скрывал свою антипатию к «свиньям пруссакам», не придавая значения тому эффекту, который такие отзывы смогут создавать и в высшем свете, и в международных дипломатических отношениях. Большой знаток придворной жизни фельдмаршал Д. А. Малютин в своих «Воспоминаниях» отзывается об императоре как о человеке вполне добродушном, но о нём как о политике говорит гораздо сдержанней, подчеркивая «способность открытого и осознанного пренебрежения общественным мнением».
Могло ли такое «пренебрежение» приводить к политическим неприятностям, к крайностям в международных отношениях и к военным действиям? В молодости, в канун русско-турецкой войны, Александр Александрович был среди тех, кто горячо призывал к войне. Когда она стала совершившимся фактом, он был направлен в действующую армию и, как это было принято, получил под своё командование крупное воинское соединение. Это был Рущукский отряд, включавший целых два корпуса, почти в 60 тысяч человек. Отряд участвовал в ряде боёв, наиболее значительное сражение провёл в ноябре 1877 года, у села Мечка.
Военные действия показали, что Александр Александрович не обладает значительными военными дарованиями и, более того, совсем не разделяет устремлений на завоевательную политику. Война, представ перед будущим императором во всей своей неприглядности, жестокости и растратности средств, стала для него самым нежелательным международным действием. С тех пор засчитал её неразумной тратой людей и средств.
Стал ли он совершенным пацифистом или же всегда являлся сторонником осторожной внешней политики? Безусловно, пацифистом император никогда не являлся, и придавал большое значение укреплению армии и флота для сдерживания агрессивных наклонностей любых сильных держав. Сдерживание захватнических поползновений было главным вектором его отношений и с молодыми, и со старыми европейскими «хищниками». А особенно недоверчивым он по-прежнему оставался к Германии. Последующие исследователи международных отношений отмечали, что, не обладая выдающимися дипломатическими талантами, император тем не менее четко улавливал хищническую суть германских территориальных поползновений и будущую большую опасность для России видел именно с этой стороны.
И он не желал скрывать этих своих опасений. Известны многие его отрицательные высказывания о направленности германской внешней политики. Например, вот одно из них: «Да, покажут нам пруссаки, что значит союз и дружба, и увидим мы тогда, что за дураки мы были всё время. Да, грустно очень видеть, как мы сами приготавливаем для себя неизбежную опасность». И, став императором, он постарался аккуратно, но решительно и последовательно отходить от тесных союзнических отношений с Германией, создавать противовес её опасным поползновениям.
Отрицательное отношение императора к «канальям – пруссакам» явно распространялось и на российских прибалтийских немцев, которых царь в немалой мере подозревал в больших симпатиях к Германской империи. Кажется, эти его опасения в дальнейшем оказались излишними, но он сохранил их во всё своё царствование и старался попригасить в российской Прибалтике как «немецкий дух», так и местную немецкую особость в самоуправлении.
А в своей европейской политике предпочитал не связывать себя никакими новыми серьёзными обстоятельствами с Германией. Поясняя причины таких действий, он писал князю В. П. Мещерскому: «…поневоле приходиться подумать о нашей родине, и до неё скоро доберутся поганые пруссаки…» Нам, нынешним людям, читая такие суждения Царя Миротворца, нельзя не признать его политической прозорливости. «Пруссаки» уже при его сыне, а потом в 1941 году «добрались» до России и залили её кровью в двух ужасающе опустошительных и жесточайших войнах…
Политика сдерживания, твердо проводимая Александром III, хотя и была во многом антианглийской, но ничуть не в меньшей степени была направлена и против Германии. Укрепляя российские армию и флот, демонстрируя непреклонность в защите национальных интересов, Александр III был совершенно уверен, что даже в самом нежелательном случае (при открытии крупномасштабных боевых действий) Россия сможет выиграть любую оборонительную войну. Захватнических войн она вести не собирается и не будет. А оборонительную выиграет! Соберет все свои силы, поднимет русский народ, обратившись к его беззаветному патриотизму, и отбросит любого дерзкого хищника к его пределам.
Будучи спокойно уверен в этом, император нередко позволял себе не слишком учтивые выражения про германских политиков и, в том числе, про императора Вильгельма. Так, однажды граф Голенищев-Кутузов сообщил ему об очередных дерзких высказываниях германского правителя. Последовавший царский ответ оказался до крайности недипломатичным: «Что же удивительного? – простодушно спросил царь. – Вильгельм век свой был в стороне, сидел мирно и вдруг – Германский Император. Ну, голова и закружилась…»
А вот Вильгельм, кажется, не только признавал величественную твердость императора России, но и уважал ее и даже немало пленялся образом его правления и поведением. А порой и не стеснялся показать своё уважение, граничащее с преклонением. Было ли это преклонением? Было ли это рассчитанным ложным низкопоклонством неразборчивого в средствах политика, или это были поступки, вызванные искренним опасением решительных действий России? Этого мы не знаем. Но знаем, что Александр III на такую внимательную предупредительность никак не реагировал, принимал такие моменты как должное по отношению к нему как правителю величайшей в мире империи.
Может быть, наиболее яркий подобный случай произошел однажды на маневрах, в которых как гость принимал участие германский император. Садясь в повозку, Александр III обронил свою шинель, до того накинутую на плечи, и она упала на землю. Всё это было на виду у парадно построенных войск, Вильгельм выскочил из своей коляски, демонстративно поднял шинель и накинул её на царские плечи. Это, конечно, всеми было замечено, и многим послужило поводом для искреннего восхищения любезной расторопностью гостя. Был ли с его стороны мгновенно рассчитанный ход или же он искренне подчеркнул первостепенную значимость российского монарха в любом европейском сообществе? Мы не ответим на этот вопрос, но отметим, что русский царь отнюдь не рассыпался в ответных любезностях, а проявил спокойное благородное достоинство.
И в отношениях с Вильгельмом так было всегда. Русский император спокойно подчеркивал первостепенную значимость России в любых контактах с германскими политиками. Особенно ярко это проявилось при подготовке встречи императоров в Киле. Тогда Вильгельм выдвинул ряд своих условий встречи, которые Александр III расценил как принижающие достоинство России и сказал, что если германцы не согласятся на русские условия встречи, то такой встречи и вовсе не будет. Вильгельм поспешил согласиться. (Никакие любезности Вильгельма не обманывали Александра III, но они впоследствии совершенно позволили усыпить бдительность его сына, императора Николая II…)
Спокойное достоинство – это важное правительное качество он постоянно и проявлял в европейской политике, всегда заявляя себя непременным сторонником спокойного достоинства в мировых делах, совершенно отрицающего суету, нервозность и спешность.
Но такое спокойное достоинство всегда граничило с жесткой готовностью отрезвить слишком зарвавшихся оппонентов. Так широко известен случай, когда австрийский посол несдержанно пригрозил царю, что его империя для поддержания своих действий может придвинуть к русской границе не менее двух или даже трех отлично подготовленных армейских корпусов. Царь не удостоил посла дипломатичным ответом. Он взял со стола большую серебряную вилку, скрутил её в штопор и бросил послу со словами: «Вот я что сделаю с вашими корпусами!»
…И этот случай с «корпусами», и вся политика двух немецких империй давали ясно понять, что «пруссаки» уже дерзко бряцают оружием и готовятся к решительным шагам по пределу Европы и всего мира. Да и промышленность Германии бурно развивалась и становилась всё более опасной для соседей как доминирующая экономическая сила. Русский император сознавал необходимость защиты не только российских территорий, но и её ещё очень молодой, и ещё слабой промышленности.
Об этом мы полней скажем в главе, посвященной экономическому развитию страны. А сейчас лишь отметим, что царь и его ближайшее окружение пришли к мысли о необходимости пересмотра своих международных отношений и к поиску союзников против всё усиливающейся и всё более дерзостной Германии. Таким союзником могла быть Франция, до этого «пруссаками» совершенно разгромленная и буквально поставленная на колени.
Но! Но союз или, по крайней мере, сближение консервативной монархии с республиканской Францией?! Могла ли такое представить себе Европа. Могла ли представить это себе русская аристократия?! И мог ли на это пойти сам глубоко самодержавный правитель России? Мог. И пошел на это, ясно предвидя близящуюся опасность со стороны «пруссаков» и насущную необходимость создания в Европе сильного противовеса против немецкой опасности.
Как восприняла такое сближение с Францией российская интеллигенция? Неоднозначно. А вот вся Франции впала в полный восторг! Граф Игнатьев говорил об этом: «Живущая воспоминаниями о разгроме немцами в 1870 году Франция видела в России свою спасительницу. Вот почему прием русской эскадры адмирала Авелара в Тулоне, первый приезд Александра III во Францию, грандиозный, ставший историческим парад в его честь. Все эти события медового месяца франко-русской дружбы врезались в память целых поколений, и воспоминания о них дожили до моих дней. Французский генералитет, рассказывая об этом, захлебывался от восторга».
И та память, и тот восторг жили и гораздо дольше. До сих дней один из лучших мостов Парижа в память союзного договора 1896 года носит имя императора Александра III.
Европа с величайшим вниманием следила за развитием русско-французских отношений. И каждый момент дипломатического сближения вызывал живейший интерес политиков. В том числе и эпизоды дипломатических встреч, они ведь в глазах высокой дипломатии тоже имели немалое значение.
Поэтому такой случай, как встреча Александром III французской эскадры в Кронштадте, и то приковал внимание всей Европы. Ведь коли император лично сам встречал гостей то (и это был великий знак понимания общих задач и целей!), то… То в этом случае ему приходилось бы не только выслушать ответный французский гимн, но и отдать честь этому яростно революционному напеву! Как на это пойдет самодержавный император? А он пошел на это спокойно и ровно – высшая политика не терпит идеологических условностей!
Опираясь на соображения жизненно важной для России политики, Александр III окончательно, почти демонстративно, разорвал условия старого Парижского договора 1856 года о запрещении для России иметь военный флот на Чёрном море, и приказал построить здесь сразу несколько броненосцев и сделать это именно в Севастополе, дав Европе предметный урок самостоятельности российских действий.
Уже в 1881 году была создана судостроительная компания по строительству кораблей всех морских классов, в том числе двадцати четырех линкоров (то есть эскадрильных броненосцев и пятнадцати крейсеров). А для убедительности воздействия на Европу сухопутную армию император распорядился довести до одного миллиона человек. А в военных условиях она могла быть развернута и до четырех миллионов. Господа европейцы, едва ли вы теперь помыслите о каком-либо давлении на Россию с угрозами военных действий…
Император ориентировал своё военное министерство на внимательное слежение за всеми новинками военной техники и сам находил время знакомиться с успехами лучших оружейников мира. Например, 8 марта 1888 года, интересуясь изобретением американца Хаймера Максима, Александр III лично сам в манеже Аничкова дворца стрелял из его пулемета. Вот, таким образом, и пришёл в нашу армию знаменитый станковый пулемет «Максим», в 1945 году с нашими солдатами дошедший до столицы «проклятых пруссаков».
Многие современники Александра III (а в их числе и много размышлявший о его правлении С. Ю. Витте) говорили, что император вовсе не обладал глубоким политическим мышлением и свои решения принимал на перспективу не слишком далекую. Но никто не мог обвинить его в отсутствии реализма таких решений. Поэтому правителю совершенно не были свойственны ни благодушная доверчивость к ведущим державам Европы – ни политическое легкомыслие. Он отчетливо понимал, что его страна обладает весьма специфическим вектором внешней политики, и четко выразил это в своих знаменитых словах о наличии у России всего двух, но очень мощных союзников (её собственной армии, и её собственного флота). А завершение этой широко известной фразы звучало ещё более понятно: «Император говорил, что во всей Европе он может полностью верить лишь маленькой Черногории» (Всецело находящейся на русском обеспечении. – В.Г.), а «все остальные при первой же возможности сами ополчатся на нас!» Господи, как реалистичен и для сегодняшних дней такой взгляд… И как он разумно далек от глупой наивности наших Ельцина и Горбачёва…
Император, несмотря на несложность своих взглядов и суждений, умел вовремя менять политический курс своей громадной страны, делая это лишь в её собственных интересах. Так, первоначально он ориентировался на содружество с Австрией и Германией, находя в этом значительный смысл, но летом 1881 года на смену Конвенции, принятой в 1873 году, отчетливо проявились новые политические тенденции. Ещё существовавший союз трех императоров приносил политические облегчения на Балканах и в отношениях с Турцией, отводя нежелательное влияние других европейских лидеров. Но в 1886 году случились неприятности с Австрией по поводу Болгарии, и соглашение с Австрийской империей перестало существовать. Договор с Германией прервался своим действием, но в 1870 году немцы не пожелали себе связывать руки с этим документом.
А быстро сформировавшийся союз Германии, Австрии и Италии ускорил начало сближения России с Францией. Как мы говорили, Александр III подчеркивал важность начавшегося сближения, летом 1890 года лично сам участвовал во встрече в Кронштадте с правительственной французской делегацией. Переговоры с французами пошли медленно, но в целом завершились успешно. И в 1893 году была заключена русско-французская Конвенция, направленная против Германии и её союзников.
Русский царь, просчитывая свои дипломатические ходы, первостепенное значение придавал своему личному участию в их важнейших актах. Так, идя на разрыв кабальных условий, навязанных нам Европой на Чёрном море, он сам в 1886 году посетил Севастополь, и этот визит имел большое историческое значение. Именно здесь, едва не демонстративно, император и подписал приказ, возвещающий о возрождении Черноморского военного флота: «Прошло тридцать с лишним лет, как Черноморский флот, свершив славные подвиги, принёс себя в жертву для блага России. Нынче этот флот возникает вновь на радость скорбевшей о нём России». Мы уже упоминали, что первые черноморские броненосцы была заложены в Севастополе. И одновременно с этим возобновили военное судостроение в Николаеве. Россия вновь твёрдой ногой вступала на черноморские берега, с демонстративной непреклонностью заявив о себе как о мощной морской державе.
В целом, вот такими были основные направления и этапы европейской политики Александра III. Как её оценивали сами россияне? Оценивали по-разному. Большинство реально мыслящих людей одобряли прагматический курс императора, целиком направленный на защиту русских национальных интересов. Но была и группа политологов, осуждавшая такую политику, усматривая в ней большой недостаток динамичности. Например, такой широко информированный человек как А. А. Киреев говорил, что он глубоко разочарован ею. Он крайне низко оценивал личный состав Министерства иностранных дел, а всю внешнюю политику Александра III считал крайне невыразительной и неинтересной: «Наша бесцветная политика не мешала нашему росту. Почему? Потому что за нас время: время, которое сейчас против Запада. Запад сходит вниз, а мы хоть и неумело, да идем в гору… И такого инстинктивного поворота к самостоятельности достаточно было, чтобы мы сделались грозными. Что же было бы, если бы мы знали, чего желаем, к чему идем. К сожалению, мы этого не понимали, не понимаем и по-прежнему придерживаемся выжидательной политики. Но эта выжидательность не подкреплена, не мотивирована. Просто сидим и растем! Иностранцы же этим пользуются, радуются нашей неподвижности и гадят нам, обделывая свои делишки».
Вот и такие отзывы о европейской политике Александра III тоже имели место. Правы ли были их сторонники? Немалое число таких людей находилось в армии, где император не пользовался высоким авторитетом уже из-за своих миролюбивых взглядов. Там же проявился и самый горячий проповедник смело наступательной политики, подлинный национальный герой генерал М. Скобелев. На наш взгляд, в отношениях России с ведущими европейскими государствами некоторое время даже существовал достаточно серьёзный как бы «фактор генерала Скобелева». В чём он заключался, и каково было отношение Царя-Миротворца?
Звезда генерала Скобелева взошла и ярко засияла после его победной экспедиции в Среднюю Азию и особенно после взятия туркменской крепости Геок-Тепе. Этот «Карфаген пустыни» долго не уступали русским войскам, и он даже обрел славу неприступной твердыни. Скобелев, возглавлявший решающую военную экспедицию против туркменов, прекрасно соединял высокую степень организованности наступления (вплоть до прокладки железной дороги) с чисто суворовскими решительностью и отвагой. Победа была достигнута, и слава едва не суворовского сияния осияла полководца. И эта слава, очевидно, всерьёз встревожила императорский Двор и принесла немалую досаду и самому императору. И она была тем ощутимей, что до царя, конечно, доходили весьма нелестные отзывы Скобелева о его военных способностях, без заметной славы проявившихся при боевых действиях в Болгарии. Скобелев ведь бывал до неприличия искренен, и его жесткие откровенные замечания сразу становились общеизвестными.
Более того, в высшем свете установилось устойчивое мнение, что доблестный генерал совершенно нетерпим к политике и к самой личности царя. Так барон Н. Врангель, вспоминая об этом, говорил, что «Скобелев Александра III презирал и ненавидел». Может быть, ведь и сам император не находил нужным скрывать своё нелестное мнение о полководце. И царь явно не желал ему оказывать больших почестей. Об этом, пожалуй, всего ярче говорил прием Скобелева после его возращения из Туркмении. Атмосфера всеобщего восторга перед героем Геок-Тепе была столь широкой и восхищенной, что ироничный князь Долгорукий произнес фразу, подлившую масла в огонь царской неприязни: «Это было словно возращение Бонапарта из Египта».
Император вместо проявления радости и признательности первый вопрос задал строго и буднично о состоянии дисциплины в экспедиционном корпусе Скобелева. И это уже являлось прямым проявлением императорского неудовольствия (ведь кто лучше самого царя мог знать о демократизме, доступности Скобелева и о свободных отношениях в его войсках!). Царь не проявил интереса к деталям экспедиции, и прием прошёл кратко, сухо и сдержано.
Горячего и до безрассудства отважного Скобелева это совершенно вывело из себя. Он обратился к бывшему при Александре II министру, графу М. Т. Лорис-Меликову, с крайне возмущенным рассказом об этом. Слушатель был выбран неслучайно, Лорис-Меликов в свете считался человеком, способным как на известный демократизм, так и на очень решительные поступки! (Покойный Александр II для борьбы с революционными непорядками в стране желал назначить его, ни много ни мало, а диктатором!)
Лорис-Меликов, человек наблюдательный, мог вполне убедиться в крайней возмущенности генерала и даже в его годности к неким протестным действиям. «Он меня даже не посадил!» – говорил Скобелев о минутах царского приема, и, продолжая разговор, вдруг перешел на очень крайние высказывания: «Дальше так идти нельзя… Всё, что Вы прикажете, я буду делать беспрекословно, я пойду на всё…» Конечно, после таких слов граф мысленно сделал вывод, что речь идет о возможности дворцового переворота. Он осмотрительно не продолжил обмена мыслями в эту сторону, но Скобелева это не озадачило и не остановило. Чувствуя в себе сильнейшие лидерские качества, он попытался найти понимание и поддержку военных кругов, где Александр III не пользовался значительным авторитетом.
Б. А. Костин в своём исследовании о Скобелеве замечал: «…весьма конкретные мысли высказал Скобелев об участии армии и коренных преобразованиях». «В революцию … стратегическую обстановку подготовляют политики, а нам, военным, в случае чего, предстоит только одна тактическая задача. А вопросы тактики… не предрешаются, а решаются во время самого боя…» Без сомнения, слухи о таких высказываниях (а, может быть, и сильно приукрашенные) доходили до резиденции императора, а это никак не могло смягчить отношение царя к полководцу.
А атмосфера всеобщего восхищения неблагостно влияла на славного генерала. В умном, хитром и отважном до безумия Скобелеве постепенно зрело убеждение в своей ежели не исключительности, то, несомненно, в своём высоком предназначении совершить какие-то решительные перемены в жизни российского государства. Многие современники предполагали: таким решительным шагом вполне может стать государственный переворот. И великосветская камарилья охотно подхватывала эти предположения и слухи и активно разносила их по столице. И в Москве, и в Петербурге в салонах много шептались о том, что Скобелев желает стать императором; что называться он будет Михаилом II; что даже назначен день коронации. (После таких «сведений» мог ли царствующий император относиться к Скобелеву с доверием и теплом?)
А, кстати, ожидание серьёзной активности со стороны Скобелева царило и в среде революционеров. С. М. Степняк-Кравчинский писал об этом: «Говорили, что либо в это время, либо несколько поздней смелый план дворцовой революции был задуман генералом Скобелевым». За этим следовали слова о серьёзной убежденности в том, что «способность Скобелева возглавить антиправительственное движение сомнению не подлежит».
Кажется, это была едва не всеобщая уверенность в тогдашнем великосветском обществе. И К. П. Победоносцев сразу же настоятельно посоветовал царю привлечь Скобелева к себе, дабы заранее устранить опасность от неразумных действий «отважного до безумия» генерала. Победоносцев писал императору: «Вы принадлежите не себе, а России и своему высокому служению. Хотя Скобелев и безнравственен, но он стал великой силой». Однако император на этот раз ничего не предпринял и Скобелев, глубоко недовольный, уехал за границу. Там он снова общался с Лорис-Меликовым, в обществе несдержанно отзывался о русской внешней политике, и всё это ещё более тревожило наше правительство.
Особенно неприятным стало известие о резком выступлении генерала на парижском банкете в ресторане Бореля, жестком, заостренном против немецких государств. За этим последовал не менее жесткий ответный демарш Австрии, добавивший недовольства Александру III. В светском обществе открыто говорили, что Скобелев действует, словно испанский генерал-заговорщик. Но действует совершенно открыто!
Русское правительство предложило Скобелеву отпуск, но этот отпуск генерал использовал самым нежелательным образом. На встрече с сербскими студентами он произнес речь, в которой заявил, что главный враг России и всего славянства – это Германия, и война с нею как неизбежна, так и необходима для спасения общеславянского дела!
Конечно, и вольные речи генерала в России, и особенно его выступления в Париже были невероятным (неслыханным!) превышением своих прав и полномочий. Его парижскую речь правительству пришлось срочно дезавуировать, а его самого вызвать домой через Голландию и Швецию, минуя немецкие земли. Его действия в Париже очень помешали официальной русской политике, и такие резкости необходимо было как-то сгладить. Высшее российское общество замерло в ожидании: какими будут действия императора относительно самовольника Скобелева?! И вот 7 марта 1882 года для него была назначена царская аудиенция. К сожалению, информация о ней была и остается очень ограниченной, её свидетелем был лишь только один из дежурных флигель-адъютантов. А придворные слухи оказались противоречивы и, может быть, не вполне надежными. Будто бы генерал вошел в царский кабинет со словами: «Несу повинную голову, русское сердце заговорило!» И встреча с царем, не в пример первой, продолжалась очень долго, они беседовали целых два часа. Кто бы знал о чём? Никто этого не знает… Но хорошо известно, что накануне этой встречи открылись интересные и отнюдь не простые международные перспективы. Князь Болгарии Александр Баттенберг обратился к Александру III с просьбой отпустить Скобелева в Болгарию, чтобы в этом юном государстве он стал военным министром. Император вежливо отказал правителю нового балканского государства, сказав, что Скобелев очень нужен России.
Чего больше было в этом отказе? Искреннего признания ценности прославленного генерала или же глубоких опасений о том, что, став военным министром, Скобелев втянет Болгарию и её соседей во всебалканскую войну с Турцией, в которую так или иначе придется вступить и России? Такие царские опасения были более чем вероятны. Скобелев, с его жаждой военной славы и с безумной отвагой, оказавшись в Болгарии, мог создавать немало серьёзных политических проблем. Да легко мог бы и возмечтать о болгарской короне, вот тогда уж балканская ситуация обрела бы самый угрожающий характер!
Но это – предположение. А беседа царя с генералом шла долгих два часа и, очевидно, была весьма содержательной. Можно полагать, что её участники как обсудили ряд важных вопросов, так и многое прояснили друг для друга, ибо Скобелев возвратился с аудиенции весьма оживленным и совершенно довольным долгой встречей. А отзывы влиятельных современников о той встрече кратки и противоречивы. Так министру Гирсу Скобелев будто бы сказал, что царь устроил ему «порядочную головомойку». А наблюдательный А. Витмер считал, что разговор был не только взаимно интересным, но примечателен и тем, что «талантливый честолюбец сумел увлечь миролюбивого государя своими взглядами на политику».
Так или иначе, но, должно быть, два эти человека обрели понимание друг друга, потому что в апреле того же года Скобелев снова имел аудиенцию у императора, и она вновь была долгой и благожелательной. Сестра генерала княгиня Белосельская-Белозерская писала брату: «Его Величество говорит о тебе с большим уважением… Император сказал более чем ясно, что рад всегда тебя видеть, когда ты этого захочешь…»
Казалось, что всё устраивается наилучшим образом, и можно верить в устойчивость добрых отношений. Но безвременная смерть Скобелева остановила развитие взаимопонимания и сотрудничества. И можно верить в полную искренность императора, в подлинность душевного сожаления, прозвучавшего в его письме родственникам, окрашенного истинной горестью: «Страшно поражен и огорчен внезапной смертью вашего брата. А потеря для русской армии трудно заменимая и, конечно, всем военным сильно оплакиваемая. Грустно, очень грустно терять столь полезных своему делу деятелей».
Мы полагаем, что эти слова были исполнены искренним глубоким сожалением и сочувствием. Да и могло ли быть иначе после долгих содержательных встреч императора с прославленным военачальником? Ведь у них были совершенно одинаковые политические ориентиры, оба в равной мере усматривали германскую опасность и оба не терпели германской агрессивности. «Проклятые пруссаки» были безусловными врагами как в глазах генерала, так и в глазах его самого талантливого полковника. Этих людей могла разобщать только степень остроты в отношении к международным проблемам. Царь занимал выжидательную позицию, всемерно укрепляя армию и флот, уверенный в успешности оборонительной войны, а Скобелев готов был вступить в бой с немцами хоть сейчас и даже начать его первым.
Скобелев относился к объединенной Германии не только как к главной геополитической опасности для России, но и как к особому феномену народно-государственной ментальности. Во время свой служебной командировки в Германию он пристально интересовался не только организационными и техническими вопросами, но и проявлениями чисто этнической народной психологии и сделал для себя, и для русских военных аналитиков ряд весьма глубоких и точных выводов о качествах германских вооруженных сил. Вот одно из них: «Дисциплина в германских войсках весьма строгая и, что главнее всего, она соответствует складу народных понятий и симпатий общества. Я позволю себе назвать германскую дисциплину врожденной народностью…» «Эта дисциплина не только наружная, но и проникающая всё существо как офицера, так и солдата, не есть продукт какой-либо системы, а результат совокупности современных народных понятий, которые в свою очередь суть последствия истории этого народа». Тут связь народа с армией!
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































