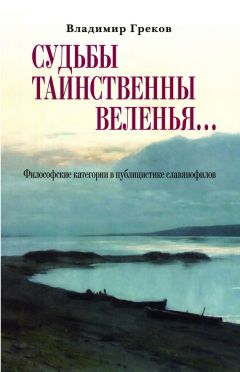
Автор книги: Владимир Греков
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 13 страниц)
Черкасский пытается понять, насколько закономерно было возникновение крепостного права. Вопрос об ограничениях права перехода крестьян и об отмене Юрьева дня интересует историка с точки зрения выработки определенного бытового порядка и юридических норм пользования землей и отношений между сословиями. По мнению Черкасского, свобода перехода крестьян в древней Руси сохранялась только как возможность перехода на новое место: крестьян перезывали из одной деревни в другую, от прежнего владельца к новому. Полную независимость крестьяне утратили уже давно. Все стеснительные меры князей были их собственными действиями, не вполне законными, своего рода «полицейскими мерами». Черкасский пишет: «Правительство явно стремилось к тому, чтобы по крайней мере в своих казенных волостях закрыть средства выхода крестьянам: оно обязывает своими жалованными грамотами частные лица не принимать к себе людей тяглых, письменных, и даже само в некоторых случаях обязуется не принимать крестьян владельческих на свои черные тяглые земли»[179]179
ЦИАМ. Ф. 31. Оп. 4. Д. 426. Л. 199. По свидетельству О. Трубецкой, цензура потребовала исключить это место из публикации. (См.: Трубецкая О. Материалы… T. 1. Кн. 1. С. 40, сноска 1).
[Закрыть]. Кажется, Черкасский на основании документов воскрешает народную память и показывает неуклонное, хотя и постепенное, подавление народных прав и свобод. Однако он видит и другую сторону проблемы – государственную, он сохраняет ее как часть общеисторической памяти и памяти власти. По мнению Черкасского, «органическим недостатком» Юрьева дня стало все возрастающее бродяжничество, превратившееся в серьезную государственную проблему. Второй недостаток этого обычая – его «внутренняя несостоятельность как юридического учреждения, к обеспечению крестьянских прав». В рассуждении Черкасского заметно соединение двух типов памяти, по-разному воспринимавших действительность. Но только из соединения этих двух видений и складывается объективная картина прошлого. Правительство не торопилось нарушить народный обычай: оно «приучало мало-по-малу народ к неизбежному исходу, но никогда не приносило многоценного успеха его в жертву излишней поспешности в нововведениях». Мы видим, как существовавшие обычаи и писаные законы постоянно нарушались и князьями, и самими крестьянами. Черкасский ищет причины, восстанавливает историческую истину во всей полноте. Говоря о предполагаемом решении Бориса Годунова окончательно отменить Юрьев день, публицист предполагает, что «внутренние причины разрушения» «древнего учреждения, свободного крестьянского отказа» скрываются в самом существе обычая. Иначе трудно объяснить «равнодушие народа к утраченному праву».
Итак, весь ход изложения убеждает: крепостное право на Руси не было случайностью или произволом власти, оно возникло как реакция на длительное запустение земли вздорожание крестьянского труда. Окончательное закрепощение при Петре было лишь завершением предшествующих событий. Однако славянофилы не упустили возможности показать, что наиболее безнравственные формы крепостничество приняло именно в правление Петра. В специальном примечании И. Аксаков подчеркивал, что купля-продажа крестьян возникла именно в царствование преобразователя, и он должен был специальным указом ограничивать продажу крестьян порознь, так как не мог добиться ее полного прекращения. Это примечание вызвало резкие возражения цензора, потребовавшего его снять. Более того, оно отсутствует и в посмертной публикации статьи в «Русском архиве».
Черкасский считал неизбежным и необходимым освобождение крестьян, но при этом предполагал обязательную компенсацию помещиков[180]180
Позднее, уже после реформы, Черкасский несколько изменил свою точку зрения и советовал облегчить выход из общины богатых крестьян. С одной стороны, это должно было бы повысить рентабельность помещичьего имения. С другой же – неизбежно повело бы к ускоренному разложению общины.
[Закрыть]. Более либеральных воззрений придерживался Кошелев, опубликовавший в 1847 г. статью «Охота пуще неволи». Он призывал помещиков полюбовно договариваться с крестьянами о размере надела, выкупа и повинностях. Кошелев достаточно откровенно говорит о положении крестьян, об их нищете, пьянстве, нежелании улучшать не только хозяйство, но и собственный быт. Причина в том, что они ни в чем не заинтересованы, крестьяне не видят смысла трудиться как следует. Потому что, в сущности, им ничего не принадлежит. Понимая, что работа поневоле неэффективна, Кошелев убеждает: «Одна привычка, одна восточная… лень удерживает нас в освобождении себя от крепостных людей. Почти все мы убеждены в превосходстве труда свободного перед барщинною работою, вольной услуги перед принужденною, а остаемся при худшем, зная лучшее. Многое можно сказать насчет невозможности превратить теперь наших крепостных крестьян в обязанных, но что удерживает нас всем дворовым людям, на основании указа 12 июня 1844 года, дать отпускные с заключением с ними обязательств?» После публикации статьи Кошелев, вероятно, послал письма своим друзьям, призывая их последовать своему примеру и урегулировать отношения с крестьянами. До нас дошел ответ на такое письмо, написанный П.В. Киреевским. Он пишет, что расходится с Кошелевым не в оценке крепостного права, а в «оценке лекарств против этой глубокой и страшной язвы». Его желание – заменить «беззащитность» крестьян «правдою закона». Он, разумеется, опасается произвола чиновников. В отличие от других славянофилов П. Киреевский считает, что народ пока еще не утратил способность к законности. Помочь же может только коренная правительственная реформа, сопряженная с реформой всех отношений, а не частные меры и старания отдельных лиц.
И. Аксаков в 1861 г., как несколько ранее Хомяков, воспринимал реформу глазами самого народа. Он увидел желание обмануть народ. Отсюда его негодование. Он соглашался с мнением крестьян, что народ считал землю своей, но отнятой насильственно. Народ смирялся с насилием, надеясь, что все же ему возвратят его законные права. Теперь же землю урезают, отнимают, желая, чтобы крестьяне согласились с этим новым обманом и признали его законным. По словам И. Аксакова, народ этого не признает, и правильно делает: «Теперь именно требуется народная санкция, а ее он (народ) не дает и был бы совершенной дрянью, если бы признал. Ты в письме к Черкасскому пишешь сам, что твои крестьяне верят и даже непременно пойдут по струнке, но в душе и про себя недовольны, несогласны. Безделица! Неудовольствие, про себя затаенное 232 миллионами народа, непременно даст себя знать и найдет выход… как же было не считаться заранее с требованиями народа, которые не сюрприз и которое мы все предвидели».
Мы видим здесь взгляд народа, осмысленный и выраженный внимательным наблюдателем. Однако не все славянофилы уже после реформы стояли на такой, народной, точке зрения. Скорее следует отметить, что в них возобладала память власти. Не теряя сочувствия к народу и сознавая его вековую обиду, славянофильские публицисты не всегда могли преодолеть собственный экономический интерес. А.И. Кошелев свидетельствует, что крестьяне не хотят работать, что обработка земли идет скверно. В Тульской губернии, и в имении Хомякова (уже к этому времени умершего), и в имении А.И. Кошелева происходят крестьянские волнения. Причем в имении Кошелева, первым публично заговорившего о возможности и необходимости урегулирования крепостных отношений, волнения были наиболее сильными, пришлось даже вызывать инвалидную команду. В письме самого Кошелева чувствуются и раздражение, и недовольство собой, и недовольство положением 19 февраля, и разочарование в поведении народа. «Власть помещика уничтожена, а новых властей нет <…> Нет, дражайший князь! Я был, есть и буду за уничтожение крепостного состояния; но я был, есть и буду против Положения, в котором в виде насмешки говорится о добровольных отношениях и где регламентаризм донёльзя». Однако в отзыве Кошелева существенно и признание ошибок Положения 19 февраля, и смешение принципа добровольности и реальной регламентации отношений помещиков и крестьян. Рассказывая о ходе реформы в своих поместьях, Кошелев постоянно жаловался на крестьян и считал, что в настоящий момент страдающей стороной оказались не крестьяне, а помещики, поскольку «крестьяне прекрасно поняли все, что в их пользу; и никак не хотят понять, что в пользу помещиков».
Характерно, что члены Редакционных комиссий Черкасский и Самарин, выступая за более жесткое применение Положения, в целом считали его правильным и не драматизировали ситуацию. В их письмах чувствуется даже больше сочувствия народу, чем в письмах Кошелева. Однако, признавая резоны, подсказываемые им «народной памятью», они не собирались проводить реформу так, как хотелось бы народу, напротив, они защищали прежде всего интересы помещиков. Сами они объясняли это двумя причинами – необходимостью порядка и сохранения экономического равновесия в стране. Еще при подготовке реформы Самарин писал Кошелеву о невозможности одномоментного выкупа крестьянской земли государством: последствием этого мог стать финансовый кризис. Он считал необходимым предоставить землю крестьянам в бессрочное пользование с тем, чтобы вернуть часть ее, отданную сейчас взамен крестьянских платежей, позже, когда ее ценность увеличится. Таким образом, право помещиков на владение землей оказывалось выше права крестьян на пользование ей. Черкасский призывал своих друзей к терпению, напоминая о «старых обидах» крестьян.
Наиболее жесткую позицию занял Самарин. Он одобрил расстрел в селе Бездна, виновником назвал Антона Петрова, руководившего выступлением крестьян. Об этом он писал Кошелеву 18 мая 1861 г. и такую же точку зрения занял и в письме к Герцену 8 августа 1861 г. Самарин называл Антона Петрова мошенником, потому что тот утаил истинное содержание Манифеста от крестьян и в то же время «вычитал в Положении то, чего в нем нет»[181]181
Русь. 1883. № 2. С. 62.
[Закрыть]. Рассказывая об обмане крестьян в Николаевском уезде Самарской губернии, которых помещики за год до реформы выгнали на солончаки, Самарин, хотя и называет это «оргией крепостного права», все же встает на сторону помещиков. Ведь они формально правы: закон запрещал пересматривать отношения, сложившиеся к моменту реформы, и возвращаться к прежнему землепользованию.
Исторические разыскания, подтверждающие оригинальность и самостоятельность русской истории, упомянутые Хомяковым в его статье «О старом и новом», были поиском не только документов, но и старинных книг, рукописей, народных песен. Песни собирали А.С. Пушкин, Н.М. Языков, особенно же отличился в этом П.В. Киреевский. Собранные им народные песни, однако, с трудом преодолевали цензурные барьеры. В 1852 г. в первом томе «Московского сборника» печатаются шесть песен из его собрания. В обширном предисловии к ним А.С. Хомяков излагает свой взгляд на народную поэзию. При общей высокой оценке народной поэзии вообще, Хомяков все же называет народную поэзию Европы «археологической», «бесполезной», неспособной стать частью современной художественной жизни. Напротив, народные русские (и славянские) песни он считает драгоценным приобретением не только для истории, но и для современной словесности. Он пишет: «Язык немецкий и французский не примет уже в себя новых животворных стихий на языке Труверов или поэм о Гудруне; мысль не получит нового настроения; быт не освежится и не окрепнет… все сказочные или исторические песни о богатырях или героях Германии, все Миннезингеры и певцы городские принадлежат к тому же разряду приобретений, к которому относятся камни Ниневии, гиероглифы долго безмолвствовавшего Египта, утешительные для ученого, поучительные для пытливого ума, почти и можно даже сказать вполне бесполезные для бытового человека. Иное дело Археология в землях Славянских. Тут она явилась силою живою и плодотворною; тут пробудила она много сердечных сочувствий, которые до тех пор не были сознаны и глохли в мертвом забвении, возобновила много источников, занесенных и засыпанных чужеземными наносами. Чех и Словак, Хорват и Серб почувствовали себя родными братьями – славянами; с радостным удивлением видели они, что чем далее углублялись в древность, тем более сближались они друг с другом и в характере памятников, и в языке, и в обычаях. Какая-то память общей жизни укрепляла и оживляла много страдавшие поколения: какая-то теплота общего гнезда согревала сердца, охладевшие в разъединенном быте».
Фольклорные, сказочные истоки народного сознания представляют для Хомякова интерес и литературный, и исторический, и жизненный. В песнях он (как и другие славянофилы) ищет следы общей славянской жизни, философии, убеждений, верований. Прошлое важно не потому, что оно древнее, освященное веками, а потому, что оно раскрывает тайну славянского предназначения. Эта тайна такая же поэтическая, как и тайна религиозная. Национальное и вселенское переплетаются, по мысли славянофилов, в народной поэзии. Хомяков убежден, что «вера Православная была первою воспитательницей молодых племен Славянских, и что отступничество от нее нанесло первый и самый жестокий удар их народной самобытности». Но есть еще один аспект народной старины. Важный не для народа, а только для образованных сословий. Для них это постижение народной жизни, преодоление разрыва с народом и собственной «безродности». Хомяков пишет: «Мы, люди образованные, оторвавшись от прошедшего, лишили себя прошедшего; мы приобрели себе какое-то искусственное безродство, грустное право на сердечный холод: но теперь грамоты, сказки, песни языком своим, содержанием, чувством пробуждают в нас заглохнувшие силы: они уясняют наши понятия и расширяют нашу мысль; они выводят нас из нашего безродного сиротства, указывая на прошедшее, которым можно утешаться, и на настоящее, которое можно любить. Обрадованное сердце, долго черствевшее в холодном уединении, выходит будто из какого-то мрака на вольный свет, на Божий мир, на широкий простор земли родной, на какое-то бесконечное море, в котором ему хотелось бы почувствовать себя живою струею. Благодаренье археологической науке и ее труженикам!».[182]182
Московский сборник. М., 1852. T. 1. С. 318–321.
[Закрыть]
Итак, значение западного фольклора – политическое и историческое, русская же народная поэзия дает примеры «общей жизни», она важна в психологическом и нравственном отношении.
Не все приняли точку зрения Хомякова. Рецензент «Современника» увидел в заметках Хомякова умаление современной литературы и доказывал, что все предисловие «клонится» к суждению о превосходстве народных песен перед современной литературой. Хомякову приписывается убеждение в том, что «изучение русских старинных песен может принести гораздо более пользы русскому языку, чем принесли ему труды филологов и усилия даровитых и даже гениальных писателей»[183]183
Современник. 1852. T. XXXIII. № 5. Библиография. С. 15.
[Закрыть].
Хомяков не занимался специально исследованием фольклора, собиранием народных песен. Но он, как П. Киреевский, К. Аксаков, пытался понять то, что сам народ о себе думает. За историческим образом, за художественной красотой песен, за правдой и выдумкой народных сказок требовалось разглядеть призвание, миссию народа. Эта миссия становилась понятной только при знакомстве с народным бытом и народной поэзией. К. Аксаков, представляя читателям свою статью о богатырях великого князя Владимира, точнее, о киевском былинном цикле, открыто признается, что необходимо приблизить к себе, «оживить» народное слово. Воспринимаемое современным поколением, это «многомощное», по определению К. Аксакова, слово отчуждено от сознания образованного общества.
Прежде всего, его надо пересказать, наполнить им свои чувства, и только потом, пережив эти слова, можно думать о том, как применить их к современности. С самого начала изучения народных песен собиратели пытались найти спрятанную в них тайну русской жизни. К. Аксаков не исключение. Однако он начинает с выявления тайны формы, тайны самого русского стиха. Оказывается, стихотворная речь в обыденной жизни русского человека не полностью отделена от прозаической. Это связано с особенностями русского мышления.
«Наша русская песня (т<о> е<сть> народная) не есть определенное стихотворение и не имеет определенного метра, отделяющего ее от прозы. Между русскою прозою и русским стихом нет ярко проведенного рубежа, как то встречается у других народов. Отдельной, заранее готовой стихотворной формы, в которую можно было бы отливать слова, – нет у нас. Слово само должно отделяться от обыденной речи непоэтической, называемой прозою, и давать себе прямую гармоническую форму <…> Поэтому нельзя найти ровных рамок для русской песни, поэтому нельзя писать русскими стихами (хотя это выражение употребляется писателями), ибо заранее известных форм этих стихов не существует. Надо в самом деле одушевиться гармонией мысли и слова, в самом деле стать поэтом на ту минуту, и слово примет гармонический изящный стихотворный вид; без того поэтическое слово человеку не дастся»[184]184
Аксаков К.С. Богатыри времен великого князя Владимира по русским песням // Аксаков К.С., Аксаков И.С. Лит. критика. М., 1981. С. 90–91.
[Закрыть]. Итак, мы имеем поэтическое слово, но не имеем стихотворной, т. е. поэтической формы, которой давно обладают все другие народы.
Однако задача создания такой адекватной формы и не ставится – вероятно потому, что это означало бы сближение, подражание другим народам. Чтобы стать поэтом (и чтобы поверить этому поэту), надо почувствовать сродство слова и одушевляющей его мысли.
Но не значит ли это каждый раз тяжелый труд создания собственно поэтической формы начинать с чистого листа, заново?
Аксаков считает, что это цена выразительности, непредсказуемости и обаяния русского поэтического слова. Между прочим, слова о «гармонии мысли и слова» насторожили цензуру, они отчеркнуты в рукописи, и на полях поставлен вопросительный знак[185]185
ЦИАМ. Л. 61.
[Закрыть].
Аксаков предупреждает, что пишет не о реальном, историческом князе Владимире, а о былинном, сказочном. Такой взгляд позволяет, по его мнению, показать сказочный мир как подтекст, как мир, создающий условия для реального существования народа.
Иначе говоря, это мир первопричин, условий, мир, создающий сами мысли и образы человека. Публицисту важно показать, как создается образ, модель мира в сознании русского человека. А для этого проследить за ходом самосознания народа – «как взглянул на человека или дело народ, что поразило народную память и воображение».[186]186
Аксаков К.С. Богатыри… // Аксаков К. С., Аксаков И. С. Там же. С. 90.
[Закрыть]
Цензор И. Снегирев, сам изучавший фольклор, все же оставил на полях рукописи довольно примечательное замечание, вероятно, с целью убедить высшие инстанции, что он обратил на это место внимание и не нашел в нем никакой крамолы. «Под словом “сказочном” надо, кажется мне, разуметь рассказ (повествовательный), живущий в преданиях сих событий, а поэтому я в слове сем не вижу ничего предосудительного». Красная отметка сделана Моек. Ценз. Комитетом».[187]187
ЦИАМ. Л. 60. Второй том «Московского сборника на 1852 год» предстояло после проверки Московским цензурным комитетом отправить в Петербург, в Главное управление цензуры. Этим и объясняется излишняя осторожность И. Снегирева.
[Закрыть]
Следует отметить, что трактовка Снегирева на самом деле не совпадала с собственным высказыванием Аксакова. Несколько далее публицист обращает внимание, что песни скреплены не единством событий, а «единством жизни». Место великого события в этом эпическом сказании занимает сам народ, со своими взглядами, интересами, духовной жизнью. Но это возможно только в том случае, если народ предназначен к какой-то великой цели, миссии, если ему дано свыше некое предназначение, воздействующее на его подсознание, но еще не оформившееся, смутно угадываемое разумом. Аксаков выводит русский песенный мир из-под власти… времени, замыкает его в самом себе, но одновременно распространяет его во все части света, во все стороны. Он пишет: «Мы не видим в ней могущественно движущегося вперед события, не видим увлекающего хода времени; нет, – перед нами другой образ, образ жизни, волнующейся сама в себе и не стремящейся в какую-нибудь одну сторону; это хоровод, движущийся согласно и стройно, – праздничный, полный веселья, образ русской общины»[188]188
Аксаков И.С. Богатыри… // Аксаков К.С., Аксаков И.С. Там же. С. 93.
[Закрыть]. Гармония «русского мира» не исключает волнений, это общность не статическая, а движущаяся, но «согласно и гармонично». Таков в его представлении хоровод, такова русская община. Впрочем, вполне возможно, что главные события русской жизни просто еще впереди. На это намекают чуть дальше слова о предстоящем нравственном подвиге: «далеко еще не кончились подвиги русской силы; не только материальные, но и нравственные подвиги предлежат ей»[189]189
Там же. С. 94.
[Закрыть].
Эпическая модель мира, создаваемая К. Аксаковым, обладает противоположными чертами. Во-первых, это мир самодостаточный, замкнутый сам на себе. Но он же, во-вторых, принципиально разомкнут в будущее, ожидая исполнения нравственного подвига. В-третьих, это мир гармоничный, но не созидаемый всякий раз заново, не признающий заранее раз и навсегда установленных правил творчества/творения. Так своеобразие русской жизни прослеживается на уровне эпоса – т. е. народного подсознания, первоосновы русской жизни. Непредсказуемость развертывания эпоса, отсутствие стандартных правил для творчества, например для стихосложения, – все эти рассуждения развивают концепцию «невыразимого», сложившуюся у любомудров и заимствованную славянофилами.
Наиболее подробно свои представления об эпосе, эпическом созерцании и эпической жизни К. Аксаков развил еще в 1842 г. в статье о «Мертвых душах» Гоголя.
Приступая к анализу «Мертвых душ» в статье «Несколько слов о поэме Гоголя: «Похождения Чичикова, или Мертвые души», К. Аксаков пытается разгадать скрытую и непостижимую «тайну русской жизни». Но он ищет ее не в содержании, а в самом методе Гоголя, в «эпическом созерцании», которое он находит в поэме. Складывается впечатление, что тайна гоголевской поэзии для К. Аксакова равнозначна тайне русской жизни или по меньшей мере воспринимается как нечто взаимосвязанное. И не потому, что Гоголь показывает скрытые «пружины» или механизмы русской жизни. А потому, что поэма выстрадана и создана, по мнению критика, любовью к России, любовью к русскому человеку и болью за него. Тайна Гоголя, тайна русской жизни – тайна русской души. К ней-то и обращается К. Аксаков.
Содержание, тайна русской жизни – все это, разумеется, образы, художественные понятия. Какое же историческое содержание вкладывал в них критик? В конце поэмы любовь Чичикова к быстрой езде совпадает с субстанциональным народным чувством, «и здесь тотчас это общее народное чувство, возникнув, связало его с целым народом, скрыло его, так сказать; здесь Чичиков, тоже русский, исчезает, поглощается, сливаясь с народом в этом общем всему ему чувстве. Пыль от дороги поднялась и скрыла его; не видать, кто скачет, – видна одна несущаяся тройка. И когда здесь, в конце первой части, коснулся Гоголь общего субстанциального чувства русского, то вся сущность (субстанция) русского народа, тронутая им, поднялась колоссально, сохраняя свою связь с образом, ее возбудившим. Здесь проникает наружу и видится Русь, лежащая, думаем мы, тайным содержанием всей его поэмы. И какие эти строки, что дышит в них тайна “Мертвых душ” в изображении общей жизни»[190]190
Аксаков И.С., Аксаков К.С. Литературная критика. С. 145
[Закрыть]. Но остановимся и спросим себя: в чем же здесь тайна? Почему «Мертвые души» воскрешают в памяти К. Аксакова эпическую традицию? Эпический мир, и Аксаков хорошо это понимал, не знал идеи развития. Это был мир с совершенными или несовершенными, но стабильными законами. Тогда при чем здесь образы быстрой езды, движения? Порыва души, нравственного прогресса? Поэтому движение понимается Аксаковым как порыв, как желание, неосуществленное и, возможно, неосуществимое. Движение само заключает в себе свою тайну, оно не имеет цели, конечного пункта. В таком случае непонятно, почему движение представляет собой искомый национальный порыв, субстанциональное национальное чувство. Но противоречия на самом деле в суждении К. Аксакова нет. Он специально оговаривается, что «древний эпос», воскресающий, как ему представляется, в «Мертвых душах», предстает как «явление в высшей степени свободное и современное».
Такое понимание эпоса снимает тесные ограничения. Аксаков с самого начала настаивает, что нельзя ставить знак равенства между «Мертвыми душами» и «Илиадой», речь идет не о жанре даже, а об отношении художника к изображаемому, о методе, о характере творчества, если выражаться языком нынешних исследований. Однако эпос предполагает «общую жизнь», «единство духа, отражает и пробуждает заботы о проблемах всемирно-исторических. Таков ли интерес, пробуждаемый героями «Мертвых душ»? Да ведь и сам Аксаков признает «мелочность предыдущих лиц и отношений на Руси», но считает, что эта мелочность не исключает, а сопутствует, помогает выявлению вечного в самой жизни. В этом и заключается тайна Гоголя, тайна нового эпоса, тайна искусства. С одной стороны, жизнь погружена в мелочи, детали, состоит из пустяков. С другой, Гоголь постоянно напоминает о вечности, об истинных ценностях. Их сочетание и создает то, что Аксаков называет «полнотой жизни». Полнота жизни – не универсальность и даже не сложность изображения, это, скорее, внутренняя завершенность, целостность. Действительно, по мнению Аксакова, Гоголь «не лишает лицо, отмеченное мелкостью, низостью, ни одного человеческого движения; все воображены в полноте жизни; на какой бы низкой степени не стояло лицо у Гоголя, вы всегда признаете в нем человека, своего брата, созданного по образу и подобию Божию».
Чтобы передать это, требовался особый подход, не обычное созерцание, а эпическая объективированность. Аксаков уподобляет «акт творчества» Гоголя «акту творчества» Гомера и Шекспира. Причем он настаивает на двойной исключительности изображения: Гоголя можно сравнивать только с Гомером и Шекспиром, если иметь в виду акт творчества. С другой стороны, только Гоголя и можно сравнивать с этими писателями именно потому, что он понял и перенял их эпическое созерцание.
Очевидно, акт творчества Гоголя потому и похож на гомеровский и шекспировский, что все три писателя обладают эпическим созерцанием. В своем «Объяснении» на статью Белинского К. Аксаков поясняет, как он понимает творчество. Это живость образов, их конкретность, полнота, наконец, «художническое беспристрастие». В то же время эпическое созерцание предполагает «целый полный, определенный мир, разумеется, с лежащим в нем глубоком значении, стройно предстающий»[191]191
Аксаков И.С., Аксаков К.С. Литературная критика. С. 143, 147..
[Закрыть]. Главные типологические признаки эпического созерцания – это именно полнота и совершенство изображения, умение «все видеть и во всем находить живую сторону». Поэт, перенесший в свое произведение полный и совершенный образ цветка, по мнению критика, выше, чем поэт, изобразивший человека, но не всего, а только какую-то его одну сторону. Загадка поэмы, загадка эпоса не в разрешении конфликта, не в сюжете, а в разрешении самого эпоса, самой поэмы. Поэтому-то К. Аксакова волнует, «как разовьется мир, пред нами являющийся, носящий в себе глубокое содержание»[192]192
Там же. С. 155, 144, 145.
[Закрыть].
Вот здесь и начинаются расхождения Аксакова с Белинским и Шевыревым. Разбирая «Мертвые души», Шевырев указывал на их уникальность: к Гоголю можно применять эстетические критерии, писать «эстетическую критику», несмотря на кажущуюся ущербность искусства. «Внешняя жизнь и содержание» поэмы если не противоречат, то находятся в «резкой и крайней противоположности с чудным миром искусства». Что же это за мир, и в самом ли деле он оказывается и жизненным, и поэтическим? Ведь в нем происходит столкновение несовместимых начал, а «положительная сторона жизни и творящая сила изящного» предстают в «разительной между собою борьбе». Однако сама эта борьба служит для критика лучшим доказательством его силы и его таланта. Гоголь сумел передать существенность русской жизни, заставляя читателя перейти от смеха к размышлениям: «По мере того, как вы сквозь смех и игру фантазии проникаете в глубь существенной жизни, вам становится грустно, и смех ваш переходит в тяжкую задумчивость, и в душе вашей возникают важные мысли о существенных основах русской жизни»[193]193
Шевырев С.П. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма Н.В. Гоголя. Статья 1. // Москвитянин. 1842. № 7. С. 209, 226.
[Закрыть].
Этому суждению уже противоречит мысль К. Аксакова об эпичности, т. е. изначальной цельности Гоголя, об органичности его поэтического мира. Критику важно было подчеркнуть преемственность самого духа искусства, отношения художника к миру. Поэтому он не пишет подробно о содержании и отделяет вопрос о содержании от вопроса об акте творчества[194]194
Это ограничение вызывало замечание Белинского, считавшего содержание «мерилом» сравнения различных поэтов. Поэтому для Белинского вопрос о содержании выступает на первый план: «только содержание делает поэта мировым» (Белинский В.Г. Собр. соч.: В 9 т. М., 1979. Т. 5. С. 60).
[Закрыть]. Содержание, как и интерес «Мертвых душ», – это содержание и интерес поэмы.
После выхода брошюры К. Аксакова о «Мертвых душах» и его полемики с Белинским Гоголь высказал свое суждение. Он одобряет намерения, но не вполне доволен или даже вообще недоволен результатом, подчеркивая: «Разница страшная между диалектикою и письменным созданием». По существу, это упрек в преждевременности, в незрелости публикации «мыслей-ребенков», которые в своей основе, потенциально, могли бы быть вполне основательными. Приведем полностью слова Гоголя из его письма С.Т. Аксакову 6 (18) марта 1843 г. из Рима: «Константину Сергеевичу скажите, что я и не думал сердиться на него за брошюрку, напротив, в основании своем она замечательная вещь. Но разница страшная между диалектикою и письменным созданием, и горе тому, кто объявляет какую-нибудь замечательную мысль, если эта мысль – еще ребенок, не вызрела и не получила образа, видного всем, где бы всякое слово можно почти щупать пальцем. И вообще, чем глубже мысль, тем она может быть детственней самой мелкой мысли»[195]195
Гоголь Н.В. Переписка: В 2 т. М., 1988. Т. 2. С. 45.
[Закрыть]. Воспринимая слова Гоголя как неодобрение (хотя и мягкое) К. Аксакова, исследователи тем самым автоматически предполагают, что Аксаков недосказал, не до конца высказал свою концепцию, что его понимание было неадекватно гоголевскому. В чем же была несвоевременность статьи? А.Д. Синявский высказывает свое предположение: «Не Аксакову, но поэме еще надлежало созреть до Гомера. Общий же курс и подход были выбраны правильно. Гоголь в “Мертвых душах” пробовал на новой основе возродить древний эпос»[196]196
Терц А. (Синявский А.Д.) В тени Гоголя. С. 535, 536.
[Закрыть]. Критик же невзначай «выболтал» тайну, еще до того, как она воплотилась в художественное слово.
Итак, К. Аксаков попытался угадать «художественное слово» еще до того, как оно было произнесено. Белинский же расслышал это слово иначе и решил, что все уже сказано. Потому и начал полемику со своим бывшим другом.
К. Аксаков воспринял «Мертвые души» как эпическую модель мира и уподобил ее гомеровской. Утверждая, что в поэме Гоголя этот древний эпос воскресает, Аксаков уточняет характер гоголевского созерцания в «Мертвых душах». Принципиально для него, что в поэме обнаруживается «целое», т. е. «глубокое, внутри лежащее содержание общей жизни, связующей единым духом все свои явления»[197]197
Аксаков К.С. Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвые души» // Аксаков И.С., Аксаков К.С. Литературная критика. М., 1981. С. 142.
[Закрыть]. Различия между античностью и новым временем проводятся не только по принципу гармоничности – дисгармоничности. Первопричина дисгармонии – рефлексия. Античный мир потому и слит с природой, целостен, гармоничен, что бессознателен. Новое искусство призывает к сознанию. Позднейшие теоретики рассматривали бессознательное искусство как народное, ибо в нем не отражалась индивидуальность. Напротив, искусство новое выступало как личностное, а следовательно и ненародное. Эту концепцию оспорил Хомяков, писавший в 1847 г., что античное искусство Гомера – «высшее художественное явление Греческой и, может быть, всемирной словесности – творения, носящие имя Гомера, были песнию народною». Смысл утверждений Хомякова в том, что ненародной поэзии не бывает. Он видел в искусстве отражение не всемирного и не индивидуального, а именно народного духа. «Художество <…> не есть произведение единичного духа, но произведение духа народного в одном каком-нибудь лице. Сохранение же имен в памяти народной или их забвение есть чистая случайность»[198]198
Хомяков А. С. О возможности русской художественной школы // Московский литературный и ученый сборник на 1847 г. М., 1848. С. 349, 351. Ср.: С.П. Шевырев писал в «Истории поэзии»: «Я желал бы уловить в слове народа тайную мысль его, центр всех его действий; я желал бы подслушать в его слове этот основной звук души, который взят им из глубины его и который он верно проводит в общей гармонии всего человечества. Всякий поэт истинный, поэт, понятый своим народом, непременно уловляет этот звук и за весь народ свой выражает в слове его душу». (Шевырев С.П. История поэзии. Чтения адъюнкта Московского университета Степана Шевырева. В 2 т. М., 1835. T. 1 С. 44.).
[Закрыть].
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































