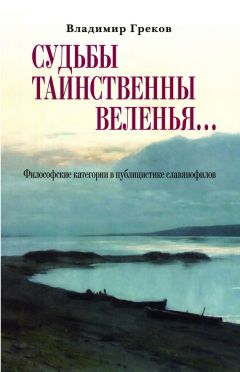
Автор книги: Владимир Греков
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц)
Отметим обращение к этой же теме, еще более близкое к замыслу Киреевского, в стихотворении Н.С. Гумилева «Баллада», вошедшем в поэму «Сказка о королях»[36]36
Включена в первый сборник Гумилева «Путь конквистадора», 1905 г. Стихотворение имеет еще одну редакцию, оно как самостоятельное помещено в сборнике «Романтические цветы». Ср.: в сб. «Романтические цветы» другая редакция, более близкая к Киреевскому: «Чтобы мог я спускаться в глубины пещер // И увидел небес молодое лицо». Благодарю Е.В. Спекторскую, обратившую мое внимание на аналогию между повестью Киреевского и стихотворением Гумилева.
[Закрыть]. Герой Гумилева получает в подарок от своего друга Люцифера пять коней и «одно золотое с рубином кольцо». Как и царь Нурредин, он попадает в другой мир, «на высоты сознанья». Точно так же он встречает там «деву больную как сон». Самое интересное, что дева ассоциируется у поэта с Луной и олицетворяет музыку:
Ее голос был тихим дрожаньем струны,
В ее взорах сплетались ответ и вопрос,
И я отдал кольцо этой деве Луны
За неверный оттенок разбросанных кос.
Он отдал все за мгновение, так же, как Нурредин, – и проиграл:
И смеясь надо мной, презирая меня,
Мои взоры одел Люцифер в полутьму,
Люцифер подарил мне шестого коня,
И Отчаянье было названье ему.
Мы не имеем сведений о знакомстве Гумилева с «Опалом», хотя обилие совпадений может рассматриваться как косвенное доказательство связи этих двух текстов. Гораздо интереснее совпадение условий их создания. Гумилев написал эти стихи после своего знакомства с А. Ахматовой в 1905 г. в Царском селе. И. Киреевский создавал «Опал» в 1830 г, после возвращения из заграничной поездки, в которой он должен был излечиться от несчастной любви к Н. П. Арбеневой (его сватовство в 1829 г. было отвергнуто). Но и тот и другой остались влюбленными рыцарями. Оба еще не знали, что женятся на своих избранницах. Итак, некоторое сходство житейских ситуаций налицо. Но главное все же не это. Главное – желание сохранить чувство даже после своего поражения. Парадоксально, что мечтателями становятся не добрые и доверчивые, а искушенные люди, пользующиеся реальной властью. Вместе с кольцом они отдают Деве самих себя.
Аналогично развивается повествование и в «Острове». Герой готов покинуть свой остров, прибежище гармонии и спокойствия, отказаться от юношеской любви ради призрачного счастья в большом мире. Это уже бегство из золотого века, отказ от идеи гармонии, по жанру – почти антиутопия. Опорными знаками в сотворении мифа здесь становятся не аллегории, а символы. Обратим внимание прежде всего на образ скалы. Это знак постоянства, твердости, цельности. Христианская традиция приписывает ему дополнительное значение – обиталище Бога. Во всяком случае, со скалой связывается представление о Божественном промысле. Однако в соединении с течением, водой, морем этот знак может быть прочитан и как знак опасности. Об этом же свидетельствует и превращение скалы в остров.
Юнг понимал остров как убежище в море опасностей, в море «бессознательного». Он называл этот архетип синтезом сознания и воли.[37]37
См.: Керлот Х.Э. Словарь символов. М., 1994. С. 370. Подробно этом см.: Jung С.G. «Psychology of the Transference». In The Practice of Psychotherapy. (Collected Works, 16) /London, 1954.
[Закрыть] Кроме того, символическое значение острова связано с такими понятиями, как одиночество, уединение, смерть. Разумеется, это только начало, точка рождения некоего мифа, содержание которого этими понятиями не исчерпывается. Жизнь обитателей острова автор называет необыкновенной. Она действительно подобие золотого века. «Земля была общая, труды совместные, деньги без обращения, роскошь неизвестна; а между тем вся образованность древней и новой Греции хранилась между жителями во всей глубине своей особенности <…> В их занятиях работа телесная сменялась умственною деятельностию <…> В семейном кругу глубокий мир и чистота. В воспитании детей развитие душевных сил без напряжений…»[38]38
Киреевский И.В. Поли. собр. соч.: В 2 т. М., 1911. Т. 2. С. 177.
[Закрыть]. Повседневная жизнь жителей острова подчинена религиозному служению, Абсолюту. С интересом, но и с удивлением наблюдали они из своего уединения за судьбой остальных народов «и с трепетом ожидали, не воскреснет ли Греция и не блеснет ли где-нибудь луч надежды на избавление христианства»[39]39
Там же. С. 176.
[Закрыть]. Все это превращало служение обитателей острова в некую мистерию. Как отмечают исследователи, «воспроизведение универсальной гармонии более высокого уровня в обычной жизни» и означало «воссоздание архетипического идеала».[40]40
Тираспольский Л. Золотой век. М., 1995. С. 94.
[Закрыть] На самом деле именно здесь и начинается миф, в том числе и миф о золотом веке.
Перед нами именно архетип, образ, интересный скорее логикой, чем живописностью или эмоциональностью. Гармония заключалась не в событиях, а в самодостаточности, в соответствии законам природы. И. Киреевский считает жизнь на острове внутренне напряженной и цельной, не в пример раздробленности и суетности европейцев. Причем цельность как раз и есть результат «возвращения человека к его собственным началам».[41]41
Ср.: Кереньи связывает возникновение мифа с поисками истока, с воссозданием изначального идеала, с построением собственного мира. «Воссоздать мир из той точки, вокруг которой и из которой организован сам “основыватель” и в которой он существует благодаря своему началу..-такова великая и важнейшая тема мифологии… С конструированием нового мира в миниатюре – образа микрокосма – мифологическое основывание переходит к действию: оно становится созиданием». (Юнг К. Шесть архетипов. С.21–22).
[Закрыть] Именно такой, цельной, виделась Киреевскому древняя Русь. Развитие наук и художеств, которого недоставало в древности, не подменяет нравственного совершенствования человека. Он не раз противопоставлял его в своих статьях внутреннему, христианскому. «Но это просвещение не блестящее, но глубокое; не роскошное, не материальное, имеющее целью удобства наружной жизни, но внутреннее, духовное, это устройство общественное, без самовластия и рабства, без благородных и подлых; эти обычаи вековые, без писаных кодексов, исходящие из церкви и крепкие согласием нравов с учением веры…» Каждое слово, каждая характеристика древнерусского просвещения, данная Киреевским в статье «В ответ А. С. Хомякову», применимы к жизни обитателей острова. В концепции Киреевского внутреннее знание раскрывает тайну и смысл мироздания, в то время как внешнее лишь объясняет его, и притом рационалистически. Однако интуиция не противопоставляется науке, а дополняет ее. Иначе и быть не может: ведь «духовным сердцем России», по словам Киреевского, стали монастыри, в которых «хранились все условия будущего самобытного просвещения».[42]42
Киреевский И.В. Критика и эстетика. С. 152.
[Закрыть] Точно так же духовным сердцем острова был монастырь Св. Георгия, собиравший книги, хранивший мудрость и т. п.
Киреевский творит миф. Он нарочито сухо, незаинтересованно, т. е. объективно, излагает необыкновенную историю острова как самую обыкновенную и неудивительную вещь. И тут же подчеркивает, что эта прозаическая повседневность наполнена для жителей острова неким поэтическим смыслом, постоянным ощущением значительности каждого дня их жизни. Прием Киреевского состоит в понимании поэтической отрешенности как материального объекта, как вещи. А. Ф. Лосев так описывает это прием: «…не поэтическую действительность сведем на обыденные факты, а эти последние поймем как поэтическую действительность – мы получаем тогда чудесную действительность, чудо. И это и будет мифом».[43]43
Лосев А.Ф. Диалектика мифа. // Лосев А.Ф. Из ранних произведений. М., 1990. С.570–571.
[Закрыть]
Миф интересен Киреевскому тем, что создает ситуацию выбора, позволяет проверить действенность и истинность жизненных начал. Жители острова сделали свой выбор, сотворили свой мир, т. е. иное царство. Архетип золотого века соединился в повести с архетипом иного царства. Но как и в рассуждении о цыганах, Киреевский старается проверить последовательность, цельность убеждений и поступков героев. Золотой век на острове связан еще и с тем, что жители не употребляют деньги. Но выясняется, что деньги они хранят. Отец Александра зарыл на острове сундук с сокровищами, половину которых отдает сыну, когда тот решается отправиться в большой мир. Зачем же он сохранил эти сокровища? Вопрос этот так и не задается в повести… Но ведь так и бывает в мифе. Не все поступки участников мистического действия понятны и объяснимы, не всегда раскрываются мотивы их поиска. Вот и Александра влечет что-то смутное, неясное. «…Древнее и новое было равно близко, сливаясь в одну нераздельную картину мира, в одну недослушанную сказку о царе земли»[44]44
Киреевский И.В. Поли. собр. соч.: В 2 т. М., 1911. Т. 2. С. 187
[Закрыть]. Отрекаясь от гармонии единичной, частной, Александр вовсе не отрекается от гармонии вообще. Он хочет служить царю земли и для этого пытается понять его замысел, уловить законы мировой гармонии. И. Киреевский находит интересное определение состояния Александра: «закон предустановленного разногласия души и жизни». Это разногласие он выразил в образе «духовного острова»: «впереди – камень, внутри – рай». В каждой душе можно найти такой остров.
Разногласие необходимо, поскольку без диссонанса гармония не может существовать. Диссонанс – необходимый спутник духовного перелома или испытания. Александр попадает в большой мир. Испытание начинается. Он снова должен выбирать свой путь… Также, как читатель, подвергающий сомнению миф о золотом веке.
Глава III
«Сознание, распавшееся на две стороны»
(Диалог и полифония в критике И. Киреевского)

Диалог рождается в дружеской беседе, в ученом размышлении, предполагающем интерес к собеседнику Диалог нуждается в свободе, в том числе в свободном желании узнать иную точку зрения. Кружок любомудров, в котором участвовал Иван Киреевский, воспитывал такую свободу Читая немецких философов, обсуждая свои собственные сочинения, члены кружка учились сравнивать разные точки зрения, доказывать свою позицию, опровергать оппонентов. Диалог выходит за рамки чисто стилистического, риторического приема и становится принципом организации материала. Свободная игра разума и душевных сил» (В. Котельников), в которой вначале проявлялось творческое начало Киреевского, предрасполагало к диалогу. В начале 1829 г. он едет в Германию, слушает лекции немецких философов и обсуждает их в письмах домой. Такое обсуждение приучало внимательно выслушать собеседника, понять его и только потом формулировать свои вопросы и выводы. Это, опять-таки, приближало к диалогу. Поэтому в первых же критических статьях И. Киреевского автор вступает в диалог и со своими предполагаемыми читателями, и с коллегами-критиками.
Иначе говоря, диалог нужен не для спора, не как формальный стилистический или ораторский прием, а как метод критического анализа и постижения текста. Диалог впервые вводит в публицистику Н.М. Карамзин (разговоры Филалета и Мелодора), в критике к нему прибегают Д.В. Веневитинов, Н.И. Надеждин, несколько позднее – В.Ф. Одоевский, С.Т. Аксаков, С.П. Шевырев, В.Г. Белинский. Диалог Киреевского несет в себе желание разобраться в разных точках зрения, сопоставить их, убедить читателя, а не навязать ему свою теорию. Однако же это было скорее исключением, чем правилом. Ведь литературная критика (как и публицистика в целом) обычно тяготеет к монологизму. Авторское слово и автор-ское мнение обычно не просто преобладают в тексте, становятся единственным приемом, единственным основанием, которое предлагается читателю, чтобы объяснить какое-то произведение. Автор критической статьи откровенно навязывает свое мнение, он возражает, а не спорит. Спор стал бы появлением в тексте «второго голоса». Однако то, что мы называем полемикой, часто оказывается за пределами текста критической статьи. Она реализуется во взаимодействии и противостоянии двух текстов – произведения и его критики. «Внутри» же критической статьи псевдодиалог приводит к развитию чисто риторических оборотов. В таких случаях полемика, даже в блестящих статьях А.С. Пушкина, приобретает форму «статьи-угрозы», «статьи-предостережения» («Торжество дружбы…», «Несколько слов о мизинце г-на Булгарина…» и т. и.). Вместе с тем, в критике и публицистике Пушкина встречается и другой, довольно редкий, по мнению Б.Ф. Егорова, жанр – «литературные параллели».[45]45
Егоров Б.Ф. О жанрах литературно-критических статей Пушкина // Болдинские чтения. Вып. 3. Горький, 1978. С. 54.
[Закрыть] Этот жанр предполагает своеобразный диалог, поскольку автор подробно пересказывает точку зрения оппонентов, дает им «слово», но зачастую только для того, чтобы опровергнуть их, спародировать или создать свою трактовку «чужого» текста. Диалог здесь снова оказывается приемом риторическим, он нужен для большей убедительности и для создания пародийного фона. Характерно, что нередко мы имеем дело со схемой произведение – критика – ответ на критику (антикритика), т. е. возникающий вне текста многосторонний полилог.
Два подхода к поэзии Пушкина рассматривает в своей критической статье и С.П. Шевырев. Он видит «два противоположные направления в поэзии». Для одного из них важна «жизнь человеческая» с ее характерами, происшествиями, поступками. Для другой – происшествия только средство, чтобы «внести в нее цели высокие, или сильные чувства». Задача Шевырева определить, к какой именно группе поэтов относится Пушкин и, соответственно, какие правила применимы к нему. Это также можно рассматривать как один из вариантов диалога. Шевырев признает, что оба подхода к поэзии правомерны, но считает, что к Пушкину применим только один из них[46]46
Московский вестник. 1827. № 1. С. 35.
[Закрыть].
Предоставляя возможность выбора из двух вариантов, критик, однако, не предполагает возможности иного решения, иного определения поэзии. И тем самым цель диалога Шевырева (как и диалога в античной литературе) ограничивается. Сопоставив черты поэзии Пушкина с требованиями каждого из двух направлений, критик вводит поэзию Пушкина в определенные эстетические границы и считает свою задачу выполненной. Собственно, анализ пушкинского творчества становится лишь иллюстрацией, применением уже установленных правил классификации к стихотворениям Пушкина. Такой же характер принимает и спор между Лицинием и Евгением о принципах и необходимости эстетического изучения литературы в статье Шевырева «Разговор о возможности найти единый закон для изящного».
В ранних статьях И.В. Киреевского мы также обнаруживаем желание молодого критика выявить истину. Показать ее рельефно, выпукло, так сказать со всех сторон. Впрочем, как мы увидим, для Киреевского скрытый диалог – способ объяснить, в чем, собственно, состоит заблуждение предшествующей критики. Поэтому по своим задачам он все же отличается от параллелей у Пушкина и от спора у Надеждина и Шевырева. Он пользуется скорее приемами «философского диалога». Его интересуют не столько лица, сколько идеи, истины, и потому он ближе к Карамзину. Тем не менее следует помнить, что, как справедливо заметил Ю.В. Манн, «русский философский диалог 20–30-х г. XIX века не знает «многоголосия»: в хоре спорящих у Веневитинова, Шевырева, Надеждина, Одоевского, Станкевича без труда можно выделить авторский голос. На его долю приходятся главные аргументы, сила убеждения, а нередко… и нравственная победа над противником»[47]47
Манн Ю.В. Русская философская эстетика. М., 1998. С. 207.
[Закрыть]. Философский диалог Киреевского во многом сохраняет все традиционные черты, однако его авторский голос не претендует на окончательное обладание истиной, он действительно на равных спорит с предполагаемым оппонентом, причем чаще всего не отвлеченным, а конкретным, реальным.
Вот как определял «философский разговор» Н.Ф. Кошанский: «исследование истины, в котором участвуют два или многие лица», причем содержание такого диалога – «истина, большею частию новая, подверженная сомнению, требующая раскрытия – объяснения».
Предупреждая известный вопрос «Что есть истина?», он поясняет: «Сия истина может быть философская, богословская, историческая, литературная…»[48]48
Кошанский Н.Ф. Частная риторика. СПб., 1832. С. 41.
[Закрыть]. Это важно, потому что именно эстетическую, художественную истину ищет Киреевский, анализируя произведения Пушкина и приводя различные точки зрения на них.
Диалог в его статьях не всегда обособлен, выделен как непосредственный разговор двух лиц. Чаще всего Киреевский ссылается на предшествовавшие высказывания критиков и комментирует их. (Это можно рассматривать как косвенный, непрямой разговор.) В данном случае нам важны как предмет анализа психологическая мотивация высказывания и психологические последствия использования такого «внутреннего диалога».
Еще К. Фослер показал, как «за грамматическими или формальными категориями скрываются психологические. Если в одном случае они… покрывают друг друга, то в других они опять расходятся».[49]49
Фослер К. Грамматические и психологические формы в языке // Проблемы литературной формы. Л., 1928. С. 152. К. Фослер имеет в виду грамматические категории, описывающие члены предложения: подлежащее, сказуемое и т. п., и их психологические «эквиваленты». Мы полагаем, что такая же параллель может существовать между стилистическими средствами, необходимыми для поддержания ораторского приемами (монолог, диалог) и создания образа на языковом уровне и собственно психологическими способами, применяемыми для этого на более высоком, смысловом, содержательном уровне.
[Закрыть] Зная это, мы можем говорить о психологических (а не только стилистических и риторических) особенностях диалога, о том, что Фослер называет душевным импульсом, который «появляется и действует в каждом отдельном случае у отдельной личности»[50]50
Фослер К. Грамматические и психологические формы в языке // Проблемы литературной формы. Л., 1928. С.156.
[Закрыть].
Нас будет интересовать именно психологическое наполнение диалогов в статьях Киреевского[51]51
Заметим, что в современных Киреевскому руководствах по риторике авторы часто затрагивали вопрос о «психологических началах» риторики. Так, по мнению А.И. Галича, это начала, «происходящие от влияния духовных сил человека на его слог» (Теория красноречия для всех видов прозаических сочинений, извлеченная из немецкой библиотеки словесных наук А. Галичем. СПб., 1830. С. 7). И далее: «Слог писателя всегда принимает физиономию души его» (Там же. СП). А.Г. Глаголев рассматривает словесность как «выражение различных действий души в формах языка». (Умозрительные и опытные основания словесности в IV частях А Глаголева, удостоенные Императорской Академиею Наук одной из Демидовских премий. 2-е изд. Ч. I. Общая или философская грамматика. СПб., 1845. С. 1). Таким образом, риторики и языковеды первой половины XIX века признавали важность разграничения и в то же время синтеза в художественном произведении языковых и психологических начал.
[Закрыть]. Поясним. Анализируя реальное содержание высказываний Киреевского, мы постоянно должны будем помнить о его намерениях, целях, сверять свои впечатления (и возможную реакцию читателей) с его побуждениями. Ведь, как утверждал Фослер, «психологические категории… устанавливают отношения между языковым мнением и его выражением и указывают не на действующую силу., а на пути ее проявления».
Особенно важным мы считаем утверждение Фослера, что «психологическая категория» охватывает не столько готовую, сколько лишь «предполагаемую совокупность языковых форм»[52]52
Фослер К. Там же. С. 161.
[Закрыть].
Ощущение двойственности текста Киреевского – не только как языкового, но и психологического феномена – заставляет и в диалоге его (и даже в первую очередь в диалоге) искать, соответственно, не только языковое, но и психологическое содержание, выходящее за формальные рамки текста. При этом в нашу задачу входит попытаться показать особенности и психологического содержания, и психологического восприятия текстов Киреевского. Иными словами, нас интересует психологическое наполнение критического метода Киреевского.
Заканчивая статью «Нечто о характере поэзии Пушкина», И. Киреевский в 1828 г. утверждал: «Пушкин рожден для драматического рода. Он слишком многосторонен, слишком объективен, чтобы быть лириком». Термин «объективный» еще кажется новым, непривычным для русского читателя, и потому в особой сноске автор как бы оправдывается: «Мы принуждены употреблять это выражение, покуда не имеем однозначительного на нашем языке». Отметим прежде всего, что Киреевский ставит объективность в один ряд с многосторонностью, воспринимает их как свойства взаимораскрывющиеся.
При этом «полнота изображения» противопоставляется «лирике» как искусству субъективному. Критик поясняет: «В каждой из его поэм заметно невольное стремление дать особенную жизнь отдельным частям, стремление, часто клонящееся ко вреду целого в творениях эпических, но необходимое, драгоценное для драматика»[53]53
Киреевский И.В. Критика и эстетика. М., 1979. С. 54.
[Закрыть]. Эпическое искусство, таким образом, требует, по мнению Киреевского, целостности, в то время как драматическое допускает большую степень свободы и самостоятельность «отдельных частей».
В философской эстетике понятия «драма» и «драматическое» означали высшую стадию, высшую степень искусства, примиряющего объективное и субъективное. Причем они не сводились к представлению о драме как о роде литературы. Напротив, в письме к А.И. Кошелеву в 1825 г. находил, что «все трагедии наши суть лирические». Настоящий период литературы (и русской, и европейской) воспринимался как исключительно лирический. Драматическая поэзия – дело будущего, ибо «в этой эпохе мысль будет в совершенном примирении с миром». Критик сравнивает предстоящий период с трагедией: в ней «равно будет действовать характер человека и сцепление обстоятельств»[54]54
Веневитинов Д,В. Полное собрание сочинений. М; Л., 1934. С. 304.
[Закрыть]. Выше мы уже говорили о том, что Одоевский выдвигал (и реализовал в «Русских ночах») идею «драматического целого». Предположение Одоевского о возможности «романтической драмы», более широкой, чем обыкновенный роман и обыкновенная драма, основано на уверенности в том, что «главным героем (такой драмы. – В. Г.) может быть не один человек, но мысль, естественно развивающаяся в бесчисленных разнообразных лицах»[55]55
Одоевский В.Ф. ОР РНБ. Ф. 539. On. 1. Пер. 13. Л. 14–15. Цит. по: Сахаров В.И. Движущаяся эстетика (Литературно-эстетические воззрения В.Ф. Одоевского) // Контекст 1981. Литературно-теоретические исследования. М., 1982. С. 215.
[Закрыть].
Кажется, что Киреевский, подтверждая новаторство Пушкина и его многогранность, беспорядочно, бессистемно перечисляет особенности драмы «Борис Годунов». Однако в этом перечне достоинств драмы заметна своя система, видна преемственность принципам немецкой философской школы.
На первое место Киреевский ставит изображение «характера века», подчеркивая ограниченность пространства и сюжета. Прием критика, как видим, не сводится к анализу стилистических или сюжетных особенностей трагедии. Объясняя характер века, Киреевский тем самым обращает внимание на совокупность бытового, стилистического и идеологического аспектов в трагедии. Киреевский показывает, как, выражаясь современным языком, «действующая сила» трагедии Пушкина проявляется в намеках, шепоте, умолчаниях и т. п., в массовых сценах. Киреевский (и в этом особенность его метода) пытается выявить «господствующую идею» Пушкина, которая бы и объяснила все происходящее. Фактически он старается обнаружить тот «душевный импульс», который и рождает «психологические категории» текста. На соответствие личности автора с характером века, т. е. времени, обратил внимание в своей рецензии, посвященной публикации сцены из «Бориса Годунова» в «Московском вестнике», и Д. В. Веневитинов. «Личность поэта не выступает ни на одну минуту: все делается так, как требуют дух века и характер действующих лиц». Веневитинов судил о трагедии по небольшому отрывку, Киреевский же читал весь текст драмы. Возможно поэтому ему удалось понять эту драму как драму идей, тогда как Веневитинов рассматривал ее как драму индивидуальностей, романтических необыкновенных личностей, первым оценив значение диалога. «Диалог раскрывает с первых слов противоположность между двумя характерами, так смело и глубоко задуманными. Вы слышите рассказ об убиении отрока Димитрия и уже угадываете необыкновенного человека, который скоро воспользуется именем несчастного царевича, чтобы потрясти всю Россию. Жажда смелых предприятий, порывистые страсти, которые со временем развернутся в душе Григория Отрепьева, – все это с поразительной правдой рисуется в словах его, обращенных к летописцу». Диалог важен Веневитинову как способ выявить противоречия противоположности характеров, но способ еще вполне романтический. Обращая внимание на сходство Пушкина с Байроном, Веневитинов писал о закономерности влияния английского барда. Это влияние чем-то напоминает диалог двух творцов: «необходимо, чтобы воздействие уже зрелой силы обнаружило пред ним самим, каким возбуждениям он доступен. Таким образом, приведутся в действие все пружины его души и подстрекнется его собственная энергия»[56]56
Веневитинов Д.В. Избранное. М., 1956. С. 219, 220.
[Закрыть].
Суждения Веневитинова опередили отзыв Киреевского, также увидевшего, что «лира Байрона» стала «голосом века» и отозвалась в поэзии Пушкина[57]57
Киреевский И.В. Критика и эстетика. С. 48.
[Закрыть].
Для Киреевского диалог уже не просто беседа и даже не столкновение характеров, это борьба идей, жизненных принципов, поиск смысла существования. Он думает, что «сближение с господствующим характером века» – признак необычный, ибо доказывает желание «воплотить поэзию в действительности» (курсив Киреевского. – В.Г.)[58]58
Там же. С. 63.
[Закрыть]. Но одного стремления мало. Нужно еще понимание, как достигнуть цели. Критические отзывы Киреевского как раз и построены на сопоставлении желаемого, возможного и осуществленного. Такое сближение и сопоставление уже само по себе обрекает на диалог, и потому должно изучаться именно как диалог, переместившийся на страницы собственных статей критика.
Мы можем выделить диалог Киреевского с предшествовавшими ему критиками, диалог с Пушкиным (рассмотрение намерений автора, его желаний и конечный результат его усилий), диалог с текстом (истолкование его общего смысла и отдельных особенностей), диалог с читателем (попытка доказать свою правоту). Все это пока еще не выходит за рамки риторического или стилистического восприятия диалога как языкового факта.
Возьмем, например, рассуждение Киреевского о пушкинских «Цыганах». Отметим прежде всего, что диалог между критиком и текстом, критиком и Пушкиным, критиком и читателем здесь (как и во всей статье) построен на выявлении различий. Определим различимые в диалоге реплики первого и второго рода. Первые охватывают суждения критиков пушкинской поэмы, вторые – суждения самих персонажей «Цыган». Однако Киреевский воспроизводит и те и другие мнения обобщенно, сжато до схематичности.[59]59
Аналогичная сжатость, схематичность и обобщенность при изложении суждений критиков характерна и для последующей статьи «Обозрение… 1831 года». О ней мы поговорим ниже.
[Закрыть] Так, например, он почти дословно повторяет слова Шевырева о «странной борьбе между идеальностью байроновскою и живописною народностью поэта русского»[60]60
Шевырев С.П. Обозрение русской словесности за 1827 год // Московский вестник. 1828. 4.7. № 1.С. 67.
[Закрыть]. Однако Киреевский показывает смысл этой борьбы, одушевленною поэзиею оригинальною».
Итак, в основе поэмы Киреевский обнаруживает противоречие между совершенством подробностей, деталей и несовершенством целого. Несмотря на это, он отмечает, что «характер Алеко, эпизоды и все части, отдельно взятые, так богаты поэтическими красотами, что если бы можно было, прочтя поэму, позабыть ее содержание и сохранить в душе память одного наслаждения, доставленного ею, то ее можно было бы назвать одним из лучших произведений Пушкина». Подобное гипотетическое (отчасти даже ироническое) разделение содержания поэмы и эстетического наслаждения от нее само по себе парадоксально. Но критику важно было заключение, сделанное им далее, о различии эстетического и действительного. Киреевский начинает с обозначения разницы между «чувством изящным» и «простым удовольствием». Это различие – в памяти, в способности восстановить и вновь пережить прочитанное «в последующие минуты воспоминания и отчета». Это отдаленное воспоминание, по мнению критика, даже сильнее первоначального. Причина противоречий – в борьбе «двух разногласных стремлений», самобытности и байронизма.[61]61
Киреевский И.В. Критика и эстетика. С. 50–51.
[Закрыть] Обращаясь к знакомых нам категориям – мечта, воображение, тайна, сердечное стремление, любовь, необыкновенное совершенство, недосказанное, неразвитое, – принадлежащим модели неопределенного эстетического познания, критик присоединяет к ним элементы, противоречащие первым: бедность, несправедливость, ревность, горести и т. п. Конечно же, Киреевский говорит о роли поэтического воображения, о читательской интерпретации событий. Но не только. Он имеет в виду способность поэта увидеть в действительности те элементы, которые можно будет развить в поэтическом творении. Это, как нам представляется, первые подступы к пониманию «поэзии действительности». Это осознание того, что в жизни есть семена, которые могут дать поэтические всходы. Пока никаких выводов из этого еще не делается. Но важно, что в первой же своей статье Киреевский делает шаг к будущей теории. Как критик-философ он больше всего внимания уделяет философской стороне поэм Пушкина, подчеркивая, что тот «часто отвлекается от предметов, чтоб жить в области мышления». Следовательно, и философия способствует сближению действительности и поэзии: поэт лишь «отвлекается» от предметов, от действительности, но не игнорирует ее. Рассуждения о неизбежности встречи Байрона и Пушкина, о влиянии первого приводят к философскому заключению о связи формы и содержания: «у истинных поэтов формы произведений не бывают случайными», форма неразрывна с содержанием, в представлении критика они «также слиты с духом целого, как тело с душою в произведениях Творца». Итак, форма произведения должна быть слитна с его духом. Но что подразумевается под словом «дух»? Только ли одно содержание? Или нечто большее? Скорее, это содержание, получившее обоснование в законах мироздания, в философии, в том, что принято называть «духом времени». Но если так, тогда Киреевский как бы неосознанно предвосхищает идеи Одоевского о спорах «духа времени» и «времени души». «Дух», с которым должна соединиться художественная форма, – это дух времени, истории, проникающий в творение автора. Но что этот дух из себя представляет, этого критик пока еще не знает и о соотношении его с миром персонажей только начинает задумываться.
В статье «Обозрение русской словесности за 1829 год» Киреевский подробно разбирает «Полтаву». Он снова обращается с вопросом – и к себе, и к своему читателю: «всегда ли поэт был верен своему направлению?» Направление Пушкина, как мы помним, – сближение мечты и действительности. Любопытно, как понимает критик поэтический метод Пушкина. Поэт, по выражению Киреевского, «переселил воображение в область существенности». Но он не сумел найти желанные ответы на все вопросы и даже «выступал иногда из круга действительности».
Однако самый «недостаток» Пушкина Киреевский окружает поэзией и сравнивает «Полтаву» с «арфой, у которой недостает еще нескольких струн, чтобы выразить все движения души». Указав на несовершенство Пушкина, неполноту воплощения мира в поэме, отступающей от начертанного идеала, Киреевский объясняет причину – «дума, противоречащая действительности». Опять мы встречаем указание на противоречие. Причем под думой Киреевский подразумевает «софизм о любви стариков» и романическую чувствительность Мазепы, узнающего хутор Кочубея. В этом также нет еще ничего необычного.
Но следующее замечание заставляет нас искать некий скрытый смысл в словах критика. Он находит иногда в поэме «порыв чувства, несогласного с тем шекспировским состоянием духа, в котором должен был находиться творец, чтобы смотреть на внешний мир как на полное отражение внутреннего».[62]62
Киреевский И.В. Критика и эстетика. С. 47.
[Закрыть]
Отношения между внутренним и внешним миром, отражение одного в другом, указание на противоречия – все это уже признаки внутреннего диалога, спора различных точек зрения, а не обычного обмена репликами и не разговора двух лиц. Что же значит здесь «шекспировское состояние духа»? Вообще, при чем здесь Шекспир? Вспомним, однако, что Пушкин в неопубликованном при его жизни черновом предисловии к «Борису Годунову» писал, что толчок к работе над драмой он получил, в частности, изучая Шекспира. «Шекспиру я подражал в его вольном и широком изображении характеров, в небрежном и простом составлении планов»[63]63
Пушкин А.С. Поли. собр. соч.: В 10 т. Л., 1978. Т. 7. С. 115.
[Закрыть]. В трагедиях Шекспира, которые он называл «народными», Пушкин видел образец для русского театра, поясняя: «Нашему театру приличны народные законы драмы шекспировой, а не придворный обычай трагедий Расина»[64]64
Там же. С. 115.
[Закрыть].
Почему же Киреевский, старавшийся понять замысел Пушкина, так резко отграничивал и «Полтаву», и «Бориса Годунова» от Шекспира? Он поясняет, что, если бы Пушкин, подобно Шекспиру, развил в драме мотив психологический, «если бы вместо русского монаха, который в темной келье произносит над Годуновым приговор судьбы и потомства, поэт представил нам шекспировых ведьм, или Мюльнерову волшебницу – цыганку, или пророческий сон… тогда… он был бы скорее понят и принят с большим восторгом»[65]65
Киреевский И.В. Критика и эстетика. С. 106.
[Закрыть].
Киреевский обращается здесь и к читателям, и к критике, раскрывая субъективность, предвзятость их отношения к Пушкину и его драме. Он рассчитывает на то, что читатель уловит «предполагаемое» им, поймет недосказанное: иронизируя над поверхностным, чисто сюжетным восприятием, критик как бы советует искать у Пушкина скрытое, подтекст.
Сцены, подобные перечисленным критиком, и впрямь часто встречаются в романтических произведениях. Киреевский же обосновывал иной взгляд на литературу, отмечая возникновение направления синтетического.
В статье «Девятнадцатый век» он писал о «поэзии жизни», о сближении жизни и поэзии, доказывая, что «час для поэта Жизни наступил».[66]66
Там же. С. 85.
[Закрыть] Именно это соображение и заставило Киреевского провести границу между трагедией Пушкина и Шекспиром. Между прочим, и Пушкин в предисловии (ранняя редакция) признавался, что ошибался, когда «полагал романтизм единственно пригодным для нашей сцены»[67]67
Пушкин А.С. Поли. собр. соч.: В 10 т. Т. 7. С. 534 (пер. с фр.).
[Закрыть]. Таким образом, Киреевский все же в своей интерпретации драмы приближается к пушкинскому.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































