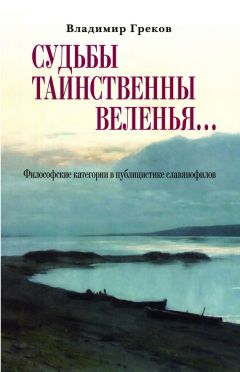
Автор книги: Владимир Греков
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 13 страниц)
Если в статьях Киреевского периода любомудрия синтез рассматривался как переход от бессознательного к сознанию, переход, в котором «безотчетная надежда» преодолевает байроновский скептицизм, отыскивая ростки (или «семена») будущего в настоящем, как своего рода середина, необходимая и для настоящего, и для будущего, т. е. процесс перехода к будущему, то в «Обозрении…» 1845 г. позиция публициста изменилась. И произошло это потому, что изменился характер времени, время приобрело синтетичность, поскольку объединило разные стремления и направления, противоречащие друг другу: новейшее, новое разрушительное и старое.
Можно ли определить если не результат, то хотя бы задачу, цель подобного синтеза времени? Статья отвечает на подобный вопрос. Смысл синтеза – в преодолении европейской односторонности, в понимании неудовлетворительности европейского просвещения. Киреевский ставит проблему сближения двух видов просвещения – европейского и православного, т. е. русского. Так как просвещение и составляет в основном содержание времени, определяет его характер и дух, то для сближения двух типов образованности требуется переход человечества на новую ступень развития. Киреевский замечает, что «на дне европейского просвещения в наше время все частные вопросы <…> сливаются в один <…> об отношении Запада к тому не замеченному до сих пор началу жизни, мышления и образованности, которое лежит в основании мира православно-славянского»[138]138
Киреевский И.В. Критика и эстетика. М., 1979. С. 172–175.
[Закрыть].
Задача оказывается тем труднее, что в образованности славянской, русской, не хватает упорядоченности, систематичности, господствует какой-то хаос понятий. Оказывается, русская образованность во многом заимствована с того же Запада, подражательна, она утратила связь с «коренными стихиями нашей умственной жизни». От категории времени публицист незаметно переходи к исследованию проблемы движения времени, исторического развития. Он показывает временной разрыв между началами, на которых создавалась «прежняя Россия», и современным литературным просвещением. Начала древнерусской жизни не соответствуют современной образованности, они оторваны от «успехов нашей умственной деятельности». С другой стороны, современное образование и современная литература не опираются на народные начала и оказываются несходными (если не противоречащими) с первоначальными убеждениями русских. Закономерен вопрос: что же вызвало такой необычный разрыв между старым и новым просвещением, что оторвало образованное общество от простого народа. Публицист уподобляет народное просвещение тяжелому экипажу, запряженному «гусем», у которого неожиданно лопнули передние постромки. Экипаж остановился, а форейтор ускакал вперед. Но это так и не объясняет, почему экипаж остановился, почему лопнули постромки.
В статье «В ответ А.С. Хомякову» Киреевский попытался разобраться, почему древнерусские начала не смогли развиться и уступили место чужой образованности. Ответ достаточно прямолинеен: во всем виновата ересь. Причина – в решениях Стоглавого собора. Церковная ересь породила «раздор духа», и поэтому прервалось прежнее гармоничное развитие. Отклонение от истины разрушило прежнюю духовную связь между людьми, и она вынужденно заменилась связью формальной, вещественной. Итак, искажение русской истории при таком понимании – случайное и непреднамеренное. Другое дело, что оно не выправилось и не исчезло. Время оказалось невластным над случайностью. В споре случайности и времени побеждает случайность, меняя не только течение, но и сам характер русской жизни.
Между тем в новой истории Европы Киреевский отмечает явление, до известной степени похожее на то, что произошло в древней Руси. Речь идет о «переломе» в европейском просвещении, замечаемом в середине XVIII в. Это перелом, разрыв между прежней жизнью и новой, отделяющий наследие античного мира от современности. Новое направление просвещения избавило Россию от необходимости восполнять недостаток античности. Вместе с тем оно увлекло образованное сословие, усилило разрыв между народом и верхними слоями общества. Нам представляется, что в концепции Киреевского разделению старого и нового просвещения Европы принадлежит существенная роль, – он окончательно разделяет прежние сословия, отрывает старую, древнерусскую образованность от новой. Такова логика исторического развития, если следовать в русле славянофильских теоретических построений. Вспомним, что в статье «Девятнадцатый век» он объяснял: «Просвещение народа зависит не от “суммы познаний”», а только от «участия его в просвещении всего человечества»[139]139
Киреевский И.В. Критика и эстетика. М., 1979. С. 97–98.
[Закрыть]. Если же русский народ приобщился к просвещению человечества только в середине XVIII в., то понятно, что все прежнее, не согласное с новым, отторгалось.
Завершая данный сюжет, необходимо сказать и о понимании времени в философской публицистике К. и И. Аксаковых. Хотя они и не писали о категории времени, не осмысляли жизнь или историю в терминах «дух времени» и «время души», проблему времени они считали весьма важной. Проще всего было бы показать понимание противоречий времени на примере отношения к Петровским реформам. Внимательное изучение проблемы выявляет, что отношение славянофилов ко времени было сложнее. Для Константина и Ивана Аксаковых характерно пространственное понимание времени. Так, К. Аксаков писал о том, что реформа Петра разделила Русь не хронологически, а пространственно. И. Аксаков в 1860-е гг. указывал, что народ понимает время как «тысячелетнее пространство»[140]140
Аксаков И.С. Поли. собр. соч.: В 7 т. М., 1887. Т. 5. С. 4.
[Закрыть].
В статьях И. и К. Аксаковых время наполняется историческим, конкретным содержанием. Конечно, неправильно было бы сказать, что в публицистике И. Киреевского такого содержания нет. Однако у Аксаковых время, сохраняя свое философское значение, изображается скорее как образ, причем образ, тяготеющий к символу. В 1857 г. в статье «Опыт синонимов: публика – народ» К. Аксаков касается вопроса о разнице временного существования публики (потерявшей связь с традицией и преданием дворянства) и народа. Само время делится на два периода: когда публики еще не было и когда она появилась. Хронологическая граница, обозначающая различие между двумя периодами времени, однако не столь существенна. Значительно серьезнее различие пространственное. Публика как бы «всплыла» над народом, она отказалась от народного быта, одежды и т. п. Хронологическая разница между двумя слоями некогда единого народного организма воспринимается скорее как разница дневного и ночного существования, чем как разница исторических эпох. За свою связь с Западом публика платит, между прочим, «временем, связью с народом и самою истиною мысли». Больше того, разделение дневной и ночной жизни приобретает сакральный характер: «Часто, когда публика едет на бал, народ идет ко всенощной; когда публика танцует, народ молится». Но есть и другой взгляд на различие публики и народа, взгляд со стороны вечности. К. Аксаков пишет: «Публике всего полтораста лет, а народу годов не сочтешь. Публика преходяща – народ вечен». Мы видим, что философская трактовка автора смещается в сторону противопоставления временного и непреходящего. Но истинное понимание недоступно публике. Подтверждением служат слова хожалого, которыми и заканчивается статья: «Публика вперед, народ назад»[141]141
Молва. 1857. № 36.
[Закрыть]. Это ведь целая философия веселья, пустого времяпрепровождения, превосходства высших над низшими. Вот ее-то К. Аксаков и опровергает. Причем он не первый, кто задумался над разницей быта народа и общества. Противофазовость светской и простонародной жизни Петербурга очень хорошо показана в 1-й главе «Евгения Онегина», в описании дня Онегина (строфы). Вслед за Аксаковым эту тему подхватил и Н.А. Некрасов. В «Размышлениях у парадного подъезда» (1859 г.) мы видим спящего вельможу и ходоков, дожидающихся его в передней. Словом, тема противостояния сословий во времени раскрывается К. Аксаковым как тема, связанная с грядущим России, и приобретает оттенок эсхатологический.
Почти одновременно с братом в 1859 г. в газете «Парус» к проблеме времени обратился и И. Аксаков. Для него в этот период время – категория прежде всего историческая, событийная. Время связано с такими понятиями, как свет, воздух, движение, свобода, или же, напротив, с ощущениями замкнутости, тесноты, лжи. Время, как и у других славянофильских публицистов, остается у И. Аксакова дихотомичным, организованным по признаку «было – стало». Посмотрим, как сравнивает автор недавнее прошлое и настоящее. Прошлое («было время…»): отсутствие воздуха, света, «жизнь притаилась и смолкла» – показано достаточно ясно. Но публицист создает запоминающуюся символическую картину Лжи, владычествующей над безмолвным миром: «…в пустынном мраке пировалась и величалась официальная ложь – одна – владычицею безмолвного простора». Время и здесь развертывается линейно, в ширину, а не в «глубину» истории, описывается в пространственных категориях. В отличие от Киреевского, И. Аксакова не волнует природа времени, его характеристика. Для него важно понять результат развертывания времени – застой или движение, гибель или развитие. Именно в таких терминах он и описывает состояние общества, восклицая о времени торжества Лжи: «Но ведь это время прошло! Или – мы еще не убедились, что постоянное лганье приводит общество к безнравственности, бессилию и гибели? Или – уроки истории пропали для нас даром?» Ложь как властелин, как владыка – образ не слишком оригинальный. Однако Аксаков показывает необычную способность лжи, способность, так сказать, «искривить» время, «замкнуть» его. Аксаков на другом уровне развивает мысль И. Киреевского о гибельном влиянии лжи на Церковь, народ и государство («Девятнадцатый век»). Вопрос же для славянофилов заключается в том, можно ли и как преодолеть эту замкнутость, ограниченность и неподвижность времени. Аксакову еще неясно, как решить поставленную задачу. Он просто констатирует, что и современность страдает теми же самыми болезнями. Время изменилось, а его содержание осталось прежним. Всякое движение, отмечает публицист, относительно. Любое движение вперед может оказаться движением вспять, а «цветущие зеленя» на полях – всходами сорняков. Нынешняя эпоха изображается в «Парусе» гротескно, с помощью образов путаницы, обиды, призрачности, недоразумения, бездорожья. «Все сделалось щекотливо и обидчиво до крайности. Раздраженные фантазии создают чудовищные призраки, которыми пугают и себя и других»[142]142
Парус. 1859. № 2.
[Закрыть]. На первый взгляд для испуга, тревоги нет никаких оснований – ведь прежнее «прошло». Почему же возникают призраки прошлого? Ведь, по выражению автора, «даже отсталые» поняли уже, что гласность и общественное мнение необходимы. Вспомним, что Ложь владычествовала в «безмолвном просторе», и тогда станет понятно, что после «долговременного шепота» самая невинная, самая простая речь, даже та, в справедливости которой несчастные, запуганные люди не сомневаются, – эта речь кажется крамольной, опасной и отдается в их сознании «раскатами грома». Но есть и другая причина: «слова у них в ушах отдаются как-то иначе». Мы имеем дело с изменением языкового кода, с возникновением в годы безмолвия и шепота, по существу, другого языка, основанного на других понятиях. Публицист не расшифровывает свой образ. Однако мы понимаем, что главное различие времени прежнего и нынешнего – именно в языке как таковом.
Оба образа – движения и призрачности – не раз используются Аксаковым и позднее в газете «День» (1861–1865 гг.), для характеристики преобразований и общественных изменений. Но тем самым Аксаков развивает, уточняет образ времени. Продолжая свои размышления о движении, Аксаков пишет в 1862 г.: «Слышится и чувствуется, что несемся с быстротою необычайною, несемся стремглав, всею тою необъятною громадою, которой имя – Россия, во всю ширь и глубь, <…> Но куда и как, где закон и предел движения, – никто не предугадает! Нет над ним власти человеческой!»[143]143
Аксаков И.С. Поли. собр. соч.: В 7 т. М., 1887. Т. 7. С. 421.
[Закрыть]. Здесь мы наблюдаем обратную картину: категория движения и атрибуты пространства (протяженность, направление) приписываются времени. Вопрос «куда?» относится, разумеется, не к географической, а к временной точке. Легко заметить и источник образов и вдохновения публициста – гоголевское описание дороги. Как и Гоголю, Аксакову в движении России видится что-т о загадочное. Одновременно манящее и страшное. Недаром же оно угадывается только по «быстрому мельканию»[144]144
Гоголь Н.В. Поли. собр. соч.: В 14 т. М., 1951. С. 246. Ср. у Гоголя: «Какое странное, и манящее, и несущее, и чудесное в слове: дорога!» (Там же. С. 221).
[Закрыть].
В статье «Русский прогресс и русская действительность» И. Аксаков обращается к образу форейтора, созданному еще И. Киреевским. Мы уже говорили о том, что этот образ характеризует не только просвещение Польши XVI–XVII вв., но и русское просвещение. Аксаков так раскрывает смысл образа: тяжелая колымага, застрявшая в грязи, – Русская земля, народ; форейтор, ускакавший далеко вперед на коне, – образованное общество, «мчащееся… верхом на цивилизации, подгоняющее ее татарскою нагайкою работы немецкого мастера, скачущее к прогрессу не столбовой дорогой, а какими-то особыми кривыми путями, вне всяких жизненных условий!». Фантастический образ «татарской нагайки работы немецкого мастера» объединяет разные, противоречащие друг другу времена. Аксаков следует за Гоголем, показавшим, как отклоняется человечество от прямого и ясного (здесь – столбового) пути на кривые и опасные тропы, ведущие в пропасть. Сравнивая «блудящие огоньки», которыми увлеклось общество («форейтор»), с «идеями века», публицист с горечью спрашивает: «Покуда форейторский конь, подгоняемый нагайкою, скачет по пути прогресса за идеями века, – что делается нами для народа, для его нравственного подъема?»[145]145
День, 1862, № 16, 27 января. С. 1–2.
[Закрыть]. Вот, по его мнению, единственный действительно важный вопрос. Он опять прибегает к противопоставлению временных фаз на примере противопоставления пространственного. На одном полюсе – Петербург, «богатейшая столица образованного мира», на другом – Олонецкая губерния. В Петербурге можно обнаружить признаки старости, присущие европейским цивилизациям, тогда как в Олонецкой губернии народ помнит и поет песни о временах князя Владимира. Вообще, в русской жизни замечается «страшное, невиданное сочетание ребяческой незрелости со всеми недугами дряхлой старости…»[146]146
Аксаков И.С. Поли. собр. соч. М., 1886. Т. 2. С. 5.
[Закрыть].
По мысли автора, народ, поющий такие песни, еще юн духом и готов к великим свершениям. Однако из этого же образа можно вывести и другое умозаключение. Если народ живет преданиями, значит, его возраст никак не меньше возраста Киевской Руси. Да и К. Аксаков говорил (в статье «Опыт синонимов…») о древности народа по сравнению с обществом. В чем же дело? Что имеется в виду? Народ юн не по своему возрасту, а по своим возможностям, по своей неиспорченности, тогда как образованное общество, испытав все прелести западной цивилизации, не нашло себя.
Аксаков пишет о разрыве цивилизационном, связывая его в проблемой исторического времени и пространства. Ход его мыслей можно понять, зная рассуждение А.С. Хомякова: «Образованный русский нашего времени <…> живет более в категории пространства, чем в категории времени. Он не только заботится о том, что делается далеко от него, но даже не заботится о том, что делается близко»[147]147
Хомяков А.С. Поли. собр. соч.: В 8 т. М., 1900. T. 1. С. 179.
[Закрыть].
Образ Аксакова ориентирован, конечно, на гоголевский образ «подтанцовывающих старушек» из повести «Сорочинская ярмарка». Гоголь создал тогда, по существу, образ «беременной смерти». Аксаков же показывает нам разлагающуюся, умирающую юность. Поэтому можно указать еще один источник публициста – описание стариков-младенцев и дряхлых юношей в апологе В.Ф. Одоевского «Старики, или остров Панхай».
Аксаков подчеркивает неприменимость привычных представлений о времени к историческому развитию и к положению современной России. «Мы по-прежнему считаем время годами, но переживаем в один год десятки этих урочных делений времени сравнительно с жизнью других народов» Совершающееся сейчас было бы немыслимо на полгода тому назад. У нас нет настоящего<…>мы стоим теперь в исключительных отношениях ко времени»[148]148
Аксаков И.С. Поли. собр. соч. Т. 7. С. 423.
[Закрыть]. Неравномерность течения, сложность структуры времени, его способность ускоряться и замедляться, создавать призраки и подобия – результат того, что публицист осознает одновременность, возможность параллельного существования временных потоков. Отсюда и символика живого и мертвого. Но эта символика, сама по себе непростая, усложняется за счет символики призраков и подобий. В самом деле, почему у России отсутствует настоящее? Только ли от того, что народ живет в прошлом, а общество – в будущем? Есть и другой ответ на поставленный нами вопрос. Настоящее подменено подобиями, населено призраками. В 1863 г. в статье «Все существует у нас – будто бы» Аксаков объясняет природу этого явления: «Все у нас будто бы есть, – а в сущности, нет ничего или очень мало. Все у нас существует будто бы; ничто не кажется серьезным, настоящим, а имеет вид чего-то временного, поддельного, показного… У нас есть очень либеральные учреждения, но <…> все либеральничало по форме и данному образцу, а плоды порождало, как доказывает признанная правительством необходимость преобразований, самые непригодные!»[149]149
«День», 1863, № 48, 30 ноября.
[Закрыть]. Завершая в 1865 г. издание газеты «День» в статье «По поводу первого выхода „Дня“ без цензуры издатель вновь обращается к теме подобий и показывает, что эти подобия постоянно окружают людей, подменяя настоящие, здравые понятия и суждения. Подобия – „толпа призраков, теней“, копирующих действительность, но не обладающих свойствами настоящего, реального объекта. Он повторяет слова, уже сказанные в статье „Все существует у нас – будто бы“: „Все у нас существует будто бы, ничего не кажется серьезным, настоящим, а имеет вид чего-то временного, поддельного, показного…“[150]150
Аксаков И.С. Там же. Т. 4. С. 349; Аксаков И.С. Где у нас ключ недоразумений? М., 2002. С. 413.
[Закрыть]. Формула Аксакова перекликается с давней статьей В.К. Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие». Кюхельбекер также пишет о призраках, подобиях, мнимости явлений. Однако у него это связано с романтизмом, он высмеивает романтические штампы, а И. Аксаков – современную публицистику, восторгающуюся переменами и преобразованиями. Впрочем, за его иронией встает достаточно серьезная и реальная проблема. Она указывает на то, что прежде не существовало даже подобий прессы, и надеется: «Хоть теперь явится настоящая журнальная деятельность!» Журнализм, журнальная деятельность принадлежат новой эпохе и потому имеют подобия. Но в данном случае публицист как-то снисходительнее относится к этому явлению. Предполагая, возможно, что «настоящая деятельность» как раз и начнется с подобий. «У нас, – утверждал Кюхельбекер, – все мечта и призрак, все мнится и кажется и чудится, все только будто бы, как бы, нечто, что-то…»[151]151
Кюхельбекер В.К. О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие // Мнемозина. 1824. Ч. 2. С. 36.
[Закрыть]. «Оба высказывания безусловно полемичны хотя конкретных адресатов ни в том, ни в другом случае назвать невозможно.
Еще одно замечание касается прямых параллелей между концептами «подобий» и «времени». Аксаков разделяет народную и ненародную культуру, противопоставляя эпоху древней Руси и современность. Критерием, водоразделом в данном случае служит существование «подобий». Самые страшные подобия – подобие правды, подобие жизни, «подобие самостоятельности у публицистов». «Пожалуй, – иронически замечает публицист, – явится скоро у нас подобие “народности” и подобие “политической свободы”». (Автор как будто забывает об «официальной народности», как раз и создавшей высмеиваемое подобие. Он относит будущие подобия, как нам кажется, к «либералам» и другим деятелям, у которых слова расходились с делом.) «В древней Руси, – продолжает автор, – не было никаких подобий, все было правдой, хотя бы самою некрасивой; в крестьянской Руси также нет подобия; нет желания казаться не тем, что она есть»[152]152
Аксаков И.С. Поли. собр. соч. М., 1886. Т. 4. С. 350.
[Закрыть]. Итак, на основе первоначального, родового представления о времени («архетипа») возникает несколько образов, связанных с историческим развитием России и Европы, с будущим и прошлым русского народа. Некоторые из них становятся в публицистических текстах символами. Таковы образ Лжи, образ колымаги, подобия, света, воздуха, свободы и т. и. Из всего рассмотренного становится понятно, что новые символы обладают не только художественной, но и научной составляющей, поэтому, превращаясь в стереотипы, становятся категориями славянофильской теории. На этих категориях (прежде еще символизированных) вырастают новые мифы – о рождении и возрождении древней Руси, о герое и антигерое, причем Петр попеременно оказывается то героем, то антигероем. Основной миф славянофильской публицистики – даже не миф о противостоянии Востока и Запада, России и Европы, а миф выбора судьбы. К этому мифу привлекаются и другие. В 1845 г. в статье «Речь Шеллинга», опубликованной в «Москвитянине», Киреевский рассматривал всеобщую связь явлений: философии мифологии и философии религии, философии искусства, философии истории, философии откровения. Киреевский считал, что мифология возникает одновременно с народом как искаженное, ложное понятие о религии. В мифологии выражается «общность сознания народа», причем на разных стадиях своего проявления. Вначале как языческая религия, потом в форме первобытного искусства, понятия об истории, христианского откровения, собственно философии, новейшего искусства и т. и. Киреевский пишет: «Судьба каждого народа заключается в его мифологии, и она именно есть его судьба. Возникновение различных мифологий, следовательно, современно возникновению различных народов. Это возникновение различий само уже предполагает первобытное единство, в котором они заключались.
Это единство не может опять быть народом, но только самим человечеством в его первобытной целости и нераздельности. Между тем первобытная нераздельность уже не может быть внешнею, но возможна только как внутреннее единство сознания»[153]153
Киреевский И.В. Критика и эстетика. С. 244.
[Закрыть]. Если следовать логике этих слов, Киреевский предсказывает предстоящее в неопределенном и далеком будущем объединение всего человечества. Первобытный синкретизм должен смениться синтезом, объединением, чаще рациональным и сознательным, но иногда – интуитивным. Связывая судьбу народа и его мифологию, публицист мечтает о грядущем объединении человечества, восстановлении его цельности. Мы понимаем, что синтез представляется не как механическое единство, а как «единство сознания». Это восхождение на «высшую ступень», приобретение нового качества, а не простое увеличение количества признаков. Вот, например, как сам Киреевский отзывается о перспективах народности: «Направление к народности истинно у нас как высшая ступень образованности, а не как душный провинциализм». Следовательно, предполагается объединить два типа просвещения – русское и европейское. В чем же цель такого объединения, если вспомнить об их изначальной противоположности? Киреевский поясняет, что синтез должен исправить ложные начала: подчинив их себе, следует передать западному просвещению «свой истинный смысл».
Категории «ложь», «истина» обычно связывались славянофилами со специфическим представлением о России и Западе, о православии и католицизме. Однако в «Обозрении современного состояния словесности» Киреевский дает нам редкий шанс понять его отношение к антиномии «ложь – истина». Публицист конечно осознает их противоположность, но, как это ни парадоксально, стремится сблизить понятия, ограничить значение и влияние лжи: «все ложное в основании своем есть истинное, только поставленное на чужое место: существенно ложного нет, как нет существенности во лжи». Поэтому европейское просвещение совместимо с русским, более того, его «ложность» нисколько не противоречит, по мнению Киреевского, «возможности его подчинения истине».
Истина и ложь рассматриваются именно как логические категории, а не как образы, в них отсутствует художественное начало, однако у этических понятий появляются провиденциальные, порой почти мистические обертоны. Вспомним образ Лжи, царицы и владычицы России, из передовой статьи И. Аксакова в «Парусе» 1858 г. Мы уже разбирали эту статью и указывали на превращение образа в символ. Аксаков не допускает сближения лжи и истины, но пишет о сбивчивости понятий, о существовании фальшивых подобий истины. Позднее, в 1860-е гг. в газете «День» Аксаков обсуждает альтернативные исторические возможности: можно ли и как возвратиться к народной жизни путем самосознания, смысл и значение возвращения на русский путь,[154]154
Аксаков И.С. Поли. собр. соч. Т. 4. С. 186–187.
[Закрыть] о необходимости духовного подвига для развития России, о «перевоспитании» русского общества в духе народности и т. и. Аксаков явно опирается на теоретические предположения Киреевского. Логические категории, превратившиеся в символы, становятся основой «координатной сетки» славянофильской теории. Логические категории возникают под влиянием мифологизированных архетипов, которые с течением времени застывают, сохраняя предание уже как штамп, как стереотип. В свою очередь, дальнейшее развитие теории приводит к оживлению мифологических представлений о русской истории и русской жизни. Переосмысливается сама роль истории, ее существо, ее ход. В результате возникают новые образы, иногда – новые мифы. Публицистика отыскивает исходные смыслы, пытаясь с их помощью по-новому взглянуть на «вечные истины».
На практике Аксаков приходит к тому же выводу, что и Киреевский: существует возможность исправления, возвращения к истине, или, по словам Киреевского, «подчинения» ей. По существу, и в статье Киреевского, и в статье И. Аксакова мифологема смерти и возрождения введена в непривычное для нее окружение, включена в общую концепцию славянофилов. Следовательно, смысл истории – борьба хаоса и космоса, ее содержание – поиск всемирной истины. Тем самым история приобретает характер мифологический. Но и для истории, и для мифа важными остаются представления о характере времени, о пространстве, в котором происходят исторические события или же воплощается миф. Причем мифология в данном случае понимается нами не так, как ее понимали сами славянофилы, не как воплощение естественной, первоначальной религии, а как раскрытие сакрального смысла исторических событий, их провиденциальности. В представлении Хомякова, «смысл всемирной истории» становится как бы синонимом воли Божественного промысла: «чтобы человечество, не понявшее христианства, пришло к пониманию собственной ошибки»[155]155
Хомяков А.С. О старом и новом. М., 1988. С. 203.
[Закрыть]. В таком случае история может быть только мистической, нести в себе эсхатологическую идею. Применительно к России эта идея превращалась в мессианскую. Предназначение России – стать «представительницею» западных народов «для целого мира» и научить тем истинам христианства, которые остальные народы не поняли или поняли не так правильно и глубоко, как русский[156]156
Там же. С. 69..
[Закрыть].
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































