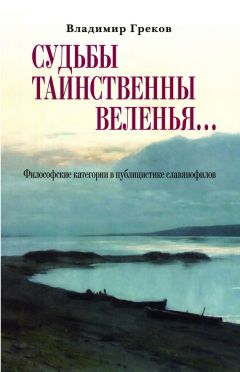
Автор книги: Владимир Греков
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 13 страниц)
Глава V
«…Участие… в просвещении всего человечества»

Историческая память целостна, она не распадается на память человека и память истории. И память, и история не изолированы, он нужны друг другу Вместе они и составляют культуру, ибо культура – это и есть память. Как считал Ю.М. Лотман, культура – ненаследственная память поколений. Эта память одновременно и целостна, и дробна, точнее, избирательна. Эта память не может быть постоянно всемирной, она опирается на память поколений (или даже одного поколения), живущего в конкретной стране, в конкретное время. Эта память по-своему целостна, она отражает историю поколения и историю народа. Но она – только часть общей, всемирной истории. В свою очередь, память поколения складывается из памяти отдельных общественных групп, литературных партий, кружков, религиозных и профессиональных организаций. Дробная по отношению ко всеобщему, эта память целостно выражает то, что произошло с конкретной «группой интересов». Можно наметить и другие ограничения памяти. Но при этом надо заметить: мы говорим об ограничении объема информации, а не о полноте самой памяти. Она вбирает в себя понимание жизни, образ действительности, но только на определенном уровне. В этом смысле можно выделить и такие типы памяти, как память власти и память народа. Память устная и память письменная, память текста. Память текста – не просто фиксированное устное мнение. Сама письменная речь предполагает последующее (или непосредственное, в момент создания) осмысление, рефлексию. Это может быть память документа, свидетельство очевидца, письмо, или, напротив, размышление в публицистической статье. Память власти может оказаться доминантной в сознании народа. И наоборот, память народа – очень живо и остро восприниматься сознанием образованного класса. Именно последнее мы наблюдаем в публицистике славянофилов. В ней как бы совместились две памяти, два сознания – народа и власти. Это, кстати, объясняет, каким образом К. Аксаков, никогда не владевший крестьянами, которого сам народ, после того как Константин одел зипун и мурмолку, принимал едва ли не за персиянина, мог почувствовать народную душу, прикоснуться к народной культуре. В 1857 г. в своей газете «Молва» К. Аксаков публикует статью, вроде бы чисто теоретическую, отвлеченную и никакого отношения к реальности не имеющую. Статья называлась «Опыт синонимов. Публика – народ». Это очередное видоизменение оппозиции «народ – власть». Можно сказать даже, что это изображение повседневной власти – чиновников, дворянства, взятое из памяти народа. Вот несколько положений из этой статьи. Прежде всего, «публика» – это испорченный народ. «Она образовалась очень просто: часть народа отказалась от русской жизни, языка и одежды и составила публику, которая и всплыла над поверхностью. Она-то, публика, и составляет нашу постоянную связь с Западом: выписывает оттуда всякие, и материальные и духовные, наряды, преклоняется пред ним как перед учителем, занимает у него мысли и чувства, платя за это огромною ценою: временем, связью с народом и самою истиною мысли. Публика является над народом как будто его привилегированное выражение; в самом же деле публика есть искажение идеи народа». Как мы видим, причина искажения – не столько в общении с Западом, сколько в слепом подражании ему, в преклонении перед ним как перед учителем. Это преклонение больше всего расстраивает и раздражает К. Аксакова, наполняет его строчки сарказмом. Публика лишена собственных чувств и мыслей или, по крайней мере, она о них забыла, раз заимствует все на Западе. Но для публициста недостаточно представить образцы мыслей публики и народа. Он ищет причины, заглядывает внутрь явления. «Публика является над народом как будто его привилегированное выражение; в самом же деле публика есть искажение идеи народа». Эту мысль Аксаков не мог найти ни в памяти народа, ни в памяти публики. Это его собственная точка зрения. Если додумать мысль до конца, то получится, что либо без публики можно обойтись, либо публике надо признать свою ошибку и измениться. И то и другое выглядит утопично. Однако публицист думает не о внешней реальности, а о самосознании народа. Вряд ли он всерьез рассчитывал изменить публику. Но вот на молодежь, тех, кто еще делает свой выбор, – на них он надеялся повлиять. Завершается статья гротескным образом: «Публика преходяща; народ вечен. И в публике есть золото и грязь, и в народе есть золото и грязь; но в публике грязь в золоте, в народе – золото в грязи». Опять нравственная сентенция, и на этот раз она, похоже, извлечена из народной памяти. Впрочем, К. Аксаков с этим мнением согласен. Однако же власть воспринимает статью как вызов. Она не желает напоминаний, не выносит света памяти. К. Аксаков получает высочайший выговор от самого императора Александра II. Беспамятство или искаженная память – вот то, что надо власти. Теряя память, государство теряло культуру. Отказываясь от культуры, власть отказывалась и от себя.
В России о народности первым заговорил Н.М. Карамзин. Если вначале в «Письмах русского путешественника», он рассматривал народность как служение общечеловеческому и общеевропейскому, то в статье «О любви к отечеству и народной гордости» он уже пишет о формировании духовного начала, духовного своеобразия русского мира, о необходимости самостоятельного развития и преодоления собственной отсталости. В «Записке о древней и новой России» он говорит, что народный дух «есть не что иное, как привязанность к нашему особенному, – не что иное, как уважение к своему народному достоинству <…> Любовь к Отечеству питается сими народными особенностями, безгрешными в глазах космополита, благотворными в глазах политика глубокомысленного. Просвещение достохвально, но в чем состоит оно? В знании нужного для благоденствия: художества, искусства, науки не имеют иной цены».
К проблеме народности обратился в 1825 г. и Пушкин. Возражая многочисленным ревнителям народности, усматривавшим ее в языке, в исторических сюжетах и происшествиях, Пушкин в неопубликованном при жизни наброске «О народности в литературе» очень четко объяснил, что «климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную физиономию, которая более или менее отражается в зеркале поэзии. Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу». Народность не исчерпывается одной формулой и одним качеством. Это именно то, что романтики называли «духом народа». Раскрывая содержание этого понятия, Пушкин пишет не только о внешнем (природа, география, история), но прежде всего о внутреннем – об образе мыслей. О чувствах – словом, о том, что составляет характер народа, его отличие от других. Правда, мы не находим здесь связи народности с мировой идеей, но ведь набросок не окончен, статья не завершена. Но спустя три года И.В. Киреевский в статье «Нечто о характере поэзии Пушкина» раскрывает свой взгляд на народность. Не теряя философской глубины, его рассуждение привлекает необыкновенной поэтичностью. Такое соединение философской точности и поэтической вольности необходимо для того, чтобы показать незавершенность самого процесса развития народности. В самом деле, можно ли дать точное определение народности, т. е. явления одновременно исторического, психологического, языкового, культурного, до тех пор, пока развитие народа не завершено вполне?
Поэтому задача не в исчерпании характеристик явления, а в отображении направления развития, в описании структуры явления. С этим Киреевский блестяще справился. «Мало быть поэтом, чтобы быть народным. Надо быть воспитанным… в средоточии своего народа, разделять надежды своего отечества, его стремление, его утраты, – словом, жить его жизнию и выражать его невольно, выражая себя». В позиции Киреевского можно отметить два ключевых момента. Во-первых, необходимость жить «в средоточии народа». Фактически Киреевский признает, что поэт не сливается с народом, что он как личность выделяется из него, но чувствует его дух, знает все события народной жизни и разделяет чувства народа. Во-вторых, он подчеркивает непроизвольность выражения народного духа через самовыражение поэта. Тем самым внимание читателя привлекается к проблеме невыразимого, неопределенного как необходимого условия поэзии. Возможно, Киреевский и в этом случае следует за эстетическими требованиями Шлегеля, искавшего высший род поэзии в «поэзии духа, находящейся в еще более высокой сфере божественного».[157]157
Шлегель Фр. Заключительная часть разговора о поэзии // Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика: В 2 томах. М, «Искусство», 1983. Т. 2. С. 333.
[Закрыть] Попробуем проследить за изменениями в понимании народности Киреевским. В период любомудрия он, как мы только что показали, отыскивает у Пушкина психологический эквивалент общей идеи, подчеркивает общность, родство поэта и народа. Эти наблюдения Киреевский почти без изменений приводит в 1845 г. в «Обозрении современного состояния литературы»[158]158
Ср.: «…что такое народ, если не совокупность убеждений, более или менее развитых в его нравах, в его обычаях, в его языке, в его понятиях сердечных и умственных, в его религиозных, общественных и личных отношениях, – одним словом, во всей полноте его жизни?» (Киреевский И.В. Критика. С. 183).
[Закрыть]. В статье «Девятнадцатый век» (1831) он обращается не к поэзии, а непосредственно к истории, переносит акцент на соответствие национального духа общемировому, на самобытном толковании этой идеи. Речь идет уже о содержании понятия «народность». Его волнует именно историческая память. Народность зависит от просвещения. Просвещение же – понятие историческое, связанное с развитием народа. Поэтому «просвещение каждого народа измеряется не суммою его познаний, не сомкнутым развитием его национальности <…> но единственно участием его в просвещении всего человечества». Киреевский боится просвещения «одинокого, китайски ограниченного», недоброжелательное отношение к заимствованию кажется ему неверным. «Если рассмотреть внимательно, то это самое стремление к национальности есть не что иное, как непонятое повторение мыслей чужих, мыслей европейских <…> но там это стремление имело свой смысл: там просвещение и национальность одно, ибо первое развилось из последней <…> Но у нас искать национального – значит искать необразованного; развивать его на счет европейских нововведений – значит изгонять просвещение, ибо, не имея достаточных элементов для внутреннего развития образованности, откуда возьмем мы ее, если не из Европы?» Итак, русская народность еще не имеет необходимых элементов для внутреннего развития. Киреевский объясняет это просто: России не коснулось влияние античного мира, которое создало Западную Европу С середины XVIII века это влияние становится все меньше, но разрыв между западным и восточным просвещением не исчез полностью. Только тесно взаимодействие с европейской культурой, получение новых знаний может помочь в развитии национальном. Однако приходится признать, что в этой статье Киреевский скорее завершает прежний этап своей системы. По-настоящему в его душу уже проникло разочарование. В августе 1830 г. он писал сестре, М.В. Киреевской, что ненавидит Германию как цепь, как тюрьму, и называет немцев деревянными. В 1839 г. в споре с Хомяковым он признает односторонность русского просвещения по сравнению с западным. Но эта односторонность имеет в его глазах преимущество: русский народ обладал духовным сокровищем, в русской жизни «собиралось и жило то устроительное начало знания, та философия христианства, которая одна может дать правильное основание наукам». Не произнося слова «народность», Киреевский все же рассуждает именно о народности. Теперь он находит, что русская народность, как и западная, может быть основана на просвещении. Если присмотреться к логике Киреевского, неожиданно видишь, что самобытность русского просвещения все же оказывается заимствованной, только не из Западной Европы, а из восточной Церкви. Формы византийского православия приняли на Руси самобытный характер и обусловили самобытность русской бытовой и социальной жизни. Русская народность теперь – отсутствие деления на властителей и рабов, благородных и подлых, вековые обычаи, переданные в учении церкви и сохраняющиеся в устной памяти народа. Так сама форма религии становится отличительной чертой просвещения России.
Религия формирует нравственность, нравственные начала способствуют появлению разумных элементов в социальной жизни. Что же представляет социальная жизнь древней Руси? По мнению Киреевского, это монастыри, хранители просветительских начал, это «образованные сельские приговоры», городские веча, наконец, «раздолье русской жизни». Источник сведений автора – недавние археологические и археографические открытия Строева, книги, рукописи и документы, только что отысканные и не всегда введенные в научный и общественный оборот. Но более всего он опирается на устное предание, т. е. фактически извлекает свои познания из глубины исторической памяти. Проблема, однако, заключается в том, сознавал ли народ действительно преимущества и отличия своего образа жизни и своей веры от остального мира? Киреевский признает, что все эти начала остались неразвитыми или же просто погибли. Причину он видит в разногласии сторонников древнего просвещения. В 1852 г. в программной статье «О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению в России» Киреевский перечисляет элементы, составляющие русскую самобытность, а следовательно, и русскую народность. Это племенная особенность, особая форма проникновения христианства, отличие также и в форме усвоения «образованности древнеклассического мира» (т. е. античности), наконец, в самой русской государственности. Православие, заимствованное из Византии, побудило народ, не теряя своей «физиономии», перейти на высшую степень развития, просветиться высшим сознанием. Православие направляет помыслы человека к внутреннему созерцанию, тогда как римская церковь озабочена была практической деятельностью. Для концепции Киреевского православие, конечно, необходимый, даже обязательный элемент. Но следует оговориться: православие здесь выступает как элемент народности. Потому что православная вера воспринята и усвоена народом, стала органической частью народного сознания, быта и веры. Нравственный аспект православия гораздо выше государственного, который здесь даже и не обсуждается.
Однако не все члены славянофильского кружка одинаково понимали народность. Суть их разногласий хорошо подметил Киреевский в письме «Московским друзьям» (1847): «понятие о народности <…> совершенно различно. Тот разумеет под этим словом один так наз. простой народ; другой ту идею народной особенности, которая выражается в нашей истории; третий те следы церковного устройства, которые остались в жизни и обычаях нашего народа и пр. и пр. Во всех этих понятиях есть нечто общее, есть и особенное. Принимая это особенное за общее, мы противоречим друг другу и мешаем правильному развитию, чтобы узнать историю».
Это суждение не было слепком с выводов немецких романтиков. Хомяков имел в виду другое: непостижимость народности как таковой. А это уже противоречило идеям романтиков. Хомяков писал, что, хорошо чувствуя разницу между разными национальными типами, уяснить ее, охарактеризовать невозможно. Но почему? Потому же, почему нельзя полностью описать сакральное явление: оно не поддается упрощению, не вписывается в логические схемы. В статье Хомякова «О возможности русской художественной школы» народность понимается как «жизненное начало, подчиняющее себе своею силою всякую другую мысль и всякую личность». Проблема народности в этой статье переносится на почву искусства. Искусство всегда приобретает характер особенный, национальный: «прекрасное одно, но выражение его различно по условиям места и времени». Это различие и рождает своеобразие, народность: «Художник не творит собственною своею силой: духовная сила народа творит в художнике. <…> всякое художество должно быть и не может не быть народным. Оно есть образ самосознающейся жизни». По мнению Хомякова, Россия не живет такой жизнью, и потому у нас существует «разрыв между жизнию и знанием». Русская художественная школа, русское искусство требует самосознания для своего возникновения и развития.
Позднее, формулируя свою теорию общества, И. Аксаков будет утверждать, что общество – народ самосознающий, т. е. что только самосознание открывает перед народом будущее. Хомяков преломляет эту же мысль, говоря об искусстве. Он признает в русском народе задатки «художественной будущности». Невозможность их реализовать, конечно, само по себе потеря. Но дело не только в искусстве. Оказывается, «народ, способный к художествам, не может лишиться иначе их развития, как утратив целость и здравие своей внутренней жизни». Так с проблемой народности связывается мотив забвения, исторической амнезии. Вспомним, что сама народность, сама особенность русской жизни зиждется на основе единства, о чем Хомяков неоднократно писал еще в статье «О старом и новом». Потеря цельности неизбежно ведет в этом случае к потере самой физиономии, самого характера народа. «Он обречен на бессилие в науке, также как и в искусстве»[159]159
Московский литературный и ученый сборник на 1847 год. М., 1847. С. 335, 323.
[Закрыть]. В этой фразе можно заметить зерно будущей дискуссии о народности в науке, развернувшейся в журнале «Русская беседа в 1856 г.». В статье «О старом и новом» Хомяков упрекал преобразования Петра в уклонении от «святых истин равенства, свободы и чистоты церковной», хотя соглашался, что все эти начала были только в зародыше, не развиты; потенция, историческая возможность придает публицисту уверенность в своей правоте. Он искренне считал возможным воскрешение древних народных начал. Но столь же искренне Чаадаев отрицал в «Апологии сумасшедшего» существование исторических начал в допетровской Руси. Оправдывая Петра, он писал: «Неужели вы думаете, что, если бы он нашел у своего народа богатую и плодотворную историю, живые предания и глубоко укоренившиеся учреждения, он не поколебался бы кинуть его в новую форму? Неужели вы думаете, что, будь пред ним резко очерченная, ярко выраженная народность, инстинкт организатора не заставил бы его, напротив, обратиться к этой самой народности за средствами, необходимыми для возрождения его страны?»
Несмотря на то, что тот же Хомяков называл древность «мнимой жизнью», он надеялся, что «лучшие инстинкты души русской», которые «произвели все хорошее, чем мы можем гордиться», способны к развитию и созданию современного общества»[160]160
Хомяков А.С. Сочинения: В 2 т. М., 1994. T. 1. С.460, 466.
[Закрыть]. Хомяков связывал вопрос о народности с выбором пути: возвратиться к народным идеалам и началам, если в них заключена сокровищница духовного и нравственного опыта, или же отвернуться от них и вспахивать пустырь, если народные начала ничего в себе не несут.
В статье о русской художественной школе Хомяков отвергает компромисс между двумя точками зрения. Он не предполагает синтеза, он ставит читателя перед выбором, ясно показывая, что это выбор между истинным и ложным. Примечательно, что главной русской бедой он считает рационализм, так распространенный на Западе. Рационализм вообще зло, в понимании славянофилов, но для России зло абсолютное, ибо противоречит русской природе.
Скажем еще об одной оппозиции Хомякова. Он признает, что художество, просвещение, народность основаны на личности, и в то же время отвергает западную теорию о двух фазах искусства – безличной, народной, и личностной. Как примирить это противоречие? Дело в том, что, говоря о личности, Хомяков имеет в виду не отдельную, индивидуальную личность, а личность народа. Именно эта личность народа и сказывается в личности каждого человека, придает ей значение и смысл. Поэмы Гомера с такой точки зрения «были песнею народною» и поэтому стали «высшим художественным явлением греческой и, может быть, всемирной словесности». Важно, чтобы народ принял поэта как своего, понял и сочувствовал красоте, заключенной в художественном творении.
Это уже проникновение не столько в народную память, сколько в народное сознание. Народность художника в том и заключается, что он начинает «выражать свободно и искренно… идеалы красоты, таящиеся в душе народной; ибо корень искусства есть любовь» Добавим: любовь для Хомякова – единственная возможность воссоединения образованного класса и простого народа, любовь, заставляющая не только уважать его личность и права. Сочувствовать его горю, но и переживать вместе с ним минуты радости[161]161
Московский литературный и ученый сборник на 1847 год. М., 1847. С. 333–336, 343, 349, 354–355.
[Закрыть].
По существу, Хомяков предлагает психологическими методами решить социальную проблему разрыва между сословиями. Он выступает за возвращение к «началам жизни уже утраченной», т. е. народной. Это возможно, так как народ продолжает жить непосредственной и цельной жизнью, раздвоение и разочарование коснулись только высших сословий. Итак, для будущего России необходимо восстановить утраченное единство жизни. Однако это представление исходит не из народной памяти, а из памяти, точнее, из сознания образованных сословий. Это не сознание власти, это мечущееся сознание интеллигенции.
Хомяков исходит из противопоставления «завоевания», «покорения», на котором основана западная цивилизация, и «призвания», мирного устроения жизни древнерусской. Об этой разнице не раз говорил и Киреевский. Однако Хомяков делает следующий шаг. Он разъясняет духовные последствия кажущегося ему несомненным исторического события: раздвоение на Западе и единство на Руси. Основа «римского определения единства», по Хомякову, – покорность. Но это «единство внешнее». Последствие такого единства – «отрицательная односторонность свободы в разномыслии». Накладываясь одна на другую, обе «односторонности» и «произвели общее отрицание». Не так было на Руси. Русское духовное начало основано на «внутреннем единстве», на «тождестве свободы и единства (свободы в единстве и единства в свободе)». Вот почему русская духовность не может принять западных начал.
Что же стоит за призывом к «слиянию», к «общению», за нравственным требованием «любви» к народу? Хомяков не предполагает (во всяком случае, в статье о художественной школе) преобразований политических. Но он уверен: «Для того, чтобы оживилась наука, быт и художество, чтобы из соединения знания и жизни возникло просвещение, мы должны, сознавая собственное свое бессилие и собственные нужды, слиться с жизнию Русской земли, не пренебрегая даже мелочами обычая и, так сказать, обрядным единством, как средством к достижению единства истинного и еще более, как видимым его образом». Путь, указываемый Хомяковым, – путь не столько исторический, сколько религиозный. Именно бытовое, обрядное сближение с верой в начале предлагается для сближения «невидимыми» силами веры, для укрепления вновь обращаемого человека. Для жизни исторической этого все же недостаточно, ибо она заключена не в одной религии. Более того, Хомяков как бы забывает, что и у народа могут быть недостатки, что не все стороны народной жизни приемлемы в будущей России. Возможно, Хомяков считал эти опасения преждевременными до тех пор, пока искомое единство не будет восстановлено. Но на практике «одностороннее сближение с Западом» предлагалось заменить не менее односторонним сближением с народом.
Незавершенный разговор о народности продолжился в «Русской беседе». Публикуя программу нового журнала в «Московских ведомостях», издатели упомянули, что одна из задач «Беседы» – помогать выявлению и развитию народного, русского взгляда на науку и искусство. Этот тезис вызвал немедленную реплику «Московских ведомостей», написавших, что науки и искусства допускают только одно воззрение, общечеловеческое. В своем «Предисловии» к «Русской беседе» Хомяков также обещал пересмотреть «выводы, сделанные западною наукою, которым так безусловно мы верили», «подвергнуть все шаткое здание нашего просвещения бесстрастной критике наших собственных духовных начал и тем самым дать ему несокрушимую прочность». Остается не очень понятным, а главное – недоказанным, что рассмотрение с точки зрения русских начал будет действительно бесстрастным.
Ведь раньше Хомяков утверждал иное, ценил народные начала за их неизбежную субъективность, которая должна восполнить односторонность европейского подхода. Правда, он оговаривается, что необходимо «разумно усваивать себе всякий новый плод мысли западной», чтобы не отстать. Но это скорее оговорка по обязанности, чтобы отвести обвинения в ретроградстве и вражде к просвещению. Новый взгляд славянофилов на проблему раскрывается в статье Ю. Самарина «Два слова о народности в науке» и в статье К. Аксакова «О русском воззрении».
В статьях и письмах К. Аксакова и Ю. Самарина заметна та же тенденция – косвенная, скорее поэтическая, чем историческая, интуитивная, а не логическая картина русской народности.
Самарин, например, признавался в письме: «Все, что мы утверждаем о нашей истории, о нашем народе, об особенностях нашего прошедшего развития, все это не выведено, а угадано»[162]162
Самарин Ю.Ф. Собр. соч.: В 12 т. М., 1911. Т. 12. С.151.
[Закрыть]. Для К. Аксакова русская история приобретала «значение всемирной исповеди». Восторженное отношение к народу доходило до того, что он полагал, будто его история «может читаться как жития святых»[163]163
Аксаков И.С.Поли. Собр. соч. М., 1861. T. 1. С.625.
[Закрыть].
В «Русской беседе» читателям действительно предложен «исправленный» вариант концепции народности. Прежде всего, Самарин возражает против суждения о том, что законна только народность как «предмет постижения» как «объект науки», а любая попытка рассматривать ее как «свойство постигающей мысли» чревато «произволом» и «односторонностью воззрения». Критик опровергает такой взгляд, напоминая о том, что «совершенно то же говорилось и печаталось у нас еще недавно о художестве». Теперь, по мнению Самарина, такой подход «устарел» и «откинут». Он почему-то не вспоминает при этом, что в заметке «Московских ведомостей» содержится возражение против народности не только науки, но и искусства. Самарин утверждает законность разномыслия и противоположных начал в науке. «Не только в истории. Но и <…> в науке права, в философии, в политической экономии, встречаются на каждом шагу… резкие противоположности, которых корень – в различии точек зрения на один предмет, основных убеждений и природных сочувствий, на которых… воздвигается веками народное и личное просвещение»[164]164
Самарин Ю.Ф.Избранные произведения. М., 1998. С. 483–484, 486.
[Закрыть]. Самарин убежден, что односторонность, субъективность, привносимая народным воззрением в науку, преодолевается всей совокупностью науки, самим научным спором, столкновением мнений. Однако он не останавливается на этом. Наука всегда включает в себя такие понятия, как цель, идеал, ибо она развивается. «Закон человеческих стремлений в какой-либо области, верховный закон, которому они все они (ученые. – В. Г.) подчиняются, задача человеческого бытия – все эти понятия могут ли быть усвоены иначе, как в форме продолжительного учения, определяющего точку зрения мыслителя?». Самарин пишет о необходимости индивидуального воззрения в науке, об изначальной пристрастности исследования, пристрастности не в смысле заданности и искажения, а в смысле интереса к самому исследованию и к применимости его результатов. Поскольку у каждого исследователя и даже у каждого человека есть свое воззрение, «мнимое беспристрастие, общечеловечность и отрицательная свобода» в науке оборачиваются бессознательностью. Соглашаясь с первой частью его суждения, последнюю все же можно принять только с оговорками. Тем более требует осторожности последующее развитие этого высказывания: «Между мыслью, воспитанною в среде народности, и рядом исторических проявлений той же народности, на всемирном поприще существует более прямое и близкое родство, вследствие которого мысль преимущественно становится способною овладеть для науки именно теми явлениями, в которых она сама с собою встречается и узнает себя». Наибольшее сомнение вызывает здесь предположение о «преимуществе», которым в таком случае обладает мысль. Но для Самарина в этом и заключалось самое главное его открытие. Он поясняет: «Можно ли отрицать, что русскому, потому что он русский, и в той мере, в какой он русский, дух нашей истории, мотивы нашей поэзии, весь ход и настроение народной жизни откроется яснее и полнее, чем французу, хотя бы последний овладел вполне русским языком и такой массою материалов, какой никогда не располагал ни один русский ученый?». Кажется, здесь Самарин противоречит самому себе. Русский, воспитанный в европейском духе, имеет ли преимущество перед европейцем, проникнутым любовью к России? Самарин даже не задает этот вопрос. На самом деле, проблема в другом. Критик имеет в виду интуитивную способность, но приписывает ее даже не национальному духу, а всего лишь национальному происхождению.
Отвечая Самарину, Б.Н. Чичерин указывал, что для ученого важнее всего «факт и закон». Он должен уметь «отделить случайное от постоянного», чтобы понять закономерность, т. е. «внутреннюю сущность явлений». Что же касается «национального подхода», Чичерин его полностью отвергал: «Конечно, к ученым взглядам может примешиваться и чисто национальный элемент, но это именно та сторона, которая откидывается, как случайный нанос; остается же вечно и незыблемо одно общечеловеческое, потому что оно одно имеет характер истины». Чичерин настаивает: «Объективность понимания составляет необходимое условие истины даже при разработке собственной истории».[165]165
Чичерин Б.И. О народности в науке // Русский вестник. 1856. T. III. С. 65, 68, 63.
[Закрыть] Для Самарина чичеринское замечание свидетельствовало о полном непонимании его идей. Он-то как раз и полагал, что народное не противоречит объективной истине, но помогает ее установить, раздвинуть, по его выражению, «пределы общечеловеческого знания». Он признавал возможность пристрастия, односторонности, но в то же время думал, что сама народность будет способствовать «постепенному освобождению от пределов, ею же полагаемых». В конце статьи он специально уточняет, ограничивает «здравое понятие о народности» как «боязнью исключительности», так и «боязнью слепого подражания», предостерегая от смешения «золотой середины» и «крайностей». При всей своей добросовестности, оппонент Самарина этого пассажа не заметил и не оценил. Между тем Самарину было крайне важно показать непредвзятость и широту своей концепции. Он не предрекает конечного результата, «народность» – это один из элементов познания, элемент интуитивный, а значит, и непредсказуемый. «Народность есть больше, чем субъект мысли; сама мысль должна получить от нее свое образование: ибо, как в истории общечеловеческие начала появляются не иначе как в народной среде, так и в области науки мысль возводит эти начала в сознание через туже народную среду».
На его статью Самарин во 2-й книге «Беседы» отвечает возражением «О народном образовании». Третья его статья, «Замечания на заметки "Русского вестника” по вопросу о народности в науке», так и осталась при жизни неопубликованной. В своем ответе Чичерину он вновь связывает вопрос о народности с вопросом о признании разрыва между образованием и народной жизнью, построенной на иноземных основах. Он видит в народности «жизненное осуществление начал истинных», преодоление односторонних начал, внесенных в жизнь романо-германскими племенами. Эти начала он называет «относительно-ложными». В этом ответе акценты расставляются, пожалуй, более точно, чем ранее: «Для нас, как и для всех, цель составляет истина… вытекает, что народность для нас есть цель потому, что в настоящее время, вследствие всего воспитания нашего, мы стоим не на истинной, а на инородной точке зрения, мы приобщились к инородному взгляду на вещи».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































