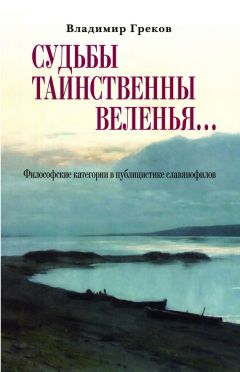
Автор книги: Владимир Греков
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц)
Замечания критиков о недостатках «Бориса Годунова» справедливы, если рассматривать трагедию как изображение характеров (Бориса или Самозванца) или как историческое произведение, описывающее век. Однако драматическое искусство имеет, по мнению Шлегеля, еще высшую цель, ибо она должна «не только «представить», но и «разрешить» задачу бытия[68]68
Там же. С. 318. Этому положению Шлегеля соответствует композиция «маленьких трагедий» Пушкина: «Скупой рыцарь» (I ступень) – «Каменный гость» (II ступень) – «Пир во время чумы» (III ступень). Пушкин вводит еще промежуточную ступень искусства и рока («Моцарт и Сальери»).
[Закрыть]. Пушкин же, по мнению Киреевского, представляет в драме следствия поступков Годунова и Отрепьева. Можно предположить, что Пушкин, отступая от Шекспира, все же не противоречит ему. Обращаясь к прошлому, он там ищет ответы на задачу бытия. Тем самым он, в соответствии с требованиями Шлегеля, поднимается на высшую ступень искусства.
В таком случае порыв чувства, противоречащего шекспировскому, который Киреевский находит у Пушкина, – скорее похвала, чем порицание. Впрочем, Киреевский не уточняет, приводит ли этот порыв Пушкина к чему-либо высшему. Правда, далее он отмечает в сценах поэмы (ближе к финалу) некое «противоречие истине»: «это сцена из Корнеля, вплетенная в трагедию Шекспира».
Киреевский отмечает в статье коренное противоречие Пушкина: «борение» двух начал – мечтательности и существенности. За их столкновением, борьбой должно последовать (и обычно следует у Пушкина) примирение[69]69
Киреевский И.В. Критика и эстетика. С. 64.
[Закрыть].
В терминологии Киреевского и философской критики 1820–1830-х годов примирение и означает синтез двух начал, т. е. снятие противоречий. Пушкину удалось создать новую форму драмы, передающую неравновесность, напряженность бытия. Киреевский называет последние произведения Пушкина «поэзией действительности», вероятно, полагая, что в них достигнуто более глубокое понимание сложной структуры мира.
В эстетической системе Киреевского две реальности: существует и противоречие, и синтез, но на разных уровнях. То, что при первом, хотя и внимательном прочтении, кажется ошибкой, противоречием, на более высоком уровне можно понять и объяснить иначе, увидеть в эпизоде не нарушение эстетических требований, а открытие новых закономерностей. Таков же и метод его критики: он сталкивает противоречия, противоположности не для того, чтобы выбрать один из предложенных вариантов, а с тем, чтобы предложить нечто иное, новое.
Логика Киреевского, как и логика Пушкина, не сразу открывается читателю. Вероятно, и сам Киреевский не сразу понял для себя и не сразу раскрыл читателю причины и смысл внутренних разногласий Пушкина. Склонность автора к диалогу проявляется на этот раз как диалог с самим собой. Поэтому то, что представлялось недостатком, получает другое объяснение и воспринимается как достижение. При этом меняется сам код критической мысли, а вместе с тем уточняются и эстетические требования. Обнаруживается, что недостаток исчезает, как только читатель отходит от стереотипа. Восхождение к новым образам, ценностям, использование новых приемов, безусловно, может привести к видимым ошибкам и дисгармоничности (это наблюдает и Киреевский во втором периоде пушкинской поэзии, «байроническом»).[70]70
См. в статье Киреевского «Нечто о характере поэзии Пушкина» // Там же. С. 46–47.
[Закрыть] В «Полтаве» же дисгармония вообще мнимая, это лишь аберрация, возникающая при следовании стереотипу. Недаром критик видит в поэме «переход с одной степени на другую», угадывая неизбежность примирения противоречий. По мнению Киреевского, «борение мечтательности и существенности» очень заметно в поэме, на него обратили внимание все, кто писал о Пушкине. Но о предполагаемом синтезе противоположных начал сказал только критик «Денницы». Причем подобные «различия» он находит и у других современных авторов – Шиллера, Фр. Шлегеля, Грильпарцера и т. п. Главный признак этого «различия» – неестественность положения, в которое попадают герои. В «Полтаве» это, как мы уже отмечали, «софизм о любви стариков» и чувствительный монолог Мазепы, узнающего хутор Кочубея. Сам Пушкин оспорил подобное утверждение в заметке «Отрывок из рукописи Пушкина («Полтава»), помещенной в «Деннице» на 1831 год. Поиск противоречий и неестественности в литературных произведениях – обычный прием критики. В данном случае Киреевский и сам еще находился под влиянием стереотипа, и только в процессе подготовки статьи понял, что Пушкин использует кажущиеся противоречия для того, чтобы их примирить и подняться на новый художественный уровень. Так случилось в «Борисе Годунове». Таков же и мир «Полтавы». Киреевский отмечает в ней одновременно и «зрелость таланта», и «несовершенства», объясняющие сдержанную реакцию читателей. Это, с одной стороны», «зеркало дарования» и возбуждает надежды на дальнейшее творчество поэта. Но с другой стороны, «в отношении к ней самой» пушкинская поэма удивляет своими недостатками. «Главное из сих несовершенств есть недостаток единства интереса, единственного из всех единств, которого несоблюдение не прощается законами либеральной пиитики». Казалось бы, все сказано, разбор поэмы закончен, но Киреевский, словно бы опровергая себя, уточняет возможность иного толкования поэмы и ее несовершенств: «По этой ли причине (т. е. из-за недостатка единства интереса) или потому, что словесность наша еще не доросла до господствующего направления “Полтавы”, поэма сия не имела видимого влияния на нашу литературу…»
Обратим внимание на постоянные вопросительные интонации, наводящие вопросы – все это, несомненно, обращение к самому себе. Но это уже не риторические вопросы, не ораторский прием. Мы имеем дело с автокоммуникацией (Ю.М. Лотман). Неважен формальный адресат статьи – фактически автор обращается к самому себе, меняя свое прежнее воззрение, добавляя к нему новое содержание Фактичес[71]71
См.: Лотман Ю.М. Избр. статьи: В 3-х т. Таллинн, 1992. T 1. С. 77–78.
[Закрыть] ки это диалог с собой, хотя и открытый вниманию читателя. Таким образом, исходное событие пушкинской трагедии изображается и оценивается как бы с разных сторон, разными глазами. По существу, Киреевский демонстрирует своему читателю диалог разных сознаний. Одно сознание, «неправильное», у критиков, искавших в драме Пушкина действия и намерения персонажей. Другое сознание собственно у пушкинских персонажей. (Вспомним еще и самооценку Бориса, его слова про «единое, случайное пятно»).[72]72
Пушкин А.С. Поли. Собр. соч.: В 10 т. Л., 1978. Т. 5. С. 208.
[Закрыть] Третье – сознание Киреевского, который подходит к «Борису Годунову» с точки зрения развития его потенций, возможностей, заложенных в идее, т. е. фактически с точки зрения будущего.
«Очевидно, что и Борис, и Самозванец, и Россия, и Польша, и народ, и царедворцы, и монашеская келья, и государственный совет – все лица и сцены трагедии развиты только в одном отношении: в отношении к последствиям цареубийства». Характерный для романтизма «центральный» герой в трагедии «Борис Годунов» отсутствует. Герой – всего лишь призрак, воспоминание, тень. «Тень умерщвленного Димитрия царствует в трагедии от начала до конца, управляя ходом всех событий…» Но это вовсе не значит, что в центре трагедии – преступление Бориса. Ведь это преступление «является не как действие, но как сила, как мысль, которая обнаруживается мало-помалу то в шепоте царедворцев, то в тихих воспоминаниях отшельника, то в одиноких мечтах Григория, то в силе и успехах Самозванца». Выражаясь языком современной теории риторики, выделяющей в литературном диалоге два полюса: «речь-действие» и «речь-мысль, шире – духовная деятельность»[73]73
Рождественский Ю.В. Теория риторики. М., 1997. С. 308.
[Закрыть], Киреевский отчетливо тяготеет ко второму полюсу, а первый оставляет оппонентам-критикам.
Очень важно, что Киреевский отмечает вовлеченность всех персонажей в обсуждение одной идеи, одной мысли, в выработку своего представления и отношения к событиям. Это признание диалога не как риторического приема, а как осознанного принципа, позволяющего передать не одну, а множество точек зрения. Какими бы минимальными ни были их отличия, они составляют все же диалогическую, а не монологическую речь. Кроме того, художественная идея выдвигается в центр произведения, подчиняя себе персонажей, как бы даже занимая их место.[74]74
Киреевский И.В. Критика и эстетика. С. 107. Киреевский находит подобные примеры и у древних авторов. Отмечает он и современные параллели: «Фауст», «Мессинская невеста», «Манфред». Однако сам критик оговаривается, что речь идет о «созидании новом», поэтому «пример легче может сбить».
[Закрыть]
Предложенное Киреевским понимание трагедии было не только неординарным и неочевидным для большинства читателей и критиков, но и прямо противоречило традиционным представлениям о драме и драматическом роде.
Любопытно сравнить суждения И. Киреевского и молодого С.П. Шевырева, критика «Московского вестника», также развивавшего идеи русской философской эстетики. В «Обозрении русской словесности за 1827 год» он иронизировал над стремлением подчинить Пушкина законам классицизма. «Хотят, чтоб он (Пушкин. – В. Г.) создавал в своих поэмах существа чисто нравственные, образцы добродетели <…> Если поэзия есть живая картина необыкновенной человеческой жизни, то не ангелов совершенных должны представлять нам поэты, но человеков с их добром и злом <…> таких людей, которые сильнее мыслят, сильнее чувствуют и потому живее действуют»[75]75
Московский вестник. 1828. № 1. С. 69–70.
[Закрыть]. Шевырев здесь имеет в виду не один жанр поэмы, его воззрения применимы и к драме. Отходя от требований классицизма и утверждая романтическую эстетику, Шевырев все же пытается совместить «живую картину., жизни» и исключительное, необыкновенное. В драме, в отличие от Киреевского, он видит лишь «овеществленную необходимость»[76]76
См. об этом подробнее: Манн Ю.В. Русская философская эстетика. М., 1998. С.219–221.
[Закрыть]. Тем не менее различие критиков в понимании трагедии нельзя считать принципиальным.
Белинский трактует «Бориса Годунова» исходя из этих общих представлений о драме-роде и возможную завязку драмы Белинский видит не в убийстве царевича, а в стремлении Годунова «играть роль гения, не будучи гением». Годунов по Белинскому, превращается «в мелодраматического злодея, мучимого совестию»[77]77
Белинский В.Г. Собр. соч.: В 9 т. М., 1981. Т. 6. С. 436.
[Закрыть]. Фактически Белинский повторяет уже отвергнутое Киреевским предположение о том, что суть «Бориса Годунова» – трагедия виновной совести.
Диалог критики – Киреевский – персонажи Пушкина перерастает в статье в диалог прошлого и настоящего.
Выстраивая диалог между эпохами (содержательно), Киреевский как бы продолжает беседовать и вести разговор с самим собой (стилистически). Он признавал первоначальную свободу мысли и поступков как Бориса, так и Самозванца. Смелые замыслы Годунова и Самозванца вполне могли бы реализоваться в байроновских поэмах. Однако, воплощаясь в дальнейших действиях, их мысли приводили к поступкам (преступлениям) и тем самым лишали инициаторов прежней свободы. Действительность властно заявляла о себе, выступая под маской необходимости, или наказания, или возмездия за преступление. Поэтому-то мысль и оказывается в центре трагедии. Воплощаясь в форме необходимости, она разрушает и возможности байронизма, и очарование мечты[78]78
Ср. например: Белинский видел в Самозванце мечтателя. Белинский В.Г. Там же. Т. 6. С. 429.
[Закрыть].
По «Обозрению… за 1829 год» можно представить себе, как будущее само нисходит до настоящего, проявляясь в шаткой, неуверенной «совокупности настоящего», для того, чтобы создалось «лучшее прочное». Речь идет не о смене событий в истории, а о смене идей. Смена идей – необходимая предпосылка возникновения «уважения к действительности». Это-то уважение, которое Киреевский наблюдает во всей просвещенной Европе, «обнаруживается историческим направлением всех отраслей человеческого бытия и духа»[79]79
Киреевский И.В. Критика и эстетика. С. 59.
[Закрыть]. История же требует объективности, исследования разных версий событий.
Перед нами первый шаг к пониманию диалогического сознания, к раскрытию уже не риторического спора, а психологического, постоянного диалога действующих лиц. Этот диалог Иван Киреевский находит в драме Пушкина «Борис Годунов», когда говорит о «постепенном возрастании коренной мысли в событиях разнородных», о «трагическом воплощении мысли».[80]80
Киреевский И.В. Критика и эстетика. С. 107.
[Закрыть] Но что это такое, как не диалог сознаний, в том же самом смысле, в котором употребляет это понятие М.М. Бахтин? Бахтин рассматривает диалогичность самосознания героя Достоевского: «В каждом своем моменте оно повернуто вовне, напряженно обращается к себе, к другому, третьему».[81]81
Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. С. 293.
[Закрыть] Непременное условие диалога сознаний, с точки зрения Бахтина, «глубокая существенная связь… чужих слов одного героя с внутренним и тайным словом другого героя». В таком диалоге «сталкиваются и спорят не два цельных монологических голоса, а два расколотых голоса (один, во всяком случае, расколот). Открытые реплики одного отвечают на скрытые реплики другого».[82]82
Там же. С. 297–299.
[Закрыть]
По существу, Иван Киреевский находит в драме Пушкина «Борис Годунов» полифонический диалог, и находит потому, что он там действительно есть. Новаторство поэта вынуждает к новациям и критика. Посмотрим на трагедию Пушкина с такой точки зрения.
Прежде всего, обратим внимание на незримый, так сказать внутренний, диалог двух линий – Бориса и Самозванца[83]83
Напомним, что на протяжении пьесы Годунов и Самозванец не сталкиваются.
[Закрыть]. Незримость, неовеществленность и придает диалогу определенный полифонизм. Диалог позиций рождается не в реальности, а в мыслях персонажей и зрителей[84]84
Так, В.Е. Хализев справедливо указывает на то, что Годунов и Отрепьев, несмотря на свой антагонизм, во многом подобны друг другу (Хализев В.Е. «Борис Годунов» А.С. Пушкина: веяния итальянского Ренессанса и отечественная традиция // Пушкин и русская драматургия. М., 2000. С. 4).
[Закрыть]. Диалог вынесен за пределы текста, иначе говоря, гипертекстуален. Можно отметить также расколотость сознания Бориса (в монологе «Шестой уж год я царствую спокойно…») и Самозванца, осознающего себя одновременно Отрепьевым и Димитрием (в разговоре с Мариной Мнишек). Сознавая в глубине души свою неправоту, каждый из них старается сгладить эту вину, оправдать себя. Есть и другие примеры. Так, в самом начале Шуйский признается Воротынскому, что не сказал правды о смерти царевича Димитрия, отчасти испугавшись мести Бориса, отчасти растерявшись от его поведения:
Он мне в глаза смотрел как будто правый:
Расспрашивал, в подробности входил —
И перед ним я повторил нелепость,
Которую мне сам он нашептал.
По большому счету, расколотость заложена уже в самом определении самозванца как Лже-Димитрия. Сам Пушкин дважды называет Самозванца Димитрием, и именно тогда, когда он ведет себя как подлинный государь.
В статье И. Киреевского на принцип расколотости обращено особое внимание. Не произнося этого слова, не прибегая к сложной, не свойственной времени терминологии, Киреевский говорит о том же, о чем позднее напишет Бахтин, – о структурном и психологическом многоголосии. Киреевский создает в своей статье образ мысли, или идеи, как смыслового центра пушкинской трагедии[85]85
Cp.: М.М. Бахтин сам указывает на присутствие элементов полифонии в трагедии «Борис Годунов», признавая тем самым и существование сверхзадачи. В качестве примера он приводит «троекратный пророческий сон» Отрепьева, сравнивая его со сном Раскольникова (Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 197).
[Закрыть]. Он утверждает даже, что именно мысль «заступает место господствующего лица, или страсти, или поступка». Но более того: Киреевский подчеркивает, что в трагедии осуществляется «трагическое воплощение мысли»[86]86
Киреевский И.В. Критика и эстетика. С. 197.
[Закрыть]. А воплощение подразумевает конкретность, явление через конкретный персонаж. Фактически Киреевский указывает на Самозванца как на героя-идеолога, который сам подчиняется идее и подчиняет ей других[87]87
Термин «герой-идеолог» применительно к пушкинскому «Борису Годунову» все же следует применять очень условно и ограниченно. Это, конечно же, первые шаги на пути к полифонии, ведь сами герои не ощущают себя носителями идей в понимании Бахтина. Мы не видим зарождения идеи, мы видим лишь последствия ее исполнения, возникшие уже после цареубийства. Мы можем только догадываться о том, что и у Бориса, и у Самозванца были и другие намерения, кроме простого захвата власти. Но все это не артикулировано, не показано в драме. Вопрос о том, насколько полифония действительно присутствует в драме Пушкина, все же не входит в наши задачи. Однако нам кажется, что и к драме, и к статье Киреевского применимо замечание Бахтина: «Мы видим героя в идее и через идею, а идею видим в нем и через него» (Бахтин М.М. Проблема поэтики Достоевского. М., 1979. С. 94). Правда, эти идеи близки друг другу, порой они взаимосвязаны, дополняют друг друга и взаимозаменяют. Это идеи вины, преступления, цареубийства, детоубийства, возмездия, любви к женщине и любви к семье… Трудно сказать, возникает ли диалог между этими идеями, но если и возникает, то очень слабый. Тем не менее перед нами определенно «живое событие, развертывающееся в точке диалогической встречи двух или нескольких сознаний» (Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. С. 100). Такая встреча действительно происходит, хотя диалог как таковой возникает далеко не всегда. Здесь важна сама потенциальная возможность диалога. Такое событие Киреевский видит в прошлом, и именно сейчас оно вызывает живой отклик. Это диалог не в узком, а в широком его понимании – непосредственный, эмоциональный, сердечный или, напротив, рассудочный отклик на событие, его переживание и восприятие.
[Закрыть].
Киреевский рассматривает эту идею Пушкина в контексте идей, приписываемых Пушкину другими критиками, и оказывается, что Киреевский вступает в диалог как с самим Пушкиным, так и с современниками, внимательно рассматривая и оценивая разные точки зрения. Мнения критиков выступают обобщенно, как голоса, как тенденции, абсолютно чуждые и Пушкину, и самому Киреевскому «Иной критик, помня Лагарпа, хвалит особенно те сцены…»; «Другой, в честь Шлегеля, требует от Пушкина сходства с Шекспиром…»; «В ней нет единства, – говорят некоторые критики…»; «Нет, говорят другие, главное лицо не Борис, а Самозванец…»; «Вы ошибаетесь, говорит третий… Трагедия Пушкина есть трагедия историческая…».
Но он не старается подавить, опровергнуть эти голоса, напротив, он показывает их логическую правильность, прослеживая до самых истоков. Только сами истоки эти оказываются ошибочными.
Критики «по совести не могли быть довольны поэтом», ибо избрали «ложный фокус», и правильная перспектива кажется им искажением.[88]88
Киреевский И.В. Критика и эстетика. С. 197. С. 106. Интересно и то, что имена критиков не называются, хотя достаточно узнаваемы. В комментариях к статье И. Киреевского Ю.В. Манн указывает на авторов подобных суждений. Это Н.И. Надеждин и И. Средний-Камашев (см.: Киреевский И.В. Критика и эстетика. С.404–405, примеч. 4).
[Закрыть]
Вспомним, что еще Чаадаев отмечал во вполне западническом «Философическом письме» «странное положение народа, по которому он не может остановить своей мысли ни на одном ряде идей, развивавшемся в обществе постепенно одна за другой; по которому он принимал участие в общем движении человеческого разума только слепым, поверхностным и часто дурным подражанием другим нациям»[89]89
Чаадаев П. Я. Сочинения. М, 1989. С. 512.
[Закрыть]
Важно понять, что Чаадаев создает новый вариант уже знакомого нам образа: сочетание упадка и развития, причем развивающийся субъект наделяется одновременно достоинствами юного и недостатками зрелого народа[90]90
Ср.: Чаадаев писал, что «имея некоторые из добродетелей народов юных, еще не образованных, мы лишены всех достоинств народов зрелых, наслаждающихся высшим просвещением» (Чаадаев П. Я. Сочинения. С. 513). На первый взгляд в этой фразе отсутствует соединение зрелого и юного. Однако немного далее автор утверждает стадиальное отставание русских минимум на полстолетия. Причем это отставание усугубилось после победы в войне 1812 г.: «Мы прошли просвещеннейшие страны света, и что же принесли домой? Одни дурные понятия, гибельные заблуждения, которые отодвинули нас назад еще на пол столетия <…> мы жили, мы живем как великий урок для отдаленных потомств <…> мы составляем пробел в порядке разумения. Для меня нет ничего удивительнее этой пустоты и разобщенности нашего существования» (Там же. С. 514). Ср.: Одоевский постоянно акцентировал категорию опыта, подчеркивая, например, что «старики-младенцы» все время напоминают о своем «опыте». Чаадаев же подчеркивает: «Опыт веков для нас не существует», «опыт столетий не для нас». Мы (т. е. русские) – «отшельники в мире» (Там же. С. 514).
[Закрыть]. Причем Чаадаев также рассматривает коллективный образ – образ народа. Однако далее понятия «народ» и «человек» как бы подменяются, народ воспринимается как единое существо: «Человек теряется, не находя средства придти в соотношение, связаться с тем, что ему предшествует и что последует <…> им не руководствует чувство непрерывного существования, и он заблуждается в мире. Такие потерявшиеся существа встречаются во всех странах; но у нас эта черта общая». В статье Чаадаева мы имеем уже не художественный образ, а логическую и философскую модель народа. Публицистическая насыщенность ее не требует доказательств. Однако критерием достоверности модели служит чувство эстетическое. Приводя исторические и теологические аргументы, он прослеживает своеобразную логику абсурда, обратности в истории России. Сам принцип такого «обращения» мог быть навеян, в частности, произведениями Одоевского. Эта же логика приведет позднее И. Аксакова к невеселым размышлениям о русской действительности 1860-х годов, сочетающей в себе зарождение и гниение, младенческую слабость и старческую дряхлость[91]91
В статье «Русский прогресс и русская действительность». См. подробнее в нашей статье: Греков В.Н. «…На пути времен»: Пространство и время в статьях П.Я. Чаадаева» // Мир романтизма. Вып. 1(25). Тверь, 1999. С. 30–31.
[Закрыть].
Философская публицистика В.Ф. Одоевского и И.В. Киреевского развивалась в связи с философскими размышлениями и публицистическими выступлениями П.Я. Чаадаева. Дело не только в публикации «Философического письма». Сам факт философских размышлений Чаадаева, независимо от их опубликования, воздействовал на русскую публицистику. Поэтому наше исследование было бы неполным без изучения особенностей позиции П.Я. Чаадаева. Не будучи ни любомудром, ни славянофилом, он определял, в известной мере, вектор философских интересов эпохи. Попробуем рассмотреть его взгляды на пространство и время в связи с моделями, создававшимися Одоевским и Киреевским, о которых мы уже писали.
В начале 1832 г. в записке к И.В. Киреевскому Чаадаев неожиданно «зацепляется» за понятие «время» и начинает рассуждать пространно: «Вы знаете, что время мчится галопом. Остерегайтесь, оно может унести меня на своем крупе, и тогда прощайте, наши общие идеи, наши общие ожидания! Чем они станут? Может быть, печальным воспоминанием, раскаянием. Очевидно, что мир катится очень быстро. Есть чему вызвать головокружение у того, кто чувствует его движение. И как посреди этого видеть людей с закрытыми глазами, полусонных, ждущих, когда вихрь их опрокинет и унесет вверх тормашками неизвестно куда, возможно, в пекло, где происходит великая переплавка вещей… О, какая грустная картина!»[92]92
Чаадаев П.Я. Сочинения. М, 1989. С. 357
[Закрыть]. Чаадаев собирался всего-навсего сообщить о времени своей встречи с Киреевским. Но само слово время проявило свою магию и незаметно подтолкнуло Чаадаева к размышлениям философским.
Конечно, картина, нарисованная им, способна поразить воображение читателя. И все же: что значило для Чаадаева время – реальное, историческое, а не отвлеченно-философское? Не пройдем мимо незначащего на первый взгляд замечания о том, что его собеседник – И. В. Киреевский – может опоздать или не поспеть за Чаадаевым, разойдясь с ним в идеях и мечтах, которые из общих могут стать особенными. Что это – прозрение, случайное совпадение? Скорее всего, предостережение, напоминание об опасностях, выдержанное в духе романтизма.
Время не разделило друзей, но, как и опасался Чаадаев, изменило их взгляды, их мечты. Общие идеи стали сложнее и индивидуальнее. Оба автора пишут о просвещении в России, но представляют его как нечто чуждое России, заимствованное, внешнее. Чаадаев писал в «Философическом письме» (редакция «Телескопа»): «Мы существуем как бы вне времени, и всемирное образование человеческого рода не коснулось нас<. > То, что у других народов вошло в жизнь, для нас до сих пор есть только умствование, теория». Такое положение России в европейском мире объясняется ее отчужденностью от общеевропейской жизни, отсутствием преемственности ибо «дивная связь человеческих идей в течение веков», «история человеческого разумения», т. е. научные открытия, философия, законы гражданского общества, «не имели на нас никакого влияния»[93]93
Там же. С. 508.
[Закрыть].
О том же размышлял и И. Киреевский в 1831 г. в статье «Девятнадцатый век». Он считал, что, несмотря на тысячелетнюю историю, просвещение в России «едва начинается», ибо оно «не было плодом нашей прежней жизни, необходимым следствием нашего прежнего развития; оно пришло к нам извне и частию даже насильственно, так что внешняя форма его до сих пор еще находится в противоречии с формою нашей национальности».[94]94
Киреевский И.В. Критика и эстетика. М., 1979. С. 90–91.
[Закрыть] Не обращаясь прямо к категориям пространства и времени, Киреевский тем не менее указывает на неодновременность возникновения просвещения и национальности и убеждает в закономерности подобного явления.
Во мнениях Чаадаева и Киреевского уже заметна разница, и это различие проистекает из их представлений о причинах отставания России в просвещении. Чаадаев склонен винить в этом особенности национального характера, быта, устройства. Само пространство гибельно для России: «Чтобы обратить на себя внимание, мы вынуждены были распространиться от Берингова пролива до Одера». По мнению Чаадаева, «время, которое так спешит в Европе, почти не существует для России: «Опыт веков для нас не существует. Взглянув на нас, можно подумать, что общий закон человечества не для нас. Отшельники в мире, мы ничего ему не дали, ничего не взяли у него…»[95]95
Чаадаев П.Я Сочинения. М., 1989. С. 514.
[Закрыть].
Киреевский же, напротив, обращается к проблеме времени как бы игнорируя пространство. Он подробно рассматривает «стремление текущей минуты». Если раньше «господствующее направление века» понимал только гений, то теперь, по мысли Киреевского, «понятие настоящего направления времени… сделалось доступно для каждого мыслящего и предполагает в нем только внимательный взгляд на окружающий мир, холодный расчет и беспристрастное соображение». Подтверждая, как и Чаадаев, быстроту и решительность современных перемен, Киреевский замечает, что время историческое, событийное опережает время индивидуальное: «Прежде характер времени едва чувствительно переменялся с переменою поколений, наше время для одного поколения меняло характер свой уже несколько раз…»[96]96
Киреевский И.В. Критика и эстетика. М., 1979. С. 80.
[Закрыть].
Если для Киреевского время объектно, оно распоряжается человечеством и влияет на его судьбы, но однонаправленно, то для Чаадаева время стало нелинейным: оно обратимо, субъектно и зависит от человека. Во втором «Философическом письме» движение времени отделяется от понятия прогресс. Чаадаев напоминает, что крепостное право возникло на Руси уже после принятия христианства: «Откуда у нас это действие религии наоборот <…> Почему… русский народ подвергся рабству лишь после того, как он стал христианским, а именно в царствование Годунова и Шуйского?»[97]97
Чаадаев П.Я. Сочинения. М., 1989. С. 40–41.
[Закрыть].
Чаадаев не столько обвиняет, сколько вопрошает. Он и сам не может понять «обратное», по сравнению с общепринятым, действие христианства в России. Иван Киреевский в 1839 г. в статье «В ответ А.С. Хомякову» также подмечает неправильное развитие русской жизни. В древности в России жило «устроительное начало знания», «философия христианства», без которой невозможно «дать правильное основание наукам». Общение между монастырями и народом способствовало познанию «писаний глубочайших мудрецов христианской Греции», выработке собственного, самобытного просвещения.
Причина последующего упадка также ясна для Киреевского. «Раздолье русской жизни» основано было на взаимном согласии, на целостности бытия. Проникновение ереси в церковное учение привело древнюю Русь к гибели: «Один факт в нашей истории объясняет нам причину такого несчастного переворота; этот факт есть Стоглавый Собор. Как скоро ересь явилась в церкви, так раздор духа должен был отразиться и в жизни. Явились партии, более или менее уклоняющиеся от истины <…> Оттуда перед Петром правительство в разномыслии с большинством народа <…> Оттого Петр как начальник партии в государстве образует общество в обществе…»[98]98
Киреевский И.В. Критика и эстетика. М., 1979. С. 152–153.
[Закрыть].
Как видим, восприятие Петра у Киреевского весьма сильно изменилось по сравнению со статьей «Девятнадцатый век». В то же время Чаадаев по-прежнему был убежден в величии и необходимости петровских преобразований. Но ни Киреевский, ни Чаадаев не поняли принципиальной важности своих наблюдений.
Новые идеи были сформулированы значительно позднее Константином и Иваном Аксаковыми. К. Аксаков высказывался о том, что «истина не временщик, от времени не зависит»[99]99
Аксаков К.С. Замечания на статью г. Соловьева «Шлёцер и антиисторическое направление» //Аксаков К.С. Государство и народ М., Институт Русской цивилизации. 2009. С. 459.
[Закрыть]. Он фактически отошел от представления о заданности прогресса, о линейном и постепенном развитии истории от хорошего к лучшему.
Еще более радикальной оказалась концепция И. С. Аксакова: он сформулировал и развил целую теорию «обратного прогресса». Согласно этой теории, Россия не отстает от Запада, но развивается в обратном направлении. Вектор этого движения – от жизни к смерти, от движения к неподвижности, от самобытности к подражанию. Определить источник таких своеобразных взглядов исследователи даже и не попытались. Между тем мы видим прямые аналогии с «Философическим письмом», точнее, развитие идей Чаадаева.
Однако разногласия между Киреевским и Чаадаевым оказались значительно серьезнее, чем оценка роли Петра. Начиная со статьи «Девятнадцатый век» Киреевский во всех своих теоретических работах прослеживает этапы развития России и Запада и утверждает, что Россия не испытала влияния классического древнего мира, т. е. античности. В статье «Девятнадцатый век» это влияние рассматривается как необходимое и положительное. Пробел в русской истории, который невозможно заполнить, связан с отсутствием античного влияния. Однако, как полагал Киреевский, современный мир предоставляет возможность с середины XVIII века развиваться и жить самостоятельно, самобытно[100]100
Киреевский И.В. Критика и эстетика. М., 1979. С. 99 – 100.
[Закрыть]. Чаадаев же к античному миру подходил с других позиций. В контексте «Философического письма» становится понятен интерес к античности, удивление и восхищение перед древней Грецией и ее искусством. Россия, по мысли Чаадаева, ограничена «тесным горизонтом». В «Телескопе» Чаадаев с горечью писал о застылости, неподвижности русской жизни, о равнодушии населения к пользам общим: «Мы живем в каком-то равнодушии ко всему, в самом тесном горизонте, без прошедшего и будущего»[101]101
Чаадаев П.Я. Сочинения. С. 508–509.
[Закрыть]. Чаадаев называет русских «странниками», отмечает неопределенность, неуверенность каждого отдельного существования.
В статье «О зодчестве» (1832) он размышляет об архитектурных особенностях греческих храмов и эллинской культуры вообще. Какой контраст с русским миром, какая широта, свобода, пленительность, поэзия! Чаадаев пишет: «В греческом стиле <…> вы откроете чувство оседлости, домовитости, привязанности к земле и ее утехам». При общей неустроенности русской жизни – и частной, и гражданской – такая основательность, соединенная с поэзией, неизбежно должна была увлечь сердце человека, открывшего для себя впервые эту страну полуденных грез: «Вы знаете, как прозрачная атмосфера полуденных стран, их чистое небо и даже их бесцветная растительность способствует рельефности очертаний греческих и римских памятников. Прибавьте сюда этот рой прелестных воспоминаний, которые окружают их таким ореолом и столькими иллюзиями, и вы получите все элементы, составляющие их поэзию». Ключевое понятие для Чаадаева – иллюзия. Да, греческая поэзия прелестна, но иллюзорна, ибо она обращена к земному и поглощена, земным. Греческое искусство не просто материально: оно еще и утилитарно, сопряжено с идеей пользы, в то время как древнее египетское и современное христианское смыкаются в обшей идее бесполезности и устремленности человека к небу. Пирамидальная архитектура египетских пирамид и готических башен представляется Чаадаеву эстетическим идеалом. Смена архитектурных форм рассматривается как воплощение «истории человеческой мысли». Эта мысль вначале, как полагал Чаадаев, была устремлена в небо, поскольку от природы обладала «естественным целомудрием». Эллинское искусство – растление, поскольку искусство «пресмыкалось в прахе». Наконец готика ознаменовалась возрождением идеи бесполезности и устремленности вверх к Божеству.
С точки зрения Чаадаева, искусство египетское и искусство готическое «действительно стоят на обоих концах пути, пройденного человечеством». Чаадаев подмечает при этом тождество начальной и конечной идеи, т. е. замысла Творца и воплощения этого замысла. Это тождество мыслится Чаадаевым в формах пространства – как бесконечный круг, «объемлющий все протекшие, а может быть, и все грядущие времена». Готика, вертикальная линия символизируют для Чаадаева освобождение, откровение, «без причины и задатков на земле». Но в таком случае идея готики, идея вертикали подсказана человеку свыше. Поэтому так сильно воздействуют на нас и египетские пирамиды, и готические башни. Он пытается связать идею красоты с идеей добра, поскольку они «исходят из одного источника». И красота, и добро обладают одной обшей чертой – они бескорыстны. Это позволяет Чаадаеву сказать, что история искусств на самом деле «символическая история человечества»[102]102
Чаадаев П.Я. Сочинения. С. 217–220.
[Закрыть].
На первый взгляд умаление античного мира и античного искусства противоречит романтической философии и эстетике. На самом деле романтики восхищались античным искусством, но в то же время предостерегали против его переоценки. Ф. Шлегель в статье «О значении изучения греков и римлян» писал: «Обращение к античности порождено бегством от удручающих обстоятельств века. <…> В современной науке распространены две крайности: обожествление древних в ущерб новым и отказ от древней культуры в пользу новой. <…> Древняя история необходима для объяснения современности <…> но недопустимо останавливаться на каком-либо звене бесконечной цепи…»[103]103
Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980. С. 47.
[Закрыть].
Действительно, рассматривая целую цепь, последовательность развития искусства, Чаадаев не пренебрегал ни древним, ни новым.
Однако его представление о древности оказалось иным, чем у романтиков. Он обратился не к «классической» древности, а к варварской, выстраивая при этом триаду «Египет – Древняя Греция – Христианский мир». Ф. Шлегель же в своем рассуждении противопоставлял древнее и новое, не включая их в более широкую общность. В.-Г. Вакенродер также призывал находить «следы той небесной искры, которую сам (Создатель. – В. Г.) вложил в человеческое сердце». Поэтому следует ценить в искусстве разнообразие, новизну. Романтику «столь же мил готический храм, как и греческий». Вот почему Вакенродер удивленно обращается к читателю: «Вы же не проклинаете Средние века за то, что тогда строили не такие храмы, как в Греции?»[104]104
Литературные манифесты. С. 72.
[Закрыть]. Следовательно, Чаадаев отходит от романтической эстетики в одном, но существенном вопросе: не признает равноценности различных этапов искусства. Он не согласен с романтиками в оценке древнего мира, но само восприятие его близко к романтическому. Сравним: А. В. Шлегель в «Чтениях о драматическом искусстве и литературе» писал, что «поэзия древних была поэзией обладания, наша поэзия – это поэзия томления». Разъясняя свой взгляд, он уточняет, что различие древней и новой поэзии основано на различии «идеала человечности». Древняя Греция сохраняла идеал «естественной гармонии», «гармонического равновесия всех сил». Современное человечество осознало свое «внутреннее раздвоение» и недостижимость идеала. Стремление соединить мир духовный и мир чувственный, которое характерно для новейшей поэзии, приводит, по мнению А. В. Шлегеля, к осознанию противоположностей и сознательному желанию «более тесного взаимопроникновения» формы и содержания «как двух противоположностей». Иными словами, античное искусство стремилось сохранить первоначальное единство, новейшее христианское – противоположности. Именно через противоположности современное искусство стремится восстановить утраченное единство. «Античное искусство и поэзия, – пишет А. В. Шлегель, – направлены на строгое разграничение неоднородного, но романтическую поэзию удовлетворяют все неразложимые соединения: все противоположности <…> в ней теснейшим образом взаимно растворяются»[105]105
Там же. С.131–132.
[Закрыть].
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































