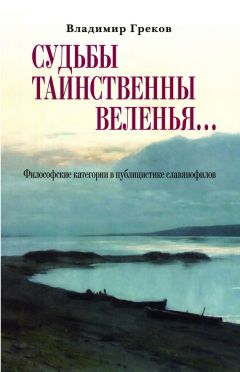
Автор книги: Владимир Греков
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)
Итак, Чаадаев выделял три этапа развития искусства и три этапа развития человечества. Иван Киреевский также видел три элемента, из которых развилось современное западное искусство, – варварство, античный мир, христианство, однако его выводы были иными. Он абсолютизирует христианство и его влияние на современный мир. Не говоря подробно о варварстве, он превозносит (в статье «В ответ А. С. Хомякову») русский вариант христианства, называя его еще более чистым и святым, чем на Западе. Мысль Киреевского понятна – доказать (или показать), что Россия, также как и Запад, получила христианство из рук Божьих, от первоисточника. Первыми учителями славян также были апостолы. Чаадаев же сближает варварство и христианство, поскольку видит в них общий элемент – устремленность вверх, к Небу, заботу о божестве, а не о земле. Сами размеры египетских пирамид подсказывают, что «человеческому сознанию было дано однажды для прославления Бога возвыситься до величия самой природы». Именно этого чувства и не хватает Чаадаеву в античных храмах, посвященных наслаждению, а не Богу и не Небу: «Храмы древних представляли собою… прекрасные жилища, которые они строили для своих героев, ставших богами, тогда как наши церкви являются <…> религиозными памятниками»[106]106
Чаадаев П.Я. Сочинения. С. 219.
[Закрыть]. Чаадаев подметил в вертикали христианских храмов стремление к бесконечности. Он подчеркивает именно стремление, чувство, возникающее в человеке, желание возвыситься над материальным ради идеального – Бога или Неба. Такой взгляд очень близок к романтическому. В.-Г. Вакенродер, например, сетовал: «Горе нашему веку, который видит в искусстве всего лишь легкомысленную забаву, тогда как ведь оно есть <…> нечто более серьезное и возвышенное <…>Не только под итальянскими небесами, под величественными куполами и коринфскими колоннами – и среди остроконечных сводов и готических башен расцветает истинное искусство…»[107]107
Литературные манифесты. С. 74–75.
[Закрыть]. Чаадаев также стремится к истинному искусству, но его истоки видит в Египте, а не в Греции. Одно замечание Ф.В. Шлегеля объясняет сближение древнего и нового искусства: «В древних видят завершенную букву поэзии – в новом предугадывают становящийся дух»[108]108
Там же. С. 53.
[Закрыть]. Чаадаев разделял это убеждение, однако подчинял идею формы идее духа. Поэтому предшественника христианского искусства он ищет не в Греции, а в Египте. Вслед за немецкими романтиками он соединяет самый древний период и самый новый. Позднее этот подход переняли славянофилы. Эстетика славянофилов основана была на сближении домонгольской Руси и современной. Исследователи не раз отмечали, что славянофилы нашли самое старое в самом новом, идеализируя формы жизни домонгольской Руси, крестьянскую общину, крестьянский «мир», вече и т. п.[109]109
Попов В.П. Раннее славянофильство как эстетический феномен и проблема человека // Проблемы гуманизма в русской философии. Краснодар, 1974. С. 92.
[Закрыть] Но, может быть, дело не в идеализации. Славянофилы не пытались «вернуть» древний мир, но старались найти утраченную нить, стержень развития. Иными словами, и немецкие романтики, и Чаадаев, и Киреевский (а вслед за ним и другие славянофилы) интуитивно ощущают стадиальную общность форм искусства и форм жизни в далеком прошлом и в современности. Следовательно, различие заключается лишь в оценке конкретных явлений бытия и искусства, в отношении к той или другой стадии развития. Зато понимание возможного сходства явлений разных веков сближает эти воззрения.
Чтобы выявить и обосновать такую стадиальную общность, требовалось найти сходство в самых общих элементах искусства и бытия разных эпох. К таким элементам можно отнести пространство и время. В третьем «Философическом письме» Чаадаев писал: «Время и пространство – вот пределы человеческой жизни, какова она ныне»[110]110
Чаадаев П.Я. Сочинения. С. 56.
[Закрыть]. Не значит ли это, что раньше сама человеческая жизнь была иной, не ограниченной в пространстве и времени? Эту мысль Чаадаев также мог почерпнуть в романтической эстетике. Новалис полагал, что вечность следует искать «внутри нас»: «… разве не заключена вселенная внутри нас? В нас самих или нигде заключается вечность с ее мирами, прошлое и будущее. Внешний мир – это мир теней, он бросает свою тень в царство света». Внутренний мир человека в таком случае принадлежит царству света, т. е. божественному миру. Ограниченность человеческого мира зависит от ограниченности его мысли. Только вечность (которая выражена, например, в народных сказках) способна выразить дух народа. Л. Тик в статье «О скандинавских народных сказках» так отозвался о возможности иного восприятия жизни: «Ведь в этом необходимость и естество чуда, что повторяется достойный удивления подвиг, откровение вдохновения, ужасное явление… перекрещиваются самые ранние воспоминания, исчезают время и пространство, дух народа, указание и поэзия <…> так оформится и изольется в звуках, как сама природа дает себя услышать посвященному…»[111]111
Литературные манифесты. С. 118.
[Закрыть]
Можно ли преодолеть эти пределы? Кем и когда они установлены? Чаадаев решительно намерен «вырваться из удручающих объятий времени». Для этого необходимо прояснить природу времени. «Откуда почерпнул я идею времени? Из памяти о прошедших событиях. Но что же такое <…> память? Не что иное, как действие воли…». Подчиняя время и память воле, Чаадаев утверждает мнимую природу времени. Но преодолеть этот феномен, просто игнорируя его, также не удается. Для перехода в положительную сферу требуется отказаться от материальности, от земного мира. Парадокс в том, что, по мысли Чаадаева, «Бог времени не создал, Он дозволил его создать человеку». Человек, оставаясь самим собой, на Земле, не может просто игнорировать время: «…в таком случае, куда делось бы время <…> пагубная мысль, обступающая и гнетущая меня отовсюду?»[112]112
Чаадаев П.Я. Сочинения. С.58, 56.
[Закрыть]. Уничтожить время – не значит ли уничтожить индивидуальность, отдельность, обособленность человеческого существования? Но эта мысль уже просвечивает в сочинениях А.В. Шлегеля. Он писал в «Чтениях о драматическом искусстве и литературе»: «Человек никогда не может отвратиться от бесконечного. Отдельные затерявшиеся воспоминания будут свидетельствовать о его потерянной отчизне, но все зависит от основной направленности его устремлений»[113]113
Литературные манифесты. С. 128.
[Закрыть].
Чаадаев также выявляет направление развития человечества. Он рисует картину мира, лишенного времени: «Моему существованию нет более предела; нет преград видению безграничного, мой взор погружается в вечность, земной горизонт исчез; я вижу себя в беспредельном пребывании, не разделенном на дни, на часы, на мимолетные мгновения, но в пребывании вечно едином, без движения и без перемен, где все отдельные существа исчезли друг в друге, словом, где все пребывает вечно». Исчезновение времени ведет и к исчезновению пространства. Вечность же не нуждается ни во времени, ни в пространстве. Но можно ли достигнуть желаемого действием воли? На это способен лишь дух: «Всякий раз, как дух наш успевает сбросить с себя оковы, которые он сам же себе и выковал, ему доступен этот род времени (т. е. вечность. – В. Г.), так же как и тот, в котором он ныне пребывает».
Как мы видим, дух управляет волей. Он способен своим собственным усилием перейти в «настоящее», истинное время, т. е. в «вечность». Конечно, «беспредельность есть естественная оболочка мысли; в ней-то и есть единственное, истинное время, а другое мы создаем себе сами…». Для Чаадаева время обладает пространственной протяженностью. Пространство, вероятно, необходимо только для существования времени, ибо мысль в нем не нуждается. Поэтому пространство – «факт вне мысли, и у него нет ничего общего с сущностью духа; это форма, пускай неизбежная, но всего лишь одна форма, в которой представляется нам внешний мир».
Но при всем этом остается неясным, какова же все-таки роль пространства и времени. Для чего Чаадаев так подробно пишет о них? Задав себе этот вопрос, автор замечает как будто бы случайно, что человек создал время «неизвестно зачем». Замечание, конечно, чисто риторическое. И время и пространство необходимы как условия подготовки человека к вступлению в вечный мир, к собственному отрицанию и разрушению. Хотя время и пространство – атрибуты низшего уровня жизни, без них человек не может достичь «высшей жизни», ибо главное условие преодоления времени и пространства – «полное обновление нашей природы в данных условиях, последняя грань усилий разумного существа, конечное предназначение духа в мире»[114]114
Чаадаев П.Я. Сочинения. С. 56, 56–57, 57.
[Закрыть]. Чтобы достичь этой грани, необходимо развитие. Развитие же требует изменений, которые возможны только в пространстве и во времени. Высшая жизнь означает совершенство, т. е. неподвижность, «совершенную подчиненность». Таким образом, человек подчиняет себя сначала своему собственному духу, а затем вместе с последним сливается с Абсолютным духом. Чаадаев уверен, что «предельной точкой нашего прогресса только и может быть полное слияние нашей природы с природой всего мира». Все эти условия выполнимы только на Небе, только в другом мире.
Эстетическая программа Чаадаева носит отчетливо религиозный характер. Он убежден, что «другого Неба», помимо описанного им, не существует. Может быть именно сближение прошлого и будущего меняет человека, открывает ему дорогу к Небу.
Сказанное выше позволяет уточнить смысл «Философических писем». В подтексте этих писем не столько спор России и Запада, как принято было считать, сколько спор временного и вечного. Вопрос не в преимуществе характера, быта, законов европейских народов перед русским Вопрос в другом: какой народ ближе всего к вечности, к выполнению своего предназначения? Для Чаадаева это европейские народы, индивидуальное и национальное – начала, которые ограничивают сами себя. Чаадаеву же хотелось преодолеть эти ограничения, заглянуть за рамки земного, скованного мира. Для этого надо освободиться от национального, ограниченного пространства, от пут времени. Западный мир так же ограничен, как и славянский. Различие не в пространстве, а во времени. Национальное время в России застыло, тогда как индивидуальное ускорилось. На Западе же национальное время находится в согласии с индивидуальным, течет быстро, меняя народ и готовя его к преодолению условностей земной жизни. Поэтому, считал Чаадаев, Запад ближе к вечности, к Божеству, чем Россия.
Сам же Киреевский ищет примеры, способные подтвердить правоту Пушкина, и в древней, и в новой литературе. Прежде всего – у античных авторов. «Такое трагическое воплощение мысли более свойственно древним, чем современным. <…> Если бы Пушкин вместо “Годунова” написал эсхиловского “Промефея”, где также развивается воплощение мысли и где еще менее ощутительной связи между сценами, то, вероятно, трагедия его имела бы еще меньше успеха и ей не только отказали бы в праве называться трагедией, но вряд ли признали бы в ней какое-нибудь достоинство, ибо она написана явно против всех правил новейшей драмы»[115]115
Киреевский И.В. Критика и эстетика. С. 107.
[Закрыть].
Нам важно признание того, что в «Борисе Годунове» очень слаба требуемая правилами связь между сценами. Ослабление этой связи – явное свидетельство отчуждения, дистанции между группами персонажей, а также между автором (т. е. Пушкиным) и его героями[116]116
Ср.: Современный исследователь отмечает параллели между «Борисом Годуновым» Пушкина и трудом Н. Макиавелли «Государь». По мнению В. Хализева, идеи Макиавелли перекликаются с суждениями и идеями именно персонажей, а не самого Пушкина (Хализев В.Е. «Борис Годунов» А. С. Пушкина: веяния итальянского ренессанса и отечественная традиция // Пушкин и русская драматургия. М., 2000. С. 4). Это подтверждает дистанцирование Пушкина от своих персонажей.
[Закрыть]. Автор не делает ни одного из них носителем своей точки зрения и как бы возвышается над ними[117]117
По мнению современных исследователей, «Пушкин дает в “Борисе Годунове” не единую интерпретацию и толкование событий с одной внешней… точки зрения, а избегает этого благодаря со– и противопоставлению различных перспектив, благодаря монтажу различных точек зрения. Полиперспективность драмы… препятствует идентификации читателя с событием, оно требует его дистанцированного отношения (Екуч Ульрике. Жанр и историческая концепция в драме Пушкина «Борис Годунов» // Пушкин и русская драматургия. М., 2000. С. 30).
[Закрыть]. Так в художественной литературе (как и в критике) конкретизация оборачивается подчас абстрактизацией.[118]118
Об этом применительно к литературе см.: Одинцов В.В. Стилистика текста. М., 1980. С. 22.
[Закрыть]
Обратим внимание на то, что в поисках «трагического воплощения мысли» в греческом искусстве из всех древних авторов Киреевский упоминает только Эсхила, проводя параллели между ним и Пушкиным. Какая же мысль воплощается в «Прометее» Эсхила? Так, В.Г. Белинский в 1841 г. писал во второй статье из цикла статей <О народной литературе>, что находит в эсхиловском «Прометее» «сознание, распавшееся на две стороны, которые, по закону диалектического развития, враждебно стали одна к другой». Белинский трактует огонь, похищенный Прометеем, как «мысль, сознание, побудившее людей от мертвого сна животной непосредственности»[119]119
Белинский В.Г. Собр. соч.: В 9 т. М., 1979. Т. 4. С. 156–157.
[Закрыть].
Разумеется, Киреевский писал гораздо раньше и не мог знать этого рассуждения, да он и не детализировал свое восприятие «трагического воплощения мысли» у Эсхила. Исходя из контекста статьи Киреевского, в трагедии Пушкина воплощена мысль о цареубийстве. В таком случае, возможная параллель у Эсхила – богоборчество. Киреевский подчеркивает, что Пушкин показал «фактические последствия цареубийства». Добавим, что Эсхил показал последствия похищения огня. Вместе с тем трагедия Пушкина, как и трагедия Эсхила, как считает критик, противоречит всем законам современной трагедии[120]120
Киреевский И.В. Критика и эстетика. С. 106–107. Ср.: Пушкин писал в незавершенной статье «О народной драме и драме “Марфа Посадница” о задачах драматического искусства: «Истина страстей, правдоподобие чувствований в предлагаемых обстоятельствах – вот чего требует наш ум от драматического писателя» (Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: В 10 т. Л., 1978. Т. 7. С. 147).
[Закрыть]. Киреевский явно сближает Пушкина и Эсхила не только по характеру мысли, не только по структуре трагедии, но по самому духу. Герой Эсхила противостоит богам и судьбе. А герои Пушкина – можно ли сказать, что они замкнуты только в земном, материальном мире? В редкие минуты прозрения или откровения они обращаются своей мыслью к надмирному, надземному, но только за тем, чтобы противопоставить ему свою волю. В каком-то смысле вся трагедия – это не только и не столько тяжба героев между собой, сколько тяжба между ними и Богом. Именно так – как вызов Богу и борьбу с ним – рассматривает поведение героев Достоевского и особенности манеры писателя позднейший исследователь, Вяч. Иванов. В работе «Достоевский и роман-трагедия» он утверждает: «Трагедия Достоевского разыгрывается между человеком и Богом и повторяется, удвоенная и утроенная, в отношениях между реальностями человеческих душ»[121]121
Иванов Вяч. Лик и личины России: Эстетика и литературная теория. М., 1995. С. 292.
[Закрыть].
Мы видим здесь первые шаги к тому, что потом развернется в особый метод в романах Достоевского. Киреевский, кажется, подошел к пониманию диалогического сознания и его роли в тексте. Он видит в драме то, что сближает ее с диалогом, и сам использует диалог как способ художественного постижения Пушкина. Это еще не полифония в бахтинском смысле, но уже пробуждение интереса к ней, попытка преодолеть монологический тип сознания и достичь большей полноты, т. е. в терминологии девятнадцатого века, «объективности». О чем бы ни шел спор, кто бы ни спорил в диалогах, приводимых Киреевским, или же в его собственных статьях и новеллах, мы всегда ясно ощущаем присутствие Судьбы. Собственно, именно как диалог с судьбой понимал Киреевский многие поэмы Пушкина и его драму.
Глава IV
«…Приуготовление к новой форме души»
(Проблема восприятия пространства и времени)

Диалог, в особенности же диалог с судьбой, всегда предполагает длительность и локализацию. Ведь он происходит где-то и когда-то, т. е. во времени и в пространстве. Категории «время» и «пространство» для русской философской публицистики – основополагающие, служат символами, знаками тех сил и тех событий, которые определяют ход истории и будущее мироздания. Такое понимание времени установилось в романтической эстетике, повлияло на воззрения Чаадаева и любомудров, а вслед за ними перешло и к славянофилам. Понятия «дух времени», «время души», «характер времени», «эпоха» и т. п. постоянно встречаются в публицистике 1830–1860-х гг.
Посмотрим теперь, как ставится и решается в философской публицистике 1820–1850-х гг., в том числе и в текстах, написанных славянофилами, проблема времени и пространства. Для этого проследим за развитием представлений об этих категориях от любомудров до славянофилов.
Вернемся к пониманию времени любомудрами. В их философской прозе и философской публицистике время то отождествляется с историей, то противопоставляется последней как вечность. История также вовлекается в общий ход познавательного движения, заставляя заниматься не только общими закономерностями познания и развития, но и самопознанием существования. Для этого они и обращаются к категории времени. Образы времени пронизывают практически все произведения Одоевского. Вячеслав в «Русских ночах» определяет дух времени как «отличительный характер всех действий человека в данную эпоху, общее направление умов к тому или другому предмету, к тому или другому образу мнений, общее убеждение… нечто необходимое, неизбежное». Но Фауст не удовлетворен ответом. Соглашаясь с общей посылкой, он спрашивает: «Откуда берется это общее направление, общее убеждение? Зависит ли оно от одной какой-нибудь мощной причины или от нескольких разных начал?» Причем, как считает Фауст, одно противоречит другому. «Если дух времени происходит от одного начала, то он должен производить одно общее убеждение, исключающее все другие убеждения; если <…> от различных начал, то убеждение, им производимое, не может быть общим, ибо оно разделится на несколько разных убеждений, из которых каждое будет иметь притязание на первенство, и тогда: прощай необходимость». Если дух нынешнего времени (т. е. времени создания «Русских ночей») – промышленный и прагматический, то невозможно объяснить проникновение изящного, например музыки в частную жизнь фабрикантов.
Фауст предлагает иное объяснение, учитывающее не только прагматику, но и случайность, не одну необходимость, но также движения человеческой души. Он полагает, что дух времени находится «в вечной борьбе с внутренним чувством человека». Более того: «Этот дух был принужден принять в свои недра противную ему музыку, покоряясь какому-то темному чувству человека, которое бессознательно угадало высокий смысл этого искусства…»[122]122
Одоевский В.Ф. Соч. Т. 2. С. 230.
[Закрыть].
Итак, «дух времени» не сводится только к духу практицизма, он создается и чувствами, и искусствами, и идеалами. Вспомним, что в 1842 г. В.Е Белинский свою статью «Речь о критике… А. Никитенко» начинает с размышлений о «Духе времени». Для Белинского этот дух воплощается в анализе. «Дух анализа и исследования – дух нашего времени. Теперь все подлежит критике, даже сама критика. Наше время ничего не принимает безусловно, не верит авторитетам<…>наше время алчет убеждений, томится голодом истины». Фаусту и его друзьям из «Русских ночей» эта мысль не только понятна, но и близка. Они также готовы с жадностью принять новое знание, но не готовы сокрушать авторитеты. Простое подражание духу времени, угождение ему не помогает подражателям, не превращает их во властителей умов. «Случилась странность, – поясняет Фауст, – все, что музыканты писали в угождение духу времени, для настоящей минуты, для эффекта, ветшает, надоедает и забывается». Напротив, музыка Баха и Моцарта живет и звучит по-прежнему. «Напрасно дух времени шепчет людям в уши: “не слушайте этой музыки! Эта музыка не веселая и не нежная! <…> эта музыка ученая!”» Фауст и сближается с Белинским, и расходится с ним во мнениях. Людей все же привлекает музыка ученая, над которой можно и нужно думать. То есть привлекает анализ. Но все-таки это музыка, т. е. чувство, гармония, непредсказуемость! Белинский же исповедует и проповедует действительность. «Действительность – вот лозунг и последнее слово современного мира! Действительность в фактах, в знании, убеждениях чувства, в заключениях ума, во всем и везде действительность есть первое и последнее слово нашего века»[123]123
Белинский В.Г. Собр. соч.: В 9 т. М., 1979. Т. 5. С. 63–64.
[Закрыть]. Вообще-то действительность не противоречит ни чувствам, ни убеждениям Одоевского и его героев. Но Белинский трактует понятие действительности как целесообразность реальности, как возможность ощутить и потрогать материальное тело. Одоевский же более проницателен. Фауст спрашивает: «Так называемый дух времени не есть ли соединение противоречий?» Он убежден (и уверяет друзей), что музыка вошла в мир «вопреки духу времени». Причем, по мнению Одоевского, противоречивость характерна для каждого века. Белинский же приписывает каждой эпохе особый дух, причем не противоречивый, а строго определенный. Правда, он считает возможными борьбу, столкновение двух эпох, но противоположность разделяет дух разных эпох, а не одного времени. Пример такой борьбы, по Белинскому, – восприятие «Мертвых душ» Гоголя[124]124
Там же. Т. 5. С. 114.
[Закрыть]. Вообще же он определяет нынешнее время как время идей, способных изменяться и развиваться: «Над обществом имеют прочную власть только идеи <…> свойство же и существенное отличие идеи <…> в том, что она движется, идет вперед, – словом, развивается».[125]125
Там же. Т. 5. С. 117.
[Закрыть] Фактически развитие здесь воспринимается как наиболее существенная и важная черта «духа времени». Но что такое развитие, как не преодоление противоречий? Белинский говорит о развитии применительно ко всей истории человечества[126]126
Ср. замечание в статье «Русская литература в 1842 году»: «Любопытно наблюдать за процессом мнения об одном и том же предмете в разное время, у разных поколений; любопытно видеть, как думали, например, о Ломоносове или Державине в их время и как думают теперь» (Белинский В.Г. Там же. Т. 5. С. 192–193).
[Закрыть]. Одоевский же наблюдает за противоречиями внутри каждой данной эпохи. Как и Белинский, он считает возможным опереться на чувственный опыт, на реальность, но, кроме того, он вводит в действительность, в жизнь еще один элемент – интуицию. Белинский же признает только рациональное, подтверждаемое опытом и чувством. Он, разумеется, не отрицает искусство, но видит в нем «выражение, осуществление в изящных образах современного сознания, современной думы о значении и цели жизни, о путях человечества, о вечных истинах бытия…»[127]127
Белинский В.Г. Там же. Т. 5. С. 75.
[Закрыть].
Одоевский прислушивается к голосу прошедших эпох, он ищет познание везде, в том числе и в прошедших временах. Современность и прогресс для него не синонимы. В то же время Белинский в обозрении русской литературы за 1842 г. противопоставляет созерцательность прошедшего и сознательность настоящего. Нынешнее поколение стремится «открыть смысл и значение увиденного, перевести факт на идею»[128]128
Белинский В.Г. Там же. Т. 5. С. 191.
[Закрыть].
Теоретическое рассмотрение категории «дух времени» применительно к эстетике Одоевский продолжает в «Психологических заметках» (1843).
«Что понимают под словом дух времени? Новые мысли вырастают из организации человечества как разные части растения из семени; все дерево заключается в семени, но может развиться только со временем; естественное развитие той или иной мысли в организме есть, кажется, то, что называют духом времени. Выражение весьма замечательное, – к сожалению, искаженное страстями»[129]129
Одоевский В.Ф. Сочинения в 2 томах. М., 1981. Т.1. С. 277.
[Закрыть]. В данном случае «дух времени» – развитие человеческой мысли, знания, а стало быть, и цивилизации. Однако важно понимать, что это развитие несвободное, оно зависит от времени. Время же влияет и на историю в целом, и на каждого отдельного человека. Понятие «дух времени» в философии Одоевского дополняется категорией «время души».
«Наше время есть приуготовление к новой форме души человеческой, где поэзия с наукой сольются в едино»[130]130
Одоевский В.Ф. Соч. T. 1. С. 284.
[Закрыть]. Таким образом, Одоевский считает «наше время» – т. е. современность – временем души, точнее, временем поиска и воспитания «новой формы души». Отсюда следует, что и дух времени есть не что иное, как развитие души от старых форм к новым.
В статьях Белинского мы не находим такого понятия, как «время души». Уточним, что оно отсутствует как философская категория. Но, не называя, Белинский создает впечатляющий образ, противопоставляя «дух времени» состоянию, чувствам и желаниям души. К примеру, Державин «был связан духом своего времени, которое понимало поэзию не иначе, как торжественною одою» и тем самым ограничивал его, не давая выразиться и развиться «внутреннему, субъективному началу»[131]131
Белинский В.Г. Собр. соч.: в 9 т. Т. 5. С. 89.
[Закрыть]. В логике Белинского, «дух времени» создал Державина, но он исказил его индивидуальное, личностное начало. «Душа Державина была поэтическая и уже по тому самому чуждая этого внутреннего, субъективного, задушевного и сердечного начала; и оно у него часто исторгалось, но как бы против воли, ибо, по духу своего времени, он не давал ему воли и простора, стараясь держаться в напряженной торжественности»[132]132
Там же. С. 85.
[Закрыть].
Посмотрим теперь, как понимает время И. Киреевский. В первых своих статьях он не употребляет выражения «Дух времени» или «время души». Он предпочитает пользоваться словом «век» и объясняет влияние века на Пушкина и Байрона, на русскую литературу в целом. Такая замена понятий оправдана: Киреевский говорит исключительно о развитии эстетическом, о формах движения литературы, конечно, связанных с общим историческим развитием, но ограничивается настоящим – т. е. своим, девятнадцатым веком. В статье «Девятнадцатый век» речь идет об эпохах исторических, и уже нет возможности ограничиться настоящим временем. Вот тогда и появляется у Киреевского выражение «дух времени». Вначале он говорит о «господствующем духе» и «господствующем направлении», затем переходит к «недавнему убеждению», к «особенности текущей минуты». Наконец он прямо пишет о «всеобщем стремлении постигнуть дух своего времени». Однако считает, что сделать это в действительности будет очень сложно. Если раньше, по его словам, «характер времени» менялся незаметно, несмотря на «смену поколений», то в девятнадцатом веке все совершенно иначе. «…Наше время для одного поколения меняло свой характер несколько раз», поэтому те, кто прожил хотя бы полвека, пережил несколько веков[133]133
Киреевский И.В. Критика и эстетика. М., 1979. С. 79–80.
[Закрыть]. Киреевский утверждает, что дух времени меняется очень быстро, но не отступает и не исчезает из культурного пространства. Поэтому в девятнадцатом веке одновременно сосуществует несколько направлений, несколько разных носителей разного «духа времени». Публицист перечисляет несколько сменяющих друг друга веяний в исторической и культурной жизни общества. «Вы встретите отголоски нескольких веков, не столько противные друг другу, сколько разнородные между собою». Он не просто перечисляет «отголоски», типы старого и нового времени; перед нами проходят воочию люди, представляющие различные эпохи: человек «старого времени»; гражданин – человек, созданный «духом французской революции»; затем человек, воспитанный сразу же после французской революции; он уступает место тому, кто был создан наполеоновской эпохой. Наконец мы видим и «человека последнего времени». Каждый из них отличен от остальных «во все возможных обстоятельствах жизни». Одним словом, время явно изменилось, ускорилось. Что же вызвало подобное ускорение, в чем его причины? Приведя три возможных объяснения, Киреевский не присоединяется ни к одному, но и не опровергает их. Первое объяснение заключается в самом духе времени, в «сущности» его изменений. Второе – в случайном стечении обстоятельств. Третье выводит быстроту перемен из «духа настоящего просвещения вообще».
Итак, мы имеем последовательно несколько категорий: господствующее направление, господствующий дух, дух времени, дух просвещения. Понятно, что автор в каждом случае имеет в виду одно: влияние времени, объясняемое наукой, социальными, политическими, эстетическими идеями.
И все же нельзя не отметить определенную закономерность в смене этих понятий. От неопределенного «господствующего направления» к вполне конкретному «духу просвещения», который можно проанализировать и разложить на составляющие элементы (что он далее и делает). Более того, «дух просвещения» очень хорошо сочетается с «сущностью» духа времени. Две категории взаимно дополняют друг друга. Дух времени становится иным, потому что иным, ускоренным, становится само просвещение. В статье Киреевского, как мы показали, подробно комментируется новый дух времени.
Вместе с тем важное для Одоевского (и оппонирующее категории «духа времени») представление о «времени души» из публицистики Киреевского явно исчезает. Само словосочетание «время души» он не использует. Синонимичные ему термины – «недавнее убеждение» и «текущая минута» не раскрывают полностью значение, выражаемое «временем души». Вероятно, дело в том, что публицист рассуждает об истории, народах и государствах, а не о конкретных людях. И когда разговор доходит до отдельного человека, приходится констатировать, что автора по-прежнему интересует отражение общих идей в личности и убеждениях конкретного правителя. Приведем только два примера (а больше в статье и не найти). В «Девятнадцатом веке» Киреевский высоко оценивает роль Петра, признает и законность, и необходимость его преобразований. И все же он признает некое разногласие Петра с самим собой: «…есть минуты в жизни Петра, где, действуя иначе, он был бы согласнее с самим собою, согласнее с тою мыслию, которая одушевляла его в продолжение всей жизни».
Для Одоевского, как мы видели, «время души» определяется скорее чувствами, чем мыслями. Но характеристика действий Петра, сделанная Киреевским, по существу, направлена на выявление не только действий и мыслей, но и переживаний. Впрочем, эти переживания не называются, не анализируются. Продолжая обсуждение того, как развивалось просвещение в России, Киреевский упоминает Екатерину II. Он замечает: «Екатерина II действовала в том же духе, в каком работал Петр. Она также поставила просвещение России целью своего царствования и также всеми средствами старалась передать нам образованность европейскую»[134]134
Киреевский И.В. Критика и эстетика. М., 1979. С. 98–99.
[Закрыть]. Киреевский касается здесь «времени души» Екатерины и сопоставляет его с «духом времени». Как и в случае с Петром, эти понятия сближены, однонаправлены, и это расходится с описаниями Одоевского, находившего между «духом времени» и «временем души» не только сходство, но и серьезные разногласия. Киреевский выделяет три «господствующих направления», которые и определили – каждое свой – «дух времени». Это направление «разрушительное» (революция), «насильственно соединяющее» (контрреволюция) и «стремление к мирительному соглашению враждующих начал».
И. Киреевский называет переход, совершающийся в литературе, «поэзией жизни», поэзией, свободной от односторонности классицизма и романтизма. Эта поэзия – синтез того, «что напрасно называют классицизмом, с тем, что еще неправильнее называют романтизмом». Завершая определенный этап, промежуток развития, она одновременно открывает новые возможности для совершенствования и изменения поэзии.
Категории «поэзия жизни», «поэзия действительности» можно рассматривать как аналоги «духа времени» и «времени души». Публицист отмечает сближение и поэзии, и жизни с духом времени или, как он выражается, «с развитием человеческого духа». Однако же публика требует от поэзии «соответствия с текущею минутою». Это соответствие уже не столько аналог, сколько «суррогат» времени души. Ведь речь идет об определяющем начале индивидуальной жизни, личности, т. е. о «времени души». Вытеснение поэзии жизнью не приводит к исчезновению поэзии. По мнению Киреевского, прежде, чем вытеснить поэзию, жизнь должна с ней сблизиться, «подойти» к ней, т. е. в какой-то мере сама стать поэзией. Это и делает возможным синтез.
Разъединение и отталкивание героев от жизни сменяется сближением и познанием. Возможность познать мир помогает преодолеть «байроновский скептицизм», во всяком случае, ставит его под сомнение. «Неужели в этом стремлении к жизни действительной нет своей особенной поэзии? Именно из того, что жизнь вытесняет поэзию, должны мы заключить, что стремление к жизни и к поэзии сошлись и <…> час для поэта жизни наступил»[135]135
Киреевский И.В. Критика и эстетика. М., 1979. С. 83–85.
[Закрыть]. Синтез, таким образом, возникает не из сглаживания противоречий, а из их обострения.
Еще в «Обозрении русской словесности за 1829 г.» Киреевский рассматривает «два борющихся начала» – «филантропизм французский» и «немецкий идеализм». Однако, как считает критик, оба направления едины в «стремлении к лучшей действительности». Это стремление, по мнению Киреевского, уловил Пушкин и «выразил его сначала под светлою краской доверчивой надежды, потом под лубочным покровом байроновского негодования к существующему». Именно общность содержания приводит Киреевского к выводу: «Между безотчетностью надежды и байроновским скептицизмом есть середина: это доверенность в судьбу и мысль, что семена желанного будущего заключены в действительности настоящего…»[136]136
Там же. С. 59.
[Закрыть]. Развивая высказанное ранее положение, в 1845 г. в «Обозрении своевременного состояния литературы», опубликованном в «Москвитянине», критик отмечает «противоположность направления французского ума направлению мысли немецкой». Для Киреевского важно, что речь идет о разрыве между наукой и жизнью. Если в Германии «вопрос жизни» воспринимается отвлеченно, как вопрос науки, то во Франции любая мысль, высказанная наукой и литературой, «обращается в вопрос жизни»[137]137
Там же. С. 168.
[Закрыть]. Доказательство тому – общественные преобразования под влиянием романа Э. Сю «Парижские тайны». В результате изменилось устройство тюрем, появились благотворительные человеколюбивые общества. Напротив, Бальзак уже забыт и неинтересен, и именно потому, что писал о прежнем состоянии Франции. Мы видим, что Киреевский здесь как бы расшифровывает свое высказывание о том, что нынешняя публика, нынешние читатели под воздействием духа времени требуют от литературы «соответствия с текущею минутою». В «Обозрении…» вновь поставлена проблема времени. Время – состояние общества, состояние просвещения и поэзии. Западное просвещение 1840-х годов уже исчерпало себя, считает публицист, и поэтому «словесности и личности народные» сближаются, они готовы к объединению, и их особенности нивелируются, теряют свое былое значение. Итак, по мнению Киреевского, стремление к объединению, а по существу – к синтезу, захватывает теперь (к 1845 г.) не одну словесность, но также науку, философию, сами европейские народности, желающие слиться в единую «общеевропейскую образованность». Время по-прежнему характеризуется как господствующее направление мысли или как господствующее направление просвещения, ему приписывается особенный, провиденциальный смысл. «Каждое время имеет свой господствующий, свой жизненный вопрос, над всеми преобладающий, все другие в себя вмещающий, от которого одного зависит их относительная значительность и ограниченный смысл».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































