Текст книги "Эфирное время"
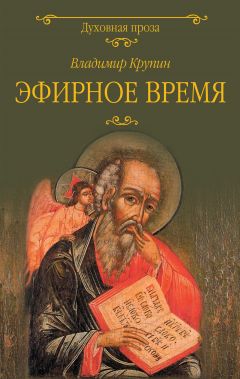
Автор книги: Владимир Крупин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 23 страниц)
Часть 3. Крупинки
Страница
Самое дорогое в нас, что мы помним хорошее, а плохое мы вспоминаем с усилием.
Если буду умирать, то как человек умру спокойно: я многое видел. Но как писатель я умру в муках: я ничего не оставлю.
Например, я вспоминаю деревню Зимник, названную так оттого, что в ней зимовали пугачёвцы, в нашу с Валей туда командировку. Я вскочил ни свет ни заря и говорил с хозяйкой, она смеялась: тебя бы в бригадиры, беспокойный больно. А главное для меня было не в разговоре, а в Валиной руке, упавшей и повисшей в прорези широких, на всю горницу, полатей.
Но хорошее воспоминание приходит само. Вспомним плохое. Как в драке били меня? Как было голодно, холодно? Это отлично: я ценю кусок хлеба. Плохим считали меня? И это тоже хорошо, чтоб не задавался.
Всё хорошо, значит? Не всё. Не уберёг я первой любви.
И как человеку, мне от этого горько. Но как писателю – и от этого хорошо. Значит, от любого мне враз и хорошо и плохо? Что же это за радость и что же это за мука?
Золотое с белым
Вот одно из лучших воспоминаний о жизни: я стою в кузове бортовой машины, уклоняюсь от мокрых еловых веток. Машина воет, истёртые покрышки, как босые ноги, скользят по глине.
И вдруг машина вырывается на огромное, золотое с белым, поле гречихи. И запах, который никогда не вызвать памятью обоняния, тёплый запах мёда, даже горячий от резкости удара в лицо, охватывает меня.
Огромное поле белой ткани, и поперёк продёрнута коричневая нитка дороги, пропадающая в следующем тёмном лесу.
Лунный свет
В лунные ночи зимой волшебно и не страшно в лесу.
Тени деревьев не похожи на деревья, они самостоятельны. Это отчётливые синие контуры на светлом снегу. Да и ночь ли это? Даже теневая сторона деревьев видна прекрасно.
Ветви в снегу, в тяжёлых округлых сугробах, но кажутся лёгкими-лёгкими. И если стряхнуть тяжесть, ветви темнеют и тяжелеют.
Шапка на пне. Внутри неё тепло земли продышало горло, пахнет травой и грибами.
Морская свинка
Я ходил в лаптях. Пишу об этом безо всякой гордости и безо всякой грусти.
Помню лучину, деревянную борону, верёвочную упряжь, глиняные толстые стаканы, морскую свинку, таскающую билетики с предсказанием судьбы.
Я много жил. Я помню Средневековье. Единственное, ради чего стоит записывать воспоминания, это ради осознания себя.
В воспоминаниях, даже о небольшом по времени, прочтётся прогресс. Толстой дожил до синематографа. Я тоже до чего-нибудь доживу. Тут можно ехидно улыбнуться. Но вопрос: как читать.
Да, о свинке. Она вытащила мне билетик с записью моей судьбы, но не успел я вчитаться в него, как билетик отобрали: желающих узнать свою судьбу было много, а билетиков не хватало.
Ресницы
Шёл вперемешку с дождём первый снег. Вот, казалось бы, и всё. Снежинки были тяжёлыми от воды, темнее зимних, и были чётче видны на фоне неба, чем на фоне зданий. Вряд ли и другой не заметит этого. По примете зима начинается через месяц после первого снега. Мне остаётся сказать, что первый снег шёл тринадцатого октября. Проверим тринадцатого ноября. Проверка приметы? Но она – среднегодовое, многогодовое, нынче может случиться исключение. Заметка для службы погоды? Но службы лучше моего следят за небом.
Не дело соваться не в своё дело. Моё дело было увидеть в полуподвальном помещении мокрые блестящие волосы вошедшей женщины. И то, каким голосом она сказала: «И не плакала, а ресницы потекли».
Чистое дыхание
Неуловимы многие воспоминания. Начало их обманчиво чётко, но что это, где это было? Когда? – увы! «Спи, спи, малышка», – приговаривал я, низко склонясь над кроваткой. И вдруг воспоминание о чистой поре детства чем-то тёплым, ароматным, таинственным обдало меня. И прошло.
Может быть, это от детского дыхания доченьки, может, мы так, ещё крошками, близко-близко склонялись головёнками и шептались о разбойниках.
Свинец
Я мало играл на деньги в азартные игры. Но как отливают свинцовые битки, я знал. На них шёл свинец выброшенных аккумуляторов. Отработавшие, легко мнущиеся электроды расплавляли в консервной банке. Счерпывали накипь и выливали в ямочки, выдавленные в земле. Тёплые битки увесисто, по-взрослому, тяжелили руку.
Как-то за кустами вереска, из которого мы вырезали луки на арбалеты, мы набежали на маленький костёрик. Парень у костра вскочил и оглянулся. Но увидел, что он сильнее нас, и успокоился. Но всё-таки прогнал.
– Кастет делает, – сказал один из нас.
Страшное слово – кастет. Для чего он его делал? Где этот парень сейчас?
Сербиянка
Подсела цыганка:
– Не бойся меня, я не цыганка, я сербиянка, я по ночам летаю, дай закурить.
Закурили.
– Дай погадаю.
– Денег нет.
– Не надо. Ты дал закурить, больше не надо. Ты три года плохо живёшь, будет тебе счастье. Положи на руку сколько есть бумажных.
– Вот только мелочь…
– Не клади чёрные (медные), от них горе, клади белые. Через три дня будешь ложиться, положи их под подушку, будут как кровь, не бойся, будет тебе счастье.
Вырвала несколько волосков.
– Ты чешешься, бросаешь на пол, девушка выше тебя ростом подобрала, заколдовала. Видишь зеркало, смотри. Кого ты хочешь увидеть: друга или врага?
– Врага.
Посмотрел я в зеркало и увидел себя. Себя-то увидел, а где сербиянка?
Тайна
Когда появлялась светомузыка, или цветомузыка, она меня просто ошеломляла. Музыка – звук для слуха, светомузыка – зрелище для глаз. Сейчас-то кого этим удивишь, а тогда, тогда впечатляло. Я видел рождение планеты. Она возникала так прекрасно, в таких ослепительно чистых красках, что ненужной казалась дальнейшая её жизнь. Или видел гибель планеты. Такое чудовищно могучее, в таких небывалых сочетаниях света, цвета и тени, что ещё б минуту – и я б закрыл глаза.
Невероятное, ненужное для повтора зрелище.
Раньше я думал, что определенной ноте соответствует определенный цвет. На просмотре решил, что тема музыки рождает сочетание подвижных узоров красок, то есть некий эквивалент музыки в цвете. Теперь думаю, что это ни то и ни то. Но что?
Я чувствовал себя перед окном (светомузыка была на экране) смотрящим во что-то, обо что можно обжечься. Я был первобытной тварью и межзвёздным скитальцем. Был под и над, за и против, и всё это одновременно.
Есть сущее, говорящее светом и цветом. Узор кружения, мчания галактик – заговор, кем-то читаемый. Но кем?
Ну конечно, были это фантазии, воображение. Но было и нечто, зовущее в запредельность. Куда ходить не надо и где тем более ничего изменить не сможешь.
На полатях
Много времени в детстве моем прошло на полатях. Там я спал и однажды – жуткий случай – заблудился.
Полати не были деревенскими, во всю горницу, куда крестьянки загоняют детей, когда в избе гости, они были слева от входной двери, длинные, из тёмно-скипидарных досок.
Мне понадобилось выйти. Я проснулся; темень тёмная. Пополз, пятясь, но упёрся в загородку. Пополз вбок – стена, в другой бок – решётка. Вперёд – стена. Разогнулся и ударился головой о потолок. Слёзы покапали на бедную подстилку из старых чистых половиков.
Тогда ещё не было понимания, что если ты жив, то это ещё не конец, и ко мне пришёл ужас конца.
Всё уходит, всё уходит, но где-то далеко, далеко В деревянном доне с окнами в снегу, в непроглядной ночи, в душном тепле узких, по форме гроба, полатях, ползает на коленках мальчик, который думает, что умер и который проживет ещё долго-долго…
Амулет
…у нас, когда я ещё не ходил в школу, жила девочка, бессловесная удмуртка. Она жила зиму или две, училась. Тогда мало было школ по деревням.
Она питалась очень бедно, почти одной картошкой. Мыла две-три картофелины и закатывала в протопленную печь. Картошки скоро испекались, но не как в костре, не обугливались, а розовели. Излом был нежно-серебристым, как горячий иней.
Я однажды дал ей кусок хлеба. Она испугалась и не съела хлеб, а отдала нищему.
Мама жалела девочку-удмуртку:
– Как же бедно-то живут.
– А хлеб не взяла, – сказал я.
– Не возьмёт: не нашей веры.
– А какой?
– Да я толком-то и не знаю. У нас на икону крестятся, а они в рощу ходят молиться, в келеметище[3]3
Келеметище – место поклонения языческим божествам.
[Закрыть].
– А какая у меня вера?
– Ты православный, мирской.
…Помню, как приходит с мороза мать удмуртки; как извиняется, что стучат замёрзшие лапти, как сидят они в темноте, в языческих отблесках огня из-под плиты. И не зная их языка, понимаю, что дочь рассказывает обо мне.
Утром она украдкой даёт мне, как очень важное, тёмного от срока деревянного идола, амулет их религии. Религии, непонятной мне, но отметившей меня своим знаком за кусок хлеба для голодной их дочери.
…Днём, когда я, набегавшись по морозу, греюсь на полатях, солнце золотит жёлтую клеёнку стола, удмуртка сидит за столом и учит «У лукоморья дуб зелёный…». Я быстрее её выучиваю стих и поправляю, а она смеётся и дает мне большую тёплую картофелину.
Жесть
Первый музыкальный инструмент, виденный мной, – пастушеская труба.
По широкой улице шагало стадо, подчиненное сигналам жестяной трубы. Весной пастух часто пускал в дело десятиметровый бич. Но летом он мог его и не брать: бич сделал своё дело, научил коров понимать музыку хозяина.
Пастух, так было заведено, ужинал поочередно в домах, где имелись коровы. Пришла наша очередь.
Он вошёл, ударил о порог обувью, стряхнул пыль пастбищ и поставил на лавку свою трубу. Тогда я её и рассмотрел вблизи, даже взял в руки, даже тихонько подул в жестяную вороночку.
Труба была склёпана из консервной жести, а по шву спаяна чем-то жёлтым. Была легка и, взятая за тонкую подкову ручки, удобно поднималась к губам, напоминая горн военных сигнальщиков.
Когда я робко подул в неё, трубного звука не получилось. Лишь усиленное резонансом дыхание вышло из раструба хрипом.
Потом я и сам гнул из жести свистки. Иногда клал внутрь горошину. Но это была не музыка, а свист, и даже не художественный.
Кастальские ключи
Сценарии о Ван Гоге, о Гогене, их картины столь подействовали, что в походе в с детьми я равнодушно смотрел на пейзаж места стоянки. Пейзаж, впрочем, отличный: тихая река с разводами заводей; камыш, ивы, увешанные спутанными волосами русалок; дуб, поднявший на вилах ветвей стог листвы; черноголовые порывистые чайки – всё это, выполненное зелёным и жёлтым, оживлённое красным пятном платья на кустах, точками цветов, одушевлённое лучшим из ароматов – запахом сена, озвученное всплесками рыб и, если прислушаться, шелестом листьев, – всё это, встреченное воплем восторга, было бледнее вангоговских картин, но это было моё, в таких местах я рос, и инерция очарования французами испугала меня.
Но прожил четыре дня и понял, что всё в порядке, что мои кастальские ключи текут по-прежнему из-под сосны.
Зелёное здесь от чёрного до белого. Овёс густо-синий, с жёлтыми разводами, на нём легко увидеть ветер, вернее, его внезапные повороты. Они обозначаются быстро блеснувшим серебром.
О заработках
Соседи набивали снегом погреб. Я подбежал, попросил лопату, с охотой мне отданную, и стал помогать. Азартно резал слежавшийся снег на куски, волок их вниз, в сырую холодную дыру ледника. Потом спрыгнул в яму и утаптывал снег, командуя: «Сюда мало! Теперь влево! Подождите, утопчу!»
Было жарко и весело, и я жалел, что быстро кончили. Соседи повели к себе. Отрезали большой, во всю буханку, ломоть хлеба, облили загустевшим за зиму цветочным мёдом и угостили. Я прибежал домой, дал всем куснуть, дал и маме. Она засмеялась:
– Ешь, твой заработок.
И второе воспоминание. Я дружил с мальчиком и пришёл позвать его купаться. Но его мама, учительница, поставила условие, чтобы он вначале наколол дощечек под таганок. Конечно, я стал помогать, мы увлеклись и наготовили дощечек, играя в «кто больше», больше, чем было велено.
– Подождите, – сказала мама-учительница. – Постойте у крыльца.
И вынесла нам по рублю. Как же неловко и стыдно было брать этот жёлтый, размером со взрослую ладонь, рубль.
– Я даю вам не просто так, я вас поощряю. Потом вы расскажете, на что потратили честно заработанные деньги.
И конечно, она узнала, на что мы извели две рублёвки, а я не помню. Скорее всего, на семечки. А чем плохо было их лузгать, сидя на обрыве и болтая ногами над светлым пространством…
Нет в мире сирот
Мы вошли в сияющий полумрак. Ненужным продолжением оставленного мира некоторое время длилась фраза: «…записывают, транслируют… христианские общины…»
Громким, но не напряженным голосом над ровной площадью стоящих и похожих на пол в серо-белых пятнах, если смотреть сверху, текло:
«…и как путник в холодной, бесприютной ночи видит огонёк, как ребёнок, плачущий и обиженный, бежит к матери, так и мы приходим к Пречистой Деве Марии…»
Вверху перспектива, сужающая пространство, казалась обратной, как на древнерусских иконах. В золоте окладов бесчисленные изгибы металла отражали свет свеч.
«…у всех у нас одна мать – Пречистая Дева Мария…»
Хор пропел «аллилуйя», молящиеся встали на колени, и мы оказались выше всех ненужными столбиками среди поля. Оказались выше всех без собственного усилия и желания подняться над всеми.
«…и пока Она есть, нет в мире сирот. И Она пребудет вечно. И уставший обретет отдых, и плачущий утешится, и заблудший найдёт дорогу».
Было это более полувека назад, но осталось навсегда. Нет в мире сирот.
Катина буква
Катя просила меня нарисовать букву, а сама не могла объяснить, какую. Я нарисовал букву «К». «Нет», – сказала Катя. Букву «а»? Опять нет. «Т»? Нет. «Я»? Нет.
Она пыталась сама нарисовать, но не умела и переживала. Тогда я крупно написал все буквы алфавита. Писал и спрашивал о каждой: эта? Нет, Катиной буквы не было во всем алфавите.
– На что она похожа? На собачку?
– И на собачку.
Я нарисовал собачку:
– Такая буква?
– Нет. Она ещё похожа и на маму, и на папу, и на дом, и на самолёт, и на мороженое, и на дерево, и на кошку…
– Но разве есть такая буква?
– Есть!
Долго я рисовал Катину букву, но всё не угадывал. Катя мучилась сильнее меня. Она знала, какая это буква, но не могла объяснить, а может, я просто был непонятливым. Так и не знаю, как выглядит эта всеобщая буква. Может быть, когда Катя научится писать, она её напишет.
Воздушные шары
Воздушные шары хотели раздать детям, но подсчитали, что всем не хватит. В чью-то голову пришла мысль связать их на один шнурок, прикрепить к шнурку флаг и портрет и запустить в небо.
Шары связали и полученную виноградную гроздь, растущую вверх, принесли на площадь. Прицепили портрет и флаг и при пальбе из ракетниц, под крики детворы, отпустили. Шары рванулись, но не смогли поднять тяжесть.
А ракеты иссякали, крики утихали, и, чтобы избежать конфуза, портрет отделили от тяжелой рамы. Но и тогда шары не взлетели. Отвязали флаг.
И в тишине, без салюта, без аплодисментов, портрет пошёл к облакам. И вскоре пропал в них.
Меня не было
Всё было: азиатские глаза, бегущий назад лоб, вдруг он увидел, летящая походка… Всё писано-переписано.
Шагал по ступеням эскалатора, увеличивая этим скорость подъёма. И остановился, продолжая, однако, подниматься безо всякого на то собственного усилия. Увидел несколько вверху и справа стоящую на эскалаторе вполоборота к соседке, а ко мне в три четверти, женщину. Неоновый ровный свет устранил с тонкого лица тени, и не своя для европейцев полнота скул, раскосые глаза вызвали сравнение с японской гравюрой.
И вот тут-то и прошибла горькая мысль: как опишешь? Сравнить с картиной – наилегчайший путь. Хотя для такого сравнения нужно знать то, с чем что сравниваешь, это не моё. Впрочем, женщине Бунина в «Чистом понедельнике» зачёсанные волосы придают вид восточной красавицы с лубочной картинки. Также, впрочем, это Бунин.
Я погибну, если буду пробовать всё, одно за другим.
Итак, всё было? Меня не было. Так, я есть я или я есть суммарное отражение бывшего?
Господи, Твоя воля! Нам ли писать в стране, которая читает прозу Пушкина? Но если моё писание отвратит глаза читателя от моих строк, пусть взор их обратится к Пушкину. И я великодушно буду забыт. А забвение не должно обижать: то, ради чего забывается наше, вмещает нас.
Эскалатор довёз меня за заплаченный ранее пятак. Дальше нужно было идти самому.
Давняя запись
Весной некоторые места в парке обрабатывают химикатами. Деревья и трава неестественно розовеют. Зрелище отличное, но ядовитое. Сдохла забежавшая собака.
И когда-то я записал, как материал для рассказа, о таком будто бы жившем художнике и имевшем своё видение. Видение подавалось иронически. Он якобы встал утром и увидел розовую траву и деревья. Я записал его восторг, как он выбежал и стал обнимать розовые деревья, отравился и умер. Смерть была б моралью. Мол, мир есть мир.
А сейчас перебирал старые записи и выбросил запись о художнике, потому что сам хочу проснуться, подойти к окну и увидеть розовые деревья.
Пастух и пастушка
Откуда взялась собака в деревне, чья она, никто не знал и знать не хотел. Бегала по улицам, дети с ней играли. Но они-то поиграют да ужинать пойдут, а собака? Иногда вспомнят, вынесут косточку, но чаще забывают. Начнут телевизор смотреть или в разные игры играть, тут не до собаки. И поневоле ей приходилось заботиться самой о себе. Украла однажды цыплёнка, её поймали на этом и сильно избили. Прозвали Ворюгой.
Она стала бояться людей. Жила на задворках, исхудала, вся была в репьях, кто такую полюбит?
Вообще, людей в деревне оставалось всё меньше. И тем более живности. Только немного коров да козы. Мало, но были. Пастухом на лето нанимали старика Арсеню. Он каждый год говорил, что больше не будет пасти, сил нету. А из молодых кто в пастухи пойдёт? Никто. Но Арсеню хозяйки как-то уговаривали. Но нынче он твёрдо заявил: «Пастушу последний год. Тут из-за одной Цыганки с ума сойдёшь». Так звали корову чёрной масти. И характер был у неё кочевой. Всегда норовила убежать.
Именно Арсеня пожалел однажды Ворюгу, облупил и бросил ей сваренное вкрутую яйцо. Ворюга в один заглот съела его. Подобрала с земли жёлтые скорлупки, и их схрустела.
– Ого, – сказал Арсеня. Посмотрел в сумку. – На вот ещё хлебушка. Мне уж горбушки не по зубам.
Ворюга мгновенно смолотила чёрствый хлеб. И опять смотрела на Арсеню.
– Мне-то немного оставь, – сказал Арсеня.
А дальше было вот что. Как потом сам Арсеня напоминал всем очень правильную, по его мнению, пословицу: «Кошку год корми – за день забудет, а собаку день корми – год будет помнить». Наутро Арсеня пригнал стадо к дальнему лесу. Но только хотел присесть на пенёк да съесть пирожок, как увидел, что Цыганка прямохонько полетела к зелёной озими.
– Ах ты, ах ты, такая-сякая! – закричал Арсеня, вскочил и побежал заворотить чёрную корову. Но где там, с его-то скоростью, не молоденький. Вдруг из кустов вылетела Ворюга, будто ею выстрелили как снарядом, в три секунды настигла Цыганку, обогнала, смело встала перед коровой и залаяла. Цыганка опешила, выставила рога, но Ворюга так грозно и смело лаяла, что корова, мотнув головой, вернулась в стадо.
– Ну, женщины! – потрясённо и восхищённо говорил вечером Арсеня. – У неё ума больше, чем у меня. Я вообще сейчас барином стал, завтра стульчик с собой возьму и книжку почитать. Главное дело, и коровы за день привыкли ей подчиняться. Ведь вот даже если они смирно пасутся, то всё равно вокруг стада раза три обежит. Мол, я вас охраняю, кушайте травку на здоровье. Какая же она Ворюга, я её Пастушкой назвал. Она ж не со зла, а с голодухи цыплёнка употребила. О-о, это золото, а не собака. Я пастух с маленькой буквы, она Пастушка с большой. Вот только боюсь, что не захочет больше пастушить, намучилась за целый день, да и накормил я её от пуза.
Утром, выходя из дому, Арсеня увидел у своих ворот спящую на земле собаку. Набегалась вчера, наелась и даже не проснулась.
– Спи-спи, – сказал Арсеня. – А проснёшься, прибежишь, спасибо скажу.
И Пастушка прибежала к нему. Он долго ею занимался, выдирал из шерсти репьи, даже клеща вытащил из лапы. Пастушка терпела всё героически. Только, когда он завёл её в воду и стал намыливать, она вырвалась.
– Ну ничего, не сразу, – сказал Арсеня. – Лето долгое, ещё накупаешься.
И ведь напророчил. Лето пришло жаркое, коровы постоянно хотели пить. Арсеня пас их или около пруда, или около реки. Но, кроме жары, летом для животных наступает одно очень тяжкое испытание – это гнус: комары, оводы, слепни. Чем жарче, тем эти насекомые злее. Коровы лезут в кусты, ложатся, чтобы хоть живот не кусали, а более всего спасаются в воде. Зайдут в воду, вода покроет спину, и так им хорошо, что на берег не выгонишь. А выгонять надо: зачем же они пришли на пастбище? Надо есть больше травы, надо давать молоко. Но и отдохнуть от гнуса тоже надо.
И вот – Пастушка сама поворачивала стадо к реке или на пруд, разрешала зайти в воду, сама лежала в тени прибрежной ивы и дремала. Но не на оба глаза, в отличие от хозяина, на один, а другим посматривала на подчинённых. Над коровами вились и носились оводы и слепни. Иногда они не рассчитывали траектории полёта и попадали на воду, а с неё не могли взлететь. Жужжали, крутились на поверхности. Но недолго бывали их танцы на воде – снизу выныривали голавли и с удовольствием ими питались.
– Э-э! – воскликнул Арсеня, увидев такое дело. – Чего ж это я рассиживаю? Собака пасёт, меня освобождает от трудов. А зачем? Чтоб я её и себя рыбой кормил, так, Пастушка?
Собака вставала, одобрительно виляла хвостом, шла к берегу, лакала водичку и предупредительно коротко лаяла. Это не действовало. Выгнать коров из воды даже и Арсеня раньше не мог. Хлопал бичом, заходил в воду, но коровы отходили подальше. И только, когда жара спадала, шли пастись.
Но Пастушка не Арсеня. Бросалась в воду, заплывала со стороны реки, лаяла, сердито молотила лапами прямо перед рогатой мордой. Выгоняла одну, плыла к следующей. И добивалась своего – все коровы выходили на берег. Отряхивались и приступали к своему главному делу, ели траву.
Хозяйки сразу заметили прибавку в надоях и нахвалиться пастухом не могли. А он все благодарности относил к Пастушке.
Мало того, он стал ловить рыбу и приносил вечером в деревню. Отдавал хозяйкам по очереди, но денег ни с кого не брал.
– Мы с Пастушкой денег не любим, берём натурой.
Утром хозяйки выносили им половину свежего рыбного пирога. Они с Пастушкой за день его съедали. На пирогах да на молоке Пастушка поздоровела, повеселела. Шерсть стала гладкой, блестящей. В деревне все наперебой старались её погладить, она всем радовалась. Только когда подошёл тот мужчина, владелец цыплёнка, который бил её палкой, она попятилась и коротко зарычала. Он испуганно отошёл.
О, как иногда долго тянутся летние дни и как стремительно проходит лето. Вот и осень, вот и кончался пастушеский сезон. Рыба перестала клевать, пошли грибы. Освобождённый Пастушкой от пастьбы, Арсеня приносил в деревню и белых грибов, и рыжиков.
Однажды он заметил, что Пастушка стала бегать не так резво, как раньше.
– Ты заболела? – спрашивал он её. – Или заленилась? Или уж совсем заважничала, загордилась?
Но оказалось ни то, ни другое, ни третье. Оказалось, что Пастушка ждала щеночков.
– Вот это ты отличилась, – потрясённо говорил Арсеня. – Скажи хоть, кто отец? С кого алименты требовать?
Он давно собирался сколотить Пастушке конуру, да всё было некогда. А тут такое дело, уже жильё нужно не только для одинокой собаки, а для целой собачьей семьи. И он сколотил конуру. Не пожалел хороших досок, щели проконопатил, пол выстелил старой шубой. На новоселье угостил Пастушку куриными косточками. Ещё и пошутил:
– Всё равно бы ты своего цыплёнка не тогда, так сейчас съела.
Весть о том, что Пастушка скоро станет мамой, взволновала деревню. Дети одолели родителей, просили щеночка от Пастушки.
– Записывайтесь в очередь, – весело говорил Арсеня.
Он тоже в это лето не то чтобы помолодел, но прежние болезни отступились. И когда речь заходила о следующем лете и его заранее просили снова попастушить, он отвечал:
– А это уже вопрос не ко мне, это к Пастушке. Что скажешь, Пастушка?
Пастушка весело виляла хвостом. Зла она не помнила.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































