Текст книги "Эфирное время"
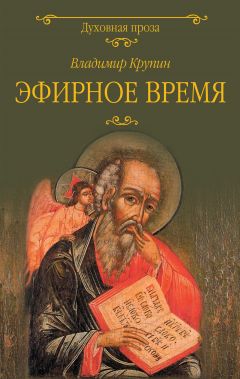
Автор книги: Владимир Крупин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 23 страниц)
Тишина была полная. Даже услышал слабый шум от взмахов крыльев пролетающих уток. Три. Летели в сторону реки. То есть в сторону Юры. Я напрягся, ожидая выстрела. Нет, миновали утки Юрину зенитку. Снова, как рано утром, встала радуга. По начинавшемуся закату я сообразил, где север, где юг. Радуга родилась и выросла на востоке. Тучи посветлели, поредели и вознеслись. Времени три пополудни. А кажется, вечность здесь. Будто давным-давно был вертолёт, рев мотора, выброс на болотные кочки, а всего три часа дня. Нет, тут хватило бы недели, чтобы голова проветрилась от московской закрутки. А у костра ещё быстрее проветривается. Надо только Стаса вытащить, спасать его надо, ведь заколеет.
Вернулся к реке, пробрался мимо того места, где рыбачил, по направлению, в котором ушёл Стас. И вскоре его увидел. Он бросал и бросал блесну. Бросал на диво, я бы сказал, по-олимпийски. И видел только рыбалку. Поворачивался в разные стороны. Я не смел его окликать. Вот он повернулся в мою сторону. Сейчас заметит. Нет, бесполезно. Даже, думаю, если б подошел к нему медведь, которым стращал Юра, Стас бы и его не заметил.
Да, но ведь он всё время в ледяной воде, в резиновых бахилах-бродниках, это какой ревматизм можно схватить. Стас же нужен Отечеству, России. Спасать! То есть вытаскивать из воды. Но как? Ну хотя бы заставить его выпить немного для повышения температуры внутри тела.
Живой ногой, размышляя о тайне рыбацкой страсти, я пошёл к вагончику. Тайна эта, думал я, в соединении трёх стихий: воды, земли и воздуха плюс природа человека. Рыба живёт в другой, непонятной нам жизни, и надо хитростью извлечь её из неё. Именно хитростью. Как же назвать эти бесчисленные приспособления, причём очень дорогие, для ловли?
Юра, который был всюду, вдруг возник, пошёл со мной и стал рассказывать, как он недавно подбил селезня, как от него не улетала утка, подбил и её дробью-нулевкой, потом ждал, когда ветром пригонит уток к берегу. Четыре часа ждал. Ходил по берегу, сапоги-болотники откатаны.
– Я иду, они: скрип-скрип. Вдруг слышу рябчики отвечают, посвистывают. Я дальше ходить. Полетели. Ещё их снял.
– Летели три штуки утки, видел?
– Далеко.
– Ну и хорошо, пусть живут. У нас же полным-полно всего.
– Так-то так, – сказал Юра. – Но свежее мясо рябчика или уточки – это… Мы берём глину, обмазываем тушку. Даже перья не выщипываем, сами отстанут, только потрошим. Облепим глиной, обмажем – и в угли. Разламываешь потом черепки, оттуда пар, запах такой!
– Буду Стаса вытаскивать, – доложил я Юре. – А ты Галину Васильевну и Славу. Тем более тебе пора пиво пить.
– Да я уж выпил одну.
– Одну! При твоей комплекции тебе надо далеко не одну.
– Не клюет, вода высока, – повинился Юра, будто был виноват, что мы прилетели сюда после больших дождей. – Я уже сказал Станиславу Юрьевичу.
– А он?
– Говорит: ночевать буду в воде.
Я взял всё необходимое для согревания и вернулся к реке.
– Стас, – сказал я решительно, – выходи! Умоляю, заклинаю, уговариваю. Ты не мальчик. Это когда мы с тобой пятнадцать лет назад купались в Байкале, на Ольхоне, уже и тогда, помнишь, Распутин нам говорил: «Вы что, в ваши годы, в такое время».
– О! – воскликнул Стас. – Вот чего я не сделал. Не сделал, не совершил ритуального купания в реке. – Он бросил спиннинг на песок и стал раздеваться.
По-моему, даже прибрежные кусты от страха съежились. Солнце скрылось за тучей. Стас раздевался. Я тоже начал раздеваться. Я всё ещё надеялся, что Стас шутит. Вот он дойдёт до рубахи, засмеётся и оденется обратно. Нет, уже дошёл до майки, расстёгивает ремень.
– Обожди, молитвы почитаю, – попросил я.
– Да-да, читай.
Я перекрестился, прочел «Отче наш», «Богородицу», тропарь святителю Николаю, перекрестил воду. Пока я стаскивал тяжёлые бахилы, Стас резко вошёл в реку, зашёл подальше и окупнулся.
– Выходи, – закричал я, содрогаясь от сочувствия к нему и от страха за себя. Я ступил с берега в жидкий лёд полярной реки, обжигая ноги по колено, забрёл и оглянулся. Стас на глазах краснел всем телом и кричал:
– Не вздумай купаться, окупнись и выскакивай.
Что я и сделал. Шлепнулся и окунулся с головой. Выбежал из воды, Стас протянул мне мою рубаху.
– Скорее надевай.
– Вначале штаны, – сказал я, трясясь. – Штаны. У нас бы, если начал одеваться сверху, осмеяли бы. Дом же не с крыши строят.
Мы оба чувствовали, что жар купания пробирает с головы до ног.
– Быстро, быстро, быстро, – говорил Стас, – как казаки в Париже. Представь, что бежишь от женщины.
– Муж не вовремя приехал?
– Нет, от поклонницы.
– Это у поэтов, у прозаиков таких страстей нет.
– Да, раз я даже одной восторженной написал: «О, мне б поклонницу глухонемую!» Но и у прозаиков есть, забыл, что ли, как с Распутиным, вечер на троих был в Рязани, в театре был. Тебе же записка пришла.
– А-а, – вспомнил я, продолжая трястись и одеваться. – Так это с твоей же подачи. По очереди отвечали на вопросы, Валя к микрофону пошёл, мы вопросы разбираем, сотни записок, ценили нас, Станислав Юрьевич, ценили. Ты же спросил: у тебя есть хоть одна личная записка? Нет, говорю, всё проблемы и проблемы. А тут тебе к микрофону, ты и заявил: «Спрашиваю Владимира Николаевича, получил ли он хоть одно признание в любви, нет, говорит, всё проблемы и проблемы». Тут уж меня какая-то и пожалела. Ты же вырвал признание для меня.
– Н-ну! – решительно сказал полностью одевшийся Стас. – Побросаю ещё в согретую воду. А ты походи, походи по берегу. Грейся.
Редкое, но ласковое солнце показалось и порадовало блеском воды, свечением жёлтого песка, сиянием низкого прохладного неба. Стас, чтобы не слепило глаза, повернулся к солнцу спиной и взмахнул спиннингом. Я пошёл в лесотундру.
Да, так называлась учебником географии такая местность: мелкие низкие берёзки, мхи-беломошники, просто мхи, болота, кочки, редкие худые ёлки, бурые пятна болот, холод и дождь. Весной здесь океан до самого океана, летом тут живьём сжирает гнус, но до чего же здесь хорошо! Это для нас, тут другим не климат.
Вернулся к реке. Стас всё так же равномерно кидал блесну. Она пересвистывала реку наискосок, потом, влекомая катушкой за леску, приближалась к рыбаку и вновь посылалась за счастьем.
– Стас, я тебе не мешаю?
– Ты что, я уж соскучился.
– Хариус же чуткий.
– Так мы же не о нём говорим, а на литературу ему плевать. Да и на нас тоже. А уж блесна какая, сам бы съел, игнорирует, гад.
– Оставьте сети, ловцами человеков сделаю вас.
– Это у Замятина, по-моему, есть такой рассказ «Ловцы человеков».
– Но он не о литературе. А из меня даже тундра литературу не выветривает.
– Ещё бы! Тут надо две недели хотя бы прожить. Мы с Личутиным десять дней на Мегре ловили, и все десять дней о литературе.
– С Володей не скучно. Энергичный классик. Только вот ещё как его «Раскол» осилить. Хотя, я знаю, есть у него совершенно преданные поклонники. Я Володю люблю, мне вообще его хочется защищать, жалеть, он же дитя в чистом виде. Обязательно всем гадостей наговорит. Помню, они собирались втроем – он, Абрамов, Белов – спорят так, что искры летят. К ним Горышин подойдет, они ему все по пояс. Ему командуют: «Немедленно сядь». Он и сидя их на голову выше. Я с Володей в давние годы пьянствовал, он улыбается: «Так бы тебе башку и оттяпал». На дискуссии по историческому роману на меня обиделся жутко. Да и Сегень тоже, и Проскурин. Балашов только не обижался. Я назвал историческую прозу фантастикой из прошлого. Что он, Личутин, с магнитофоном за царём бегал, за патриархом? Ещё и пишут: «Занося ногу в стремя любимого дончака, великий князь думал…» Во, уже и мысли читают покойников.
– Он у меня печку утопил на Мегре, – вспомнил Стас. – Мне печку сварили, она килограммов тридцать. Говорю Володе: «Спрячь на том берегу». Он повез и утопил.
– Но вообще-то, слава Богу, крестился, а то была в нем гремучая смесь язычества и старообрядства.
– А вот она, а вот она! – заговорил Стас, вздергивая дугу спиннинга. – А, зацеп. – Он потянул сильнее, но не сорвал блесну, леска выдержала, выволок сучок. Освободил блесну, забросил. – Так можно инфаркт получить. – Он крутил ручку катушки и говорил: – Знаешь, ты можешь обо мне что угодно написать, что угодно рассказать, выдумать, что я бабник, пьяница, лгун, но сказать или написать, что я плохой рыбак, ты не имеешь права.
– Никогда! – торжественно сказал я. – Вылезай! Я всем скажу, что ты поймал огромную рыбу. Вылезай, ты не должен погибнуть. Знаешь, как я напишу? «И уже когда он окончательно погибал и замерзал в этой неласковой приполярной предзимней реке, она схватила. „Рыба, – взмолился он, – не уходи, рыба, я тебя так долго ждал. Я больше суток ехал на поезде, летел два часа на самолёте, потом на вертолёте, шёл пешком, проваливаясь в болото. Рыба, не уходи!“ Какая она громадная, он понял, когда она прошла под обрывом, тень её заслоняла свет маленькому стаду хайрюсенков. Она сорвалась, но уже на отмели, и тогда он кинулся на неё, охватил руками, чувствуя, как бьётся под ним и подбрасывает его её прекрасное мокрое тело». Так напишу я, и пусть остальные рыбаки-писатели застрелятся.
– Очень литературно, – сказал Стас. – Никто не поверит и не застрелится. Надо ловить.
– Хотя бы выпей немножко.
– Да, надо. – Стас положил спиннинг на песок острова и побрел ко мне через протоку. В одном месте было глубоко, он даже зачерпнул через высокие бродни. Огорченно охнул.
Я разложил на траве помидоры, сыр, срезок колбасы, шоколадку, налил, протянул:
– Звиняйте, вельможный пан, шо без салфетки, бо в Парижах нэ бували.
Стас выпил, стащил с мокрой ноги сапог, размотал портянки, выжал, перекрутил и встряхнул шерстяной носок. Я полил на красную ступню водки.
– Растирай. Слушай: вот читает хохол лозунг на заборе: «Бей жидов – спасай Россию» и говорит: «Дуже гарный призыв, но циль погана». Знаешь, где прочитал? В «Московском комсомольце».
– Шуткуют, любят шутковать. Но всегда как-то испуганно, на всякий случай. Всё равно же не дома, чувствуют же. Вот почему евреи в политике и экономике, даже старательные, бесперспективны для России: для них она – «эта страна». Он работает и подсознательно думает: прапрадед тут не жил и внук отсюда намыливается, для кого напрягаться?
– Ну что? – произнес он, вглядываясь в переливы течения. – Хоть бы одна плеснула.
– Юра говорит: время неудачное, дожди прошли.
– Ну да, не до еды, когда у тебя с крыши течёт или наводнение.
– Посиди ещё, погрейся. – Я бросил в воду кусочек хлеба. – Прикорм. Наводнения у меня не было, пожары были. В девяносто втором у меня вся квартира выгорела. Рукописи мои горят. Тогда у меня всё сошлось: и пожар, и до этого спазм сосудов головы, прямо в кабинете упал, и глаза посадил за два года до плюс трёх. Тогда я и привел Бородина, протащил его через секретариат, посадил его на своё место.
– Не жалеешь, что отдал журнал?
– Иногда очень. Когда читаю слабые номера. Но, с другой стороны, где же шедевров набраться? Жаль – журнал стал культурологическим.
– А как ты это понимаешь?
– Ну, например, «Новый мир» печатает что-то неизвестное о Пастернаке, оправдывает его, что не он виновен в судьбе, допустим, Ивинской. «Москва» печатает неизвестное о Клюеве. А это уже удел диссертаций и учёных записок. Также вязнут в Солженицыне. Ох, я очень не рад, что много попахал-таки на него.
– А я! – воскликнул Стас, обуваясь. – Два ли, три ли года печатал чуть не по полному номеру, то ли «Август семнадцатого», то ли «Март…». Напечатать это можно, прочесть – подвиг. Он бы вместе с премией выдавал медаль тем, кто прочёл его «Колесо».
– Бушин прочёл, думаю.
– Бушин всё читает.
– Да, вспомнил я, – когда рукопись «Тихого Дона» нашлась, Солженицына спрашивают, как он теперь это откомментирует. Он говорит: «Теперь это неактуально». А гадить, значит, на Шолохова было актуально? Тут, Стасик, историческая параллель с Толстым. Толстому мешал жить Шекспир, Солженицыну – Шолохов.
Стас обулся и снова побрел на остров, на свою рыбацкую вахту.
– Скажи честно, – попросил я, – я тебе не мешаю? Ведь это же из-за меня не клюёт. Хариус думает: а этому-то, на берегу, чего нужно? Да, не родился я ни рыбаком, ни охотником. Пойти Славку проверить и Галину Васильевну, живы ли?
– Я прямо вздрагиваю, – сказал Стас, производя классический, метров на двадцать пять, заброс. – У меня жена Галина Васильевна.
– Она ездит с тобой на рыбалки?
– Пробовал брать, бесполезно. Как ты, сидит на берегу и…
– …и канючит: пойдём домой, вылезай из воды, заболеешь.
– Примерно.
– Хорошо, я больше ни слова о рыбалке, я о литературе. Всё никак не выветрится. Мне тем более хочется выговориться. Подумай сам, я одинок, «словно в степи сосна». Тут я у девочки, кажется из Пензы, прочел стих: «Я как луна: она бледна и я бледна, она бедна и я бедна, она одна и я одна».
– Терпи, брат, – сказал Стас, – терпи. Утешайся тем, что одиночество – признак силы. – Стас менял блесну на более мелкую и яркую.
– Буду знать, – поблагодарил я. – Конечно, терпеть напраслину хорошо для спасения, для смирения, а дети, а внуки, а та же жена? Это же не еврейская жена, для которой муж – гений, а русская. Русской жене за мужа страдать хочется, но по-крупному, по-декабристски, а сказать лишний раз: ты молодец – не дождёшься от них. Ты получал подмётные письма?
– Сколько угодно.
– Конечно, я тоже получал. Но противнее того, рассылал кто-то письма от имени жены. Членам редколлегии. Будто она, жена, за меня страдает. И Михайлову, и Ланщикову, даже старику Леонову не постыдились послать. Я к нему ездил, уговаривал остаться в редколлегии. Остался. Потом я сам к нему свежие номера возил. Разговаривали много. Но только я подумаю что-то записать, он тут же: не надо.
– У меня Галя, когда я после университета работал в Тайшете, приехала ко мне. Горожанка, в деревне не живала. Холод, печка дымит. На радио работала. Утром, до гимна, далеко до работы, уходила. Так было славно. Натоплю к вечеру, сидим, она поёт. Я подпеваю, она поправляет.
– А Сережка в Сибири родился?
– Нет, в Москве. – Стас всё взмахивал спиннингом, всё поддергивал, подводя блесну.
– Ты говоришь, одиночество – признак силы? Вряд ли. Но то, что оно великое благо, точно. Я же в Москве уж куда как был отверженным. Стихи писал: «В этой Москве серокаменной одинок, как гармошка в метро». Но дорога в церковь в таком случае короче: там я нужен, там братья и сёстры, там спасение. А всё остальное – такая тщета. – Да-а, – протянул я, делая из согнутых ветвей ивы сиденье себе и уселся. – Жизнь прошла, а будто вчера начинали. Мы же подпирали впереди идущих. То есть, лучше сказать: не впереди, а старших. Ещё Симонова помню, говорит мне: я за вами слежу. Очень эпохальная фраза. Твардовского помню…
– У нас что, вечер воспоминаний?
– Я в том отношении, что они к нам ревниво приглядывались. И правильно. Мы пришли не о рыбалке, как Паустовский, писать, да и дядя Стёпа мог быть кем угодно, не только русским. То есть мы предыдущих обштопали по силе любви к России и национальной культуре.
– Они не всегда могли.
– Да, это их как-то оправдывает. А вот за ними идущих уже ничто не оправдывает: говори во всю силу, спасай Россию, продирайся к Святой Руси. Нет. Все хохмочки, все выдрючивания. Конечно, до уровня Плевелина и Мурининой не опускаются, но и… но и но, так сказать. Прочтёшь какого сорокалетнего: дай позвоню, дай человеку доброе слово скажу. И чего-то не собрался позвонить. А через три дня уже чего читал – помню, а для чего читал – не понимаю. К чему такие выкрутасы? А ведь могут. Тот же Дёгтев, писать через «ё».
– Дёгтев? – переспросил Стас. – Никакого нравственного чувства. В Евсеенко вцепился, чего ради?
– Так что отсюда вывод: они нам не конкуренты – зелен виноград. А секрет я знаю, в чём. И знал. И не хотел говорить. А сейчас можно. Они пишут пластмассово, потому что шпарят на компьютерах. Докажу мысль примером: почему сейчас очень сильны русские певцы и русские молодые художники? Не задумывался? Они работают всё тем же инструментом, что и во все века: голос, холст, кисть, краски. А писатели не пишут от руки – связь головы, сердца с бумагой через руку и ручку прервана, кровь через клавиатуру не течёт. Может, ещё оживут, но вряд ли, отравлены всякими принтерами, сайтами, интернетами, картриджами…
– А-а, знаешь, – поддел Стас. – Словарный запас?
– Словарный запас. Нет, мне соперники только собратья по поколению.
– Должен же я поймать! – воскликнул Стас. – Ещё сегодня до вечера и завтра весь день до вертолёта. – Всё-таки он вылез на сухое.
– А если ляжет туман, непогода, Юра говорит, то можем надолго застрять.
– Ещё лучше, – сказал Стас. – Вот тогда уж точно поймаю. И ты начнёшь тоже ловить. Поневоле. Всё подъедим. Да-а, хорошо бы туман. Ты в Москву рвёшься?
– Обижаешь, начальник. Чего туда рваться. Москва за день сжирает всё, что накопишь за месяц в тайге. Разувайся. Надо снова ноги растереть.
– Обожди, закурю. – Стас мокрыми трясущимися руками нашарил в кармане пачку мятых сигарет, долго тыркал колесиком зажигалки. – Почти не курю, только на редколлегии и с расстройства. Да, в Москву неохота. А ты заметил, как демократы радостно выли, обсуждая проект перенесения столицы РСФСР тогдашней в Свердловск или ещё куда. Хрен вот им, Москва – русская. Я это особенно ощутил в августе 91-го, когда заявились из Моссовета с предписанием передать им здание нашего дома на Комсомольском. Хари, одна другой чернее. Я это предписание у них на глазах порвал и швырнул. Русские писатели – главные в русской столице.
– На следующий день – Пленум, последний Пленум большого союза. Евтушенко, Черниченко, Оскоцкий нагнали в ЦДЛ всякого сброда, насовали им каких-то мандатов и голосовали за изгнание из секретариата русских писателей, – вспомнил и я. – Я тоже записался выступать, а Бондарев, Романов, другие уходят, Бондарев мне гневно кричит: «Вы с ними?» Я говорю: «Выступлю и уйду». Потом я отвёз заявление о своем выходе из секретариата.
– Да, а я к Евтушенко пришёл, говорю: «Женя, ты понимаешь, что вы делаете? С кем ты остаёшься?» А он потом, негодяй, написал: «Ко мне прибежал трясущийся от страха Куняев», я – трясущийся?
– Сейчас ты от холода трясёшься.
– Уже не трясусь. Рука отойдёт в плече, ещё спущусь.
– А ноги?
– Терпимо. Посидим ещё. Хорошо.
Слабый, как шёпот, дождик окропил нас, и опять тихо и доверчиво стало пригревать солнышко. Пролетели утки, слышно было, как за поворотом они плюхнулись в воду.
– Не знаю, что на меня нахлынуло, – сказал я Стасу, – но только хочется перед тобой выговориться. А перед кем еще? К батюшке с нашими дрязгами не пойдёшь, странны и дики ему наши проблемы. И правильно! Чем склоками заниматься, молились бы. Василиса Егоровна у Пушкина дала рецепт счастливой жизни: сидели бы дома да Богу бы молились. А Белинский её глупой бабой обозвал.
– У нас на первом курсе в МГУ Бонди на первой лекции спрашивает: «Как думаете, патриот Пугачёв?» Мы кричим: «Патриот!» «А капитан Миронов патриот?» Мы, немного растерянно: «Патриот». «Так почему же патриот патриота повесил?» – Стас, кряхтя, повернулся и лёг на живот. – Помни спину. Пониже лопаток. Сильней, сильней.
– Жалко же.
– Ничего, ничего, полезно, дави, о! Отлично. – Стас опять сел. – А чего ты хотел выговориться?
– Да вот как-то хотя бы в твоих глазах не выглядеть изменником русского дела. Легко ли, кто только на меня собак не вешал. Выступил на встрече с Горбачёвым, никто выступления не прочел, кроме перевранного изложения, и напустились, свои же, Глушкова особенно. У тебя качество бойцовское: сразу отвечаешь, если что – и по морде. Я забыл, ты Рассадину или Коротичу дал пощёчину?
– Неважно. Нет, я Глушковой долго не отвечал, как с бабой связываться. Потом пришлось. Тому же Евтуху.
– Вот. А я даже не смог, хоть и возмущался, написать о том, как Вознесенский издевался на целую полосу «Литературки» над крестом. В день Крестовоздвиженья. Чего-то вякнул против ширпотреба и пластмассы Окуджавы и Галича. Окуджава тут же в «Свидании с Бонапартом» пишет: «Плоское лицо тупого вятича». Я же был на том заседании парткома, когда его была персоналка за провоз порнографии. Далеко вперед смотрел основатель арбатской религии, знал, что порнографию Говорухин узаконит. Я и тогда смолчал. Тогда, – я невольно засмеялся, вспомнив, – ещё Солоухина, тоже коммуниста, обсуждали за публикацию рассказа «Похороны Степаниды Ивановны» в Америке. Его бы выперли, ясно же, из кого состоял партком, но тогда надо и Окуджаву выкидывать. Дали по строгачу. Тогда-то Солоухин и сказал знаменитую фразу, выходя из парткома в ресторан, это в десяти метрах: «Оставили в рядах». Потом мы с ним в один день заявления о выходе из рядов отвезли. Главным образом, от нераскаяния коммунистов в гонениях на церковь. Я тогда его рассказ печатал о Войкове-цареубийце. И до сих пор метро «Войковская». Вот как за своих держатся. Мы с Солоухиным в Риме сидели, он повёл в кафе, где Гоголь любил сидеть. Я официанту по-немецки внушил, что зер гроссише руссише шрифтштеллер. Как не слупить с большого русского писателя, тем более помнят, что вся Европа построена на русское золото. Потом идём мимо Пантеона. «Владимир Алексеевич, давайте зайдём, Рафаэль похоронен, от любви умер». «Да ну, – говорит, – чего заходить. Ну умер и умер, и вечная память. Ну мрамор, ну голубки. Нет, брат, наша могилка должна быть на родине, на сельском кладбище». Так и напророчил себе. А я потом к Рафаэлю забегал. Действительно, мрамор и голубки… Чего, всё-таки полезешь? – спросил я, видя, как Стас зашевелился.
– Не знаю. Ещё покурю.
– А я ещё поговорю… Вообще, за евреями интересно наблюдать. У них несколько приёмов обработки. Дать понять, что всё тебе будет, и деньги, и имя, только вот подтянись к культурке, иными словами, перестань быть русским. «Ах, какая у Розы Самойловны племянница, как ей ваши рассказы нравятся».
– А ещё их бабы почему-то всегда говорят: давай уедем, давай уедем.
– А вся культура – чёрный квадрат да музыка Шнитке. Казалось бы, ну и пяльтесь вы в чёрный квадрат, нет, им надо, чтоб все в него пялились, тут же амбивалентность, а сосна Шишкина, ну что сосна? И писатель как начинает выдрючиваться, это писатель, тут начинаются о нём рассуждения, амбивалентность в нём, а вот северно-сибирское, да ещё с местными словами, – это уже косность, отсталость, культуры мало. А признаться, что русского языка не знают, – это ни в жизнь. Гениев делают моментально, лауреатов. Кому сейчас нужен Рыбаков с его «детьми»? А ведь классик. Да что мы тут о них! Как от каждого не отойдут до смертного часа соблазны, так и от России. Напустят очередных бесов, вроде битлов…
– Да уж.
– А и сами мы всё время предаём Россию. Что её сердце? Православие. Вроде не издеваемся напрямую над крестом, а как Аввакум на него ополчался, обзывал польским крыжом, давай петь осанну Аввакуму, в книги вставлять, памятники ставить. А в церковь пойти, тут всё мешает. Миша Петров говорит: чего я пойду к священнику, я помню, как он в обком комсомола бегал. Курбатов в «Известиях» славит иконописца Зинона, который причащался с католиками. Демократы от восторга премию дают Зинону, он её отдает кому? Конечно, раскольнику-необновленцу Кочеткову. Юра Сергеев очень скромно говорит: по моим книгам учатся, как по Евангелию. И всё люди вроде неплохие.
– Но смотри, – заметил Стас, – вроде пошли писатели во Всемирный русский собор, а потом откачнулись. Политики нахлынули. Может, Ганичев, как зам у Святейшего, видит какие-то перспективы в Соборе, а я посидел-посидел на заседаниях, думаю, в церковь я один хожу, вне коллектива, соборным сознанием обладаю, всё, что говорится, я знаю, чего время терять?
– Согласен, но вопросы-то важные ставятся. Например, о языке. Хотя, – я невесело усмехнулся, – слушают нас прежде всего враги русские. Ах, вы за язык переживаете? Вот вам, вырежем преподавание русского языка в старших классах. Литературы захотели для народа, вырежем и литературу до одного часа в неделю. Экзамен выкинем устный по литературе, сочинение заменим изложением. И окончательно будете недоумков плодить. Ох, Стас, и я не хочу больше ни на какие пленумы ездить. Бесполезно. Ни от какой не от гордыни, а уже просто времени жалко. Выступать всегда есть кому, полный зал говорунов, рвутся. Я сунулся выступить в Орле, Ленинграде, Омске, освистали. Больше не хочу. Как будто я от себя говорил, я благодаря преподаванию в академии хоть за какой-то краешек истины ухватился, вот, думаю, с братьями поделюсь. Какой там, Гусев прямо из зала кричит: «Прекрати считать себя всех умнее!» А разве это мой ум – напомнить слова батюшки Иоанна Кронштадтского о Толстом. Корчим из себя творцов, а Творец – един Господь. Всех судим, а как можно судить раньше Божьего суда? То есть можно подумать, что и я сейчас сужу, но, как говорит знакомый батюшка: не в осуждение говорю, а в рассуждение. А от себя я давным-давно ничего не говорю.
– Я на темы религии избегаю писать, – заметил Стас.
– И правильно. Вон Кузнецов идёт по пути воцерковления, очень хорошо, но это же длиннющий путь, тут не перескочишь, это годы, а он сразу всех оповещает. И столько прямого язычества в его работах о детстве и юности Спасителя, столько искушений.
Над нами копились темнеющие облака, но над горизонтом, куда потихоньку ползло тёмно-жёлтое солнышко, было свободно. Опять пролетели, уже обратно, утки. Тоже три.
– Юра не видел, а то бы на ужин съели.
– У нас еды на два сезона. Да, Стас, заездил я тебя своими разговорами.
– Я всё время внутри них живу. Куда денешься. Да, все мы… – Стас не договорил. – Он встал, потоптался. – Ну что, побросать ещё?
– Ни за что! – решительно заявил я. – Плохо тебе тут? Голодный ты? К костру, к прекрасному ужину, к тёплому ночлегу, к сиянию полярных звёзд. Лучше поймай какое четверостишие. Пойдём! Ты же видишь, какое у реки имя – Макариха. А кто такая Макариха? Это, конечно, тёща какого-то рыбака. И не клюёт на Макарихе, и петляет она, бегает туда-сюда, то мель, то омут, чистая Макариха. Бабья река. Наверное, у Галина Васильевны дела получше.
– Этого я не переживу, – сказал Стас. – Хорошо, ещё по пути спущусь, раз десять брошу. Только давай, из суеверия, о рыбе не говорить.
– Вспомни Пушкина: «Имеющий истинную веру свободен от предрассудков».
– К рыбе это не относится.
Мы пошли по направлению к вагончику, то продираясь сквозь упругие заросли карликовых берёзок, то прыгая по кочкам и срываясь в мокрое пространство между них. Я продолжал зудеть:
– Была же в русском движении эпоха Лобанова, Кожинова, Ланщикова. Палиевского ждали каждое слово. Семанов писал. А Михайлов Олег… О Державине, Суворове, про одесситов. Тут их Селезнёв укрепил. Так вот, я к тому, что все они – христиане, но только умственные. И это честная позиция. Да, не хожу в церковь, духовника нет, но понимаю и свидетельствую, что без Православия России не быть. Слушай, а чего Палиевский не пишет? То есть пишет, но уж так мало. Я недавно прочёл его книжку «Шолохов и Булгаков» – чудо! Но уже читал раньше, он в книгу собрал. А в «Нашем современнике» нет и нет его.
– Ленив! – воскликнул Стас. – Ленив! Говорю: «Петя, пиши, всё буду печатать», нет, не несёт.
– Есть рассказ, как Петелин схватил его, стал душить, спрашивать, когда будешь писать. Палиевский вырывается и кричит: «Я для вас думаю». Это, кстати, очень точно. Не пишет, а полное ощущение его постоянного присутствия. Другой в неделю по три статьи шпарит, а все на ветер. – Тут я как-то неадекватно засмеялся, Стас даже оглянулся, ладно ли со мной. – Умирает один писатель, шепчет своё последнее желание. Чтобы, говорит, обо мне Бондаренко ничего не писал.
– Почему? – спросил Стас.
– Не успел объяснить, умер.
– Сейчас выдумал? – спросил Стас.
– Разве плохо?
– Ничего меня сейчас не веселит, – вздохнул Стас. – Действительно, Макариха. Так же вот мужик рыбачил-рыбачил, измучился, плюнул и говорит реке: ну, ты чистая Макариха. Вредная. Ну чего в такой реке не быть? Чистая, перекатистая, летом тучи корма над водой. Ох, не видел ты, как хариус кормится. – Стас решительно встал: – К костру! Но иди первый: если Галя поймала, дашь знак, я от позора уйду в тундру. Принесёшь мне чего-нибудь поесть и телогрейку. Да, лучше спальник.
– Ты серьёзно, что ли? – Я даже запнулся о кочку.
– Серьёзно. Быть рядом с рыбой, которую не поймал, это… это морально тяжело.
– А бросить нас на ночь – аморально.
Стас закряхтел:
– Давай лучше о литературе. Никогда я ещё так не рыбачил.
– Давай о пень-клубе, – предложил я, – как раз проходим около погибающего от времени пенька. Мы с тобой два дерева, остальные пни, как пели мы в юности. Смотрел передачу о них? Давно же я их никого не видел. Битов весь седой…
– Мы тоже не раскудрявились.
– Естественно. Но мы хоть без бабочек, мы хотя бы спасителей из себя не воображаем, гуманистов. Оказывается, они «не расстреливали несчастных по темницам», оказывается, им то, что в Чечне, не нравится. Там у них всех почестнее показался мне Юз Алешковский. Я с ним у Владимова познакомился. Правда, как-то коробило, что непрерывно матерился. Как Астафьев, только ещё грязнее. Так вот, Алешковский, по крайней мере, честно говорит: «Я пришёл выпить и закусить на халяву пен-клуба». Недавно Глеб Горбовский в интервью о Битове говорит: «Пишет какую-то невнятину, а как хорошо когда-то писал. „Аптекарский остров“, например». Добавлю: и «Афродиту». А вот уже в «Уроках Армении» меня царапнуло, когда он приводит слова Сарьяна: «Я понимаю, откуда армяне, понимаю, откуда евреи. Но откуда русские?»
– Неужели и Славка поймал? – спросил Стас с тоской. – Застрелюсь. Иди вперёд.
По еле заметной тропинке в низком и тонком, но частом ельнике я вышел к вагончику. Около него пылал костёр, внутри вагончика топилась огромная круглая печка. Громко каркал ворон. Слава, не видя ещё меня, пел: «Ах, проводница, принеси мне крепкий чай. Я так давно не пил плохого чаю. Ах, проводница, постели-ка мне постель, я так давно не спал в чужой постели…»
– Гитару не взяли, – сказал он, завидя меня. – Это шепиловская железнодорожная.
– Ещё бы и гитару, – сказал я тоном старшего брата. – Это уж был бы совсем туризм. Ну, поймал золотую рыбку?
– Не только не поймал, но и блесну оторвал. А Станислав Юрьевич? Ещё ловит?
– А Галина Васильевна?
– За ней Юра пошёл.
– Чай заваривал?
– Первое дело. Тут нам его пять сортов положили, выбирайте. Кофе трёх видов, какао.
– Значит, не поймал, – сказал я громко. – И рыбу мы всю отдали вертолётчикам. На рыбалке – и без рыбы. Пойду за начальником.
Но Стас уже сам шёл навстречу. Разделся, заменил мокрые брюки, сменил рубашку, переобулся в сухие ботинки. Всё молча. Угрюмо проговорил:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































