Текст книги "Эфирное время"
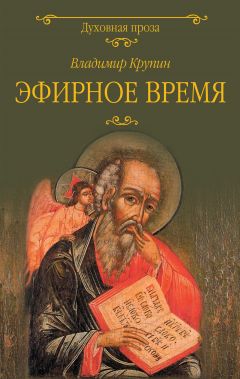
Автор книги: Владимир Крупин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 23 страниц)
«Ах, зачем ты меня, мама, родила?»
Когда Колумб открыл Америку, в ней уже были семь вятских плотников. И сейчас вятские, временно кировские, плотники не растеряли былой славы, доныне нарасхват у разных подрядчиков. То-то теперь стало ясно этим подрядчикам, как зря они нанимали кавказских и закарпатских шабашников, которым платили много, а строили те так, что их строения не дожили не только до коммунизма, но даже до демократии. Но это к слову.
Николай и Виктор – мастера на все руки. Приезжают в Подмосковье на заработки. Они там появились, когда их нанял земляк строить дачу. Быстрая, красивая работа была замечена в дачном посёлке, пошли заказы, выстроилась очередь. Ещё бы – Николай и Виктор и плотники, и столяра, и печники, и кровельщики, и электрики. Курящие, но непьющие. Берут недорого, в еде непривередливые. Николай зарабатывает на машину, а многосемейному Виктору мечтать не о чем, все его деньги уходят на одежду, обувь и еду для детей.
Сейчас мастера делают баню для молодого пенсионера-лётчика. Лётчик заказал чуть ли не дворец. Баня с размахом: сауна, бассейн три на четыре, предбанник с камином. Откуда материалы, где взял пенсионер денег, чтоб соорудить такое счастье жизни, Николаю и Виктору неизвестно. Да и зачем знать? Их наняли, они делают.
Пенсионер-лётчик, бывший, как он говорит, деревенский житель, крутится около и старается помочь. Конечно, он больше мешается, но плотники деликатно благодарят, когда он хватается за бревно, пусть и не с той стороны. Топором он действует неуклюже и опасно, но машет отчаянно. А может, виной вчерашняя выпивка? То-то он всё подговаривается к опохмелке. Он вроде в шутку выговаривает мастерам, что те непьющие.
Николай, боясь травматизма со стороны лётчика, объявляет перекур. Он считается старшим. Виктор тоже садится курить.
– Чего ж, – говорит Николай, – попили водчонки, было. А если на заработках пить, тут не полбеды, а вся беда.
Виктор понимает, что сейчас Николай будет рассказывать свою историю, которая называется «Полбеды». Ему нужен повод, и, хотя Виктор слышал историю десятки раз, он даёт необходимую реплику:
– А чего полбеды?
– Полбеды – это когда башка трещит, – говорит лётчик, – а беда – это когда опохмелки нет, так?
– Так, да не совсем, – говорит Николай. – Это вот я на Житомирщине служил…
– Летал, летал, – перебивает лётчик, – летал. Всё была своя страна, сейчас зарубежье. Получается, что я на международных линиях работал. Я так жене пошутил, она прицепилась: проси добавки к пенсии.
– Ну и вот, – продолжает Николай, его не собьёшь, – служил. И нас гоняли на винзавод. Мы это дело любили.
– Ещё бы! Меня сейчас бы и гнать не надо!
– Пригонят, поставят. Мы вначале напьёмся, потом у кого понос, у кого насморк. Но это ещё полбеды.
– А что беда? – наконец заинтересовывается лётчик.
– А насмотрелся я на это производство. Там везут самосвалами фрукту, они так говорят: не фрукты, а фрукту. Везут, всё это уже гнилое и чёрное, а запах – с ног сшибает. Но это ещё полбеды. Всё это валят в ямы, а ямы обиты ржавым железом и глубиной метров шесть-семь. Но и это полбеды. Туда спускают женщин фрукту топтать. Они целый день работают, не будешь же их доставать в туалет ходить…
– Сейчас блевать начну, – говорит лётчик.
– Нет, и это полбеды. Потом это сырьё из чанов вычерпывают в другие чаны, бродильные, там отжимают, жмых по ленте идёт опять же в самосвалы и везут его на корм скоту. Коровы бесятся и доиться перестают, а свиньи уже ничего другого жрать не хотят. Ho и это ещё полбеды. Над этими чанами воздух чёрный, это тучи мух, они в этой винной жидкости тонут миллиардами. Фильтров я там не заметил. Но и это полбеды.
– Но будет когда-нибудь беда или нет? – спрашивает лётчик.
– Я ему говорю, тебе бы с лекциями против пьянства выступать; это бы лучше действовало, чем когда кодируют, людей убивают, – вставляет Виктор.
– А бегают ещё там… – Николай делает паузу, – крысы и мыши, и все уже там давно они пьяницы, ориентировку теряют, допиваются до того, что в чаны падают и там разлагаются.
– Брошу пить, – говорит лётчик.
– Приходят машины, вроде как ассенизационные, эту жидкость засасывают и везут её, называют её виносмесь, на крепление спиртом. А как спирт делают…
– Не надо, – просит лётчик. – Так в чём же, наконец, беда?
– А беда в том, что человек видит всё это, видит и всё равно пьёт, – вот беда.
– Пьём, – соглашается лётчик. – Сейчас ты только одного добился, что я окончательно от всех этих ужасов выпить захотел. Я вас, знаете чего, мужики, прошу. Я хозяйке скажу, что вы, когда рядились, вы про выпивку из приличия отказались, для блезиру выпейте. Ну хоть граммчик. Меня поймите. У меня, вы ж бывали в таких ситуациях, у меня припрятано. Но нужно при ней выпить, чтоб потом на это дело и свалить. Стакан хлебану, это ж слёзы, только растравить, меня пожалейте. А мы потом сочтёмся, – намекающе говорит он.
Лётчик, считая дело сделанным, уходит, а плотники заплёвывают окурки и начинают затягивать на сруб очередное бревно.
– Придётся выручать, – говорит Николай. – Не скажешь же ему, что я лечёный.
– Да и мне нельзя, могу сорваться, – говорит Виктор. – Ну до чего же все московские мужья перед жёнами трусят. У нас разве так? У нас захотел – выпей. Главное, чтоб именно дома выпил, а не где-то, вот за этим следят. А тут такая конспирация.
Их зовут обедать. Обед хороший. Хозяйка выставляет вино, говоря, что белая будет на вечер, а пока это. Лётчик преувеличенно восторгается и первым, и вторым. Он повеселел, расширился в плечах. Ему хочется всем сделать приятное. Он требует от Николая повторить рассказ про полбеды. Николай отнекивается, но рассказать приходится. Сильно сокращая эпизоды, рассказывает. Но хозяйке не смешно. Поджав губы, она говорит, что уж вот это вино – марочное, что уж оно-то не с того завода.
– Это-то да, – многозначительно рассматривая этикетку, говорит лётчик. Ему хочется повернуть разговор в высокие сферы, дать понять мастерам, что он не так себе, что он ещё и начитанный.
– Сейчас много чего открывается. Слышали – Гитлер до ста трёх лет жил, слышали? А труп тогда спецслужбы сожгли, чтоб Сталину угодить. И врача, который написал о пломбе в зубах, быстро уконтрапупили. Это ж политика. Вот и Риббентроп, который фон Иоахим, пишет Шелленбергу и материт Англию, это 39-й год, что Англия нас ссорит с Россией. И в том же году что? Шестьдесят лет Сталину, который Иосиф. И Гитлер ему объясняется в любви, и Сталин обратно так же. Но Англия, заметьте, поссорила. Нет, я так думаю, это когда-нибудь поймут. А Никитка, который Хрущ, надиктовал на магнитофон, что Сталин подписал пакт с Германией, бегал и кричал: «Надул Гитлера, надул Гитлера». И так далее соответственно. А Гитлер в ночь, на двадцать второе июня, именно в эту ночь, пишет дуче, который Муссолини: «Я решился положить конец лицемерной игре Кремля…» Что? Какой вывод? Англия поссорила.
– Ах ты моя, Жозочка, – нежно говорит хозяйка чёрной кошке, – болеет моя Жозочка, моя Жозефиночка.
– Как болеет? – спрашивает Виктор. – Мурлычет же.
– Очень плохо кушала утром.
– Кошки живучие. – Виктору хочется успокоить хозяйку. – Кошку убей да перетащи на другое место, она оживёт.
Перекурив, начинают работать. Лётчик, дозаправив себя запасным горючим, улетает в области заоблачных снов.
Плотники идут работать. Николай лезет на сруб.
– А не верю я, что он в лётчиках такие хоромы заработал. Не верю, – говорит он сверху. – У нас, помнишь Гену-лётчика, пятьдесят не было, закопали, в заполярке летал. Помнишь? Что он скопил? Дом поправил да «жигулёнка» ненового взял. Всё! А здоровье где? А этот – тумба, жиртрест, легче перепрыгнуть, чем обойти, честный, что ли? Конечно, воровал. Или ворованное возил. Не зря же говорили, сколько при Ельцине золота увезли. Тот же Руцкой.
– Давай спросим нашего «лётчика», – говорит Виктор. – Откуда деньги, спросим.
– Да ну его! Да подавись все они!
– Вот и да ну! От того, что не спрашиваем, они, такие, будут жрать да спать, а мы будем горбатиться. Сбрось верёвку, – просит Виктор.
– Зачем?
– Чего спрашивать? Верёвки пожалел. Тут Господь Бог Царствия Небесного не жалеет, а ты верёвку пожалел.
– Небесное? Небесного нам не будет.
– Да, – соглашается Виктор, – не за что. Я в Ульяновске служил, там был городской парк и в нём памятник отцу Ленина, оказывается, в этом парке было кладбище. Сохранили только одно захоронение, а была там могилка Андреюшки, юродивого, её тоже заровняли. Так вот, во все годы женщины около могилы дежурили, чтоб никто ногами не ступил. А недавно у меня там зять был, говорит, что на этом месте сделана Андреюшке часовня.
– А у нас в Яранске, ты ж знаешь, был совсем недавно Матвей. Старец. Его могилу вообще бетонировали. Так за ночь бетон ломами разломали и земельку брали. Он завещал: ходите ко мне на могилку.
Во время нового перекура Виктор горько говорит:
– Плохо, что выпил. Сейчас меня может потянуть. Ну и всё. Не скажешь же им, что я лечёный.
– Зря, конечно. Но он просил же.
– Отказать не можем, сами дураки. Вообще, во всем дураки.
– Нет, можем, – вдруг твёрдо говорит Николай. – Мне мать рассказывала, она из того же Яранского района, Беляевского сельсовета. Вот уж кому будет Царство Небесное.
– Кому?
– Были муж и жена. Уже в годах. И вот пришла революция. Они поняли: пришёл антихрист. Они приели весь царский хлеб, а большевицкий есть не стали, сказали: грех антихристов хлеб есть. Приели царский хлеб, при царе выращенный, приели, легли на разные лавки и умерли.
Они какое-то время молчат, потом принимаются за работу. Виктор потихоньку запевает, под песню легче работать:
Пилим, колем ёлочку, сосну.
Эх, пилим, колем ёлочку, сосну.
Пилим, колем и строгаем.
Всех ментов переругаем,
Ах, зачем ты меня, мама, родила?
Сено в стогу
В случае, о котором я рассказываю, участвовали люди, которые живы-здоровы и могут подтвердить мои слова. Да и с чего бы мне врать.
В июле, после крестного хода, я был в Советске, это город в Вятской земле, районный центр, бывшая слобода Кукарка. Можно было бы в демократическом экстазе вернуть имя Кукарки, а жители сказали: нет, Советск – хорошее, русское слово, будем советскими, а «Кукаркой» назовём ресторан на рынке. Раньше в Советске была шутка – приезжим говорили: «Вы находитесь на дважды советской земле».
Там я остановился у давнего знакомого, врача Леонида Григорьевича. Большое хозяйство, которое он держал, поднимало его с солнышком и укладывало за полночь. Шли дожди. Леонида Григорьевича больше всего тревожило, что на лугах в пойме Вятки лежит скошенное сено, плохо сохнет, может пропасть.
Назавтра, к вечеру, я собирался уезжать. Это, конечно, огорчало Леонида, всё-таки я бы помог. На сенокосе, особенно на гребле, лишней пары рук не бывает. Дети Леонида рвения к метанию стога не проявляли. А мне, сохранившему воспоминания о счастливой поре сенокоса в большой семье, хотелось ощутить в руках и грабли, и вилы. Но что будешь делать – не метать же влажное сено: сгорит, сопреет.
После обеда, накануне, дождь перестал. И хотя солнышко явно загостилось в заоблачном доме ненастья и нас не вспомнило в тот день, потянуло спасительным, проветривающим ветерком. И ночью обошлось без дождя. И утро стояло ясное. Но, по всем приметам, дождь надвигался. Леонид глядел и на север – тучи, и на запад – тучи, вздыхал.
– А на день не можешь ещё остаться? – спросил он меня.
– Никак, Леонид, никак. Остаётся жить мне тута один час, одна минута. Но давай съездим, хотя бы пошевелим, перевернём.
– Бесполезно. Смотри. – Он показал на небо. – Может, помолишься?
А до этого, именуя себя материалистом, Леонид часто втягивал меня в разговоры о религии. Тут я не стал ничего говорить, ушёл в дом. В доме у него были иконы, которые остались от матери Лилии Андреевны, жены Леонида. Тёща у него, по его словам, была набожной.
Вздохнувши, я перекрестился и прочёл «Отче наш». Кто я такой, великий грешник, чтобы Господь меня услышал! Но так хотелось помочь хозяевам, особенно Лилии Андреевне, которая по болезни не могла уже быть на гребле, но прямо слезами плакала, что если не будет сена, то придётся телочку Майку пустить под нож. «Не переживу, – говорила она, – не переживу, если будем убивать Майку, такая ласковая, только что не говорит».
Во дворе Леонид возился у своей трижды бывшей и четырежды списанной «скорой помощи».
– А кто ещё поможет метать?
– Брат двоюродный Николай Петрович, жена его Нина, ты, я – четверо на стог. Нормально?
– Нормально. Поехали. Не будет дождя.
Леонид расстегнул куртку, перетянул широкий ремень-бандаж на животе – мучился с грыжей, поглядел на меня, на небо и пошёл звать Николая Петровича с женой.
Николай Петрович много не рассуждал. Сел в кабину рядом с Леонидом и скомандовал:
– Заводи… глаза под лоб.
Когда спустились к Вятке, проехали вдоль её прекрасных берегов и достигли огромной поляны, которая была выкошена тракторной косилкой, когда я осознал, что всё это скошенное пространство надо нам сгрести, стаскать, сметать, то подумал, что пришёл последний день моей жизни. Надо запомнить напоследок красоту вятской родины, подумал я.
Молчаливая жена Николая Нина уже тихонько шла впереди, сгребая первую волну влажноватого сена. Но я заметил, что двигалась она хоть и медленно, но непрерывно. Глядишь – она тут, а посмотришь – уже там. Николай, её муж, человек огромного роста, работник был невероятной мощи и производительности. Он орудовал граблями почти в метр шириной и с ручкой метра в три. Моё восхищение им его подстёгивало. Обошли поляну раз. Обошли, под запал, и два раза. Солнце наяривало во всю мощь. Но жара была тревожной, душной, земля парила.
– Бесполезно, – в отчаянии говорил Леонид. – И нечего даже мечтать, смотрите, со всех сторон затаскивает.
И точно. Уже и солнце с трудом стало прорываться сквозь рваные темные тучи, уже мелкие капли упали на запрокинутые лица.
– Копнить! – скомандовал Николай и побежал к машине за вилами.
Бегом-бегом скопнили. Надо ли говорить, что я всё это время творил про себя Иисусову молитву попеременно с тропарем святителю Николаю «Правило веры и образ кротости». Дождика не было, но и солнца тоже.
– Поехали, – обречённо сказал Леонид. – Дождя когда не будет потом, копны развалим, просушим…
– Как Бог даст, – впервые подала голос Нина.
– Леонид, – спросил я, – вот мы в эти дни всё вели богословские диспуты. А вот конкретно: если сегодня поставим стог сухого сена, ты поверишь в Бога?
– Да как же ты поставишь? – Леонид прямо вытаращился на меня.
– Не я, а мы все вместе. Так как?
– Смечем – поверю.
Сверкала водяными жемчугами наша поляна, стояли тёмные, тяжёлые копны. Небо вокруг хмурилось. Над нами еле-еле расчистилось светлое высокое пространство. Пришёл ветерок, стало выглядывать и греть солнышко. Для начала мы не стали раскидывать копны, а сгребали остальное сено. Потом развалили, разбросали и копны. Мы с женой Николая черенками грабель шевелили сено, растеребливали его сгустки. Леонид и Николай готовили остожье, ставили стожар.
Пообедали. На небо боялись даже поглядывать. Громыхало на западе и слегка посвечивало отсверками далёких пока молний.
Стали метать, выбирая просохшее сено. Потом неожиданно обнаружили, что оно всё сухое, можно грести подряд. Сено уже не шумело, а шуршало под граблями. Носилками мы стаскали сено с дальних краёв поляны, валили под стожар. Стог настаивал Леонид. Нина подтаскивала сено и подгребала.
Как только у Николая терпели вилы, непонятно. Он пообещал Леониду похоронить его в стогу вместе с сеном, но Леонид, несмотря на грыжу, был так ловок, что распределял наши навильники равномерно по окружности растущего на глазах стога.
Пошли на вторую его половину. Гремело всё сильнее. Забегали бегом. Я всё читал и читал про себя молитву. Кажется, что и Николай, и Леонид тоже, пусть по-своему, молились. Однажды, внезапно оглянувшись на Нину, я увидел, что она торопливо перекрестилась.
Стали очёсывать, ровнять бока. Очёсанное кидали Леониду. Стог становился огромен. Чисто выгребенная поляна светилась под лихорадочным, торопливым солнцем, как отражение чего-то небесного.
Дождь, было видно, шёл везде – и у Вятки, и за Вяткой, и на горе, в деревне. Не было дождя только над нами.
Николай подал Леониду вицы – заплетенные петлёй берёзки, которые Леонид надел на стожар и по одной из них спустился. Он даже не смог стоять на ногах, так и сел у стога. Сели и мы.
И только тут пошёл дождь.
– Ну, крестись, – сказал я.
Леонид только судорожно хватал воздух, растирал ладонью заливаемое дождём лицо и всё кивал и кивал. Наконец прорезался и голос.
– Да, – говорил он, – да, да, да!
Четыре немецкие пишущие машинки
Валентину Распутину
О, как писалось в молодости! Быстро, весело, помногу. Ну не печаталось, не издавалось, что из того! Сказал же Гоголь: «Печать вздор! Всё будет в печати!»
О, незабвенная моя первая пишущая машинка! Изношенные буквы, кривые строчки, изорванные, избитые тринадцатимиллиметровые ленты. В конторе лесхоза она была, и я ходил на неё смотреть. Даже не смотреть, а хоть взглянуть издали. Отец говорил, что ждут новую, а эту он возьмёт себе, то есть для меня. И я дождался этого дня! Отец научил меня поднимать и опускать валик, вставлять листок, устанавливать интервал между строк. Я очень волновался и от этого резко и сильно ударял по клавишам. И вот – я написал свою фамилию. Печатными буквами! О, не смейтесь над отроком – это было событием для человека, дерзающего осчастливить своим присутствием мир. Не помню, что потом печатал, конечно, стихи, но вот машинописные буквы фамилии на светло-жёлтой бумаге помню. Нет, и стихи вспомнил:
Мир, сплотив миллионы сердец,
К коммунизму идёт,
А его ведёт
Товарищ Сталин – наш второй отец.
Всё-таки не первый. А машинка «Москва» была первой. Она досталась мне уже почти полной развалиной, и я скоро превратил развалины в руины. Но дело обучения машинописи пошло-поехало. Учил я себя писать на машинке варварским способом, вначале одним пальцем тыкал, потом двумя. Если палец промахивался и нажимал не ту клавишу, я этот палец в наказание за промашку кусал. Зубы были крепкие, грамотность повышалась быстро.
Достать новую ленту было невозможно. И опять же отец приносил ленты, уже избитые, обесцвеченные. Бывало, что яснее первого, лицевого, экземпляра были вторые и третьи, которые шли под копирку. Тут я запнулся: уже надо объяснять, что такое копирка. Получается, пишу не для молодёжи, а для старшего поколения. Нынешний школьник в сочинении по повести Гоголя «Шинель» сообщает: «Акакий Акакиевич работал ксероксом». А что? Он же переписчик, размножал бумаги. И мне Акакий ближе и понятнее, чем все эти ксероксы, факсы, принтеры, файлы, мегабайты, сайты, принтеры, картриджи, сканеры, всякие виндоусы, яндексы, мейлы, флешки, – всё это кажется мне каким-то новым матерным языком демократической словесности. Только в электронном адресе завитушка в середине называется по-русски, да и та собака.
Итак, о пишущих машинках. Конечно, вначале всегда писал от руки. Но рукопись в редакцию не понесёшь, время не пушкинское, нужна рукопись машинописная. Да и почерк свой сам иногда не понимал. Ещё и фигурял выражением Стендаля, что ужасный почерк – признак гениальности. Переписывал попонятнее, отдавал машинистке. Дорого. Хотя застал времена, когда машинописная страница – тридцать строк – стоила десять копеек. Но при моей тогдашней нищете и это – деньги. Надо было заводить свою машинку. А как купить? Нужно было разрешение. Да. А где взять? Ещё же не был членом Союза писателей. Где-то, как-то, после кого-то обзаводился старьём, мучился, брал напрокат… Помню эти «Ундервуды», «Оптимы», «Прогрессы», но всё было старым, ненадёжным, ломалось. Потаскай-ка в ремонт да поплати-ка за него. Мечталось о новизне.
И вот – свершилось! Я – член СП СССР, у меня в руках талон на немецкую пишущую чудо-машинку «Эрика». По тем временам лёгкая, в серо-голубом футляре, будто внутри гармошка или маленький аккордеон. Меня даже спросили в автобусе: «На свадьбу играть едешь?» За этой машинкой я вначале ухаживал прямо как за первой любовью. Берёг, протирал, смазывал. И она отвечала взаимностью, была безотказной. Выносила и дальние переезды, и разницу температур, и молотила по четыре, по пять экземпляров. Притащил её раз к родителям в свою Вятку, работал на ней в чулане, но вскоре нагрянули кировские писатели, вытащили в поездку по области, и мы ездили дня три. Выступали, радовались жизни. Хотя и дожди шли, а всё равно хорошо – родина! Вернулся к родителям, пошёл в чулан проведать свою «Эрику» – батюшки мои, стоит в луже воды, весь поддон залило. Но ведь вот что такое немцы – вылил из машинки воду, протёр полотенцем, вставил сухой, чистый лист и стал работать.
А дальше хоть и стыдно, а надо рассказать, как я изменил «Эрике». Лет пятнадцать она безропотно тянула лямку. Уже была и контужена: я с ней выпрыгивал из электрички, она кувыркалась по асфальту платформы. Раз зажало её в грузовом лифте, но всё она жила, всё пахала и пахала.
И вот событие – в Литературный фонд завезли австрийские, то есть опять же немецкие, пишмашинки «Юнис люкс». Аккуратные, плосконькие. Футляр красно-белый или сине-белый. Но распределяли вначале не всем, а лишь делегатам писательского съезда. Каковым я уже и был, и эту «Юнис люкс» схватил сразу в обнимку. Выбрал, конечно, цвета моря и белых над ним облаков. Как элегантна, как легка! Какой шрифт, как мягко скользила каретка, как неслышно проворачивалась вместе с бумагой! Я её полюбил, а уж как она меня-то любила! Именно она соблазняла меня сразу набирать, а не мучиться с рукописью. Но я всё-таки не поддался. Хотя официальные письма, иногда статьи шпарил на этой «Юнис» прямо на чистовую. Но что касалось рассказов и повестей, тут всегда требовалось рукописное. Хотя уже не перьевой писал, а, для скорости, шариковой. Но прямая связь: голова-сердце-душа-рука-ручка-бумага сохранялась и при шариковой.
О бедной «Эрике» вспоминал редко, и всегда с оттенком вины перед ней. Какая выносливая была, как мы с ней в ванной или на кухне коммуналки прокручивали сотни страниц, да ещё и по нескольку экземпляров, легко ли! Однажды сел и за «Эрику». Прочистил, спугнув маленького паучка, зарядил листок. Печатаю – нет мягкого знака. Немка моя за годы разлуки огрузинилась. «Гогол, – сообщала она, – болшой русский писател, любил сол и фасол». Опять задвинул её под стол.
Жизнь моя переползла за полвека, уже было полдомика в деревне, в Подмосковье. Возить туда-сюда машинку, эту бело-синюю полинявшую красавицу, не хотелось. Везёшь её, думаешь сесть за работу, а чаще всего даже футляра не снимешь. Чего и снимать, уже пора ехать обратно.
Опять вспомнил про «Эрику». Давай её отремонтирую и вывезу на постоянное место жительства, на почётную старость в деревню. Может, ещё вместе и потрудимся. Но уже такие машинки не брали в ремонт, на всех полках нагло разлеглась электронная продукция. Уже почти все мои соратники по перу обзавелись и компьютерами, и принтерами, писали удивительно помногу, уже ворвался интернет, возможность передавать написанное в редакцию, не отрывая сидячего места от стула. Я так не мог. И не от упрямства, просто мне надо было поехать в редакцию самому, отвезти рукопись, попить чаю с редакторами, поговорить с ними не по телефону. Компьютерные тексты ужасали меня тем, что были уже будто бы законченными, книжными, как их править? Тогда как с машинописью я не церемонился, черкал вдоль и поперёк. Напишу от руки, поправлю, перепишу на машинке, полежит, поправлю, опять перепишу. А тут вроде как всё уже и законченное.
На очередной день рождения родные и близкие, беря в рассуждение наступление века электроники и, видимо, надеясь, что с новой техникой и я буду писать по-новому, подарили мне, нет, пока не компьютер, а пишущую машинку, но электронную. Дорогую, опять же немецкую, с памятью. Мне говорили, что это такая же машинка, как и «Эрика», как и «Юнис люкс», но только облегчённая, упрощённая, отлаженная. Мне показали, как на ней работать. Но я точно знал, что у меня ничего не получится, и за это электронное немецкое чудо не сел. Хотя имя ей дал: «Электронка».
Однажды, оставшись дома один, включил её. «Электронка» загудела, замигала, каретка подёргалась, поёрзала влево-вправо, вверх-вниз и, как образцово-показательная, остановилась в начале строки. Я нажал клавишу с буквой «а», и буква появилась на бумаге с такой ошеломляющей моментальностью, что я понял: никаким моим мыслям не угнаться за такой скоростью. Особенно поражало то, что можно ни о чём не заботиться, ни об интервале, ни о красной строке, ни о конце строки. «Электронка» молотила исправно. Вдобавок всё помнила и даже исправляла ошибки: внутри, где-то там, был у неё словарик. Кроме основной двухцветной ленты в ней была ещё лента коррекционная, полупрозрачная. Она выскакивала откуда-то снизу и подставляла себя под удар в том случае, когда ловила меня на ошибке, и сама забивала неверную букву, тут же скрывалась, тут же возвращалась лента основная, тут же щёлкала буква правильная.
Нет, не смог я полюбить эту «Электронку». Но и она была взаимна в нелюбви ко мне. Шипела, шипела негромко, но, конечно, по-змеиному. Даже отодвигалась, огоньки мигали презрительно. Работу она исполняла чётко, но холодно, как подёнщину. Когда я выключал её, в ней ещё долго что-то передёргивалось, потрескивало, будто она обсуждала и критиковала всё, что я её заставил написать.
Но вот что случилось с «Юнис», с моей верной малышкой «Юнис». Она с горя заумирала. Ещё бы – хозяин завёл какую-то новую лакированную стерву.
Умирание «Юнис» я понял, когда, устав от того, что «Электронка» совершенно вампирски вытягивает из меня поток сознания, что я обессилеваю от сидения перед ней и что начинаю писать как-то рассудочно и умственно, то есть неинтересно, тогда я решил вернуться к «Юнис». Но та не захотела работать. Совсем умерла или забастовала, не понял. Я сказал ей: «Служила ты долго и честно, я тебя не брошу. Тебя и „Эрику“ отвезу в деревню, буду на вас любоваться и вспоминать золотое время».
Но, товарищи, вы понимаете, что это значит – сказать любимому существу о расставании. «Юнис» моя молча собралась в путь, но по дороге пыталась скрыться. На автовокзале пошёл купить хлеба, «Юнис» спряталась за кассой. В автобусе забилась под сиденье и затаилась, я чуть её не забыл. Принёс в свои полдома, открыл футляр, протёр тряпочкой. Заменил ленту, зарядил бумагу. Нет, не прощала «Юнис» измены, безмолвствовала. Ладно, заслужил. Зачехлил её, поместил на книжную полку.
И вот что произошло назавтра. Назавтра мне позвонила знакомая из серьёзного учреждения и сообщила, что у них меняют всю пишущую технику и что я могу приехать и забрать легендарную машинку ещё конца девятнадцатого века. Называется «Континенталь». Немецкая. Что она вполне исправная, на ходу. Надо ли говорить, что я помчался за ней тут же. Как её припёр в общественном транспорте, сам удивляюсь. Она же большая, корпус стальной, килограммов двадцать. Её можно было с пятого этажа бросать, и ничего бы с ней не случилось. Позвал товарища, который понимал в технике. И он и я были в восторге от «Континенталя». А домашние в ужасе, назвали его динозавром. Я ему присвоил имя «Бисмарк», ибо в годы создания «Континенталя» как раз Бисмарк правил Германией. Мой «Бисмарк» был произведён на диво. Высокий, основательный, сверкающий кнопочками шрифта, серебряным звоночком, сигналящим о близком завершении строки, никелированными ручечками, планками, рукоятками, переключателями. Мы во всём этом к концу дня разобрались. Смазали наилучшим часовым маслом, опробовали. Мягкий ход, деликатная смена режимов. Шрифт старомодный, но такой приятный для глаз. Я специально поставил «Бисмарка» рядом с электронной дамочкой и спросил:
– Ну что, краля, а ты будешь исправно работать через сто три года, а? Да нет, тебя из мира выпрут всё новые и новые модификации офисной техники, так ведь?
«Электронка» презрительно молчала, а «Бисмарк» спокойно возвышался и, как честный работяга, ждал команды к труду.
Но вначале я освободил его от соседства. Вынес «Электронку» во двор, но не выбросил в мусор, всё-таки надо уважать техническую мысль, поставил на парапет, аккуратно сложил на крышке провода, простился. К обеду её кто-то приватизировал.
О, «Бисмарк» был великий трудяга. Я взгромоздил его на самое для него подходящее место, на дубовый подоконник, и начал строчить: «Немецкая точность и русская духовность в союзе меж собой могли бы дать миру образец симфонии государства и личности, труда и молитвы, союза небес и земли… – Высокопарный текст очень нравился „Бисмарку“. Я продолжал: – Две крупнейшие монархии Европы были последними способными спасти мир от всех искажений пути к спасению. Они были преднамеренно и целенаправленно поссорены и войной друг с другом проложили путь к гибели, называемой демократией. Но, несмотря и на Первую, и на Вторую мировые войны, русские и немцы…» – Тут я вновь тормознул: как это несмотря на?.. А на что смотря?
В общем и целом я был доволен «Бисмарком». Вывезти в деревню всё-таки пришлось, так как своей громадностью он устрашал домашних. Причём всё время требовал работы. Как бы даже молча упрекал за безделье. В деревне я как-то автоматически взял с полки «Юнис», снял футляр. Вставил, как делал это сотни раз, писчую бумагу, прокрутил валик, сдвинул каретку вправо, ударил по клавишам. И – «Юнис» откликнулась, заиграла. Поехала влево каретка, затрепыхался поглощаемый листок, покрывающийся, как ныне говорят, текстовой массой.
Может, это кому-то и смешно, что я наделяю машинки человеческими качествами, но я объяснил возвращение «Юнис» в строй тем, что с «Бисмарком» у неё наладились прекрасные отношения. Он молотил официальные письма, предисловия, статьи, а «Юнис» очень обожала писать «про любовь». «Ах, как остро не хватает в мире любви! Ах, как хочется внезапно охватываться мыслями о любимом (вариант: о любимой)! Ах, не надо нам ждать, чтобы нас любили, надо любить самим! О, главное в любви – благодарность тому сердцу, в котором живёшь. Нельзя из него уходить: оно сожмётся и начнёт умирать». Это «Юнис» вроде как сама писала. Я же, сгорбившись над ней, выпечатывал: «В зрелые годы не любят внезапно, а любят, как дышат». Самое смешное, что и «Эрика» встала в строй, и как-то сам собой вернулся мягкий знак, а с ним и фраза: «Гоголь – великий русский писатель». То есть «Эрика» всё мне простила и служила на совесть. Лишь бы смазывал иногда. Да даже и без смазки не скрипела, впрягалась и тянула лямку. Это не «Бисмарк»: он работает-работает и вдруг резко тормозит. Такой немецкий порядок – орднунг. Надо бежать за маслёнкой.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































