Текст книги "Эфирное время"
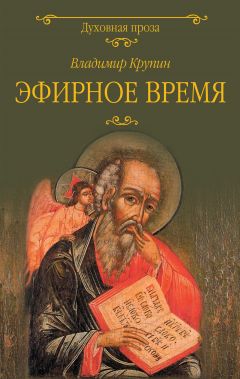
Автор книги: Владимир Крупин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 23 страниц)
Часть 4. Выпало из бумаг
Предисловие
В завалах записей, которые уже бесполезно разбирать, всё же встречаются иногда какие-то листочки, которые немного жалко. Вот этот листок, совсем истёртый. Он – один из нескольких, которые исписал большим белым стихом об ораторах перестройки. Помню позыв к этому стиху – по телевизору настойчиво показывали «Броненосец „Потёмкин“», который, как представили в начале, «является лучшим фильмом всех времен и народов». Прямо Сталин какой-то киношный. Фильм, конечно, более чем простенький, заказной, лизоблюдский перед большевиками. Ну лестница, ну коляска. Но стал читать титры. Интересно. Матрос говорит священнику: «Отойди, халдей». Далее омерзительный кадр – православный крест втыкается в палубу. Но зачем я о фильме? Титры в нём меня насмешили. Цитирую: «Охрипшие от непрерывных речей глотки дышат трудно и прерывисто». Я без сожаления переключился на другие телеканалы. И на всех были такие же революционные глотки. Особенно надрывались и учили нас жить приехавшие миссионеры. Ради улыбки я тут же и написал стих «Охрипшие глотки». Жаль только, сохранился один еле читаемый (вытертый карандаш) отрывок – листочек. Может, когда найдется и остальное.
Охрипшие глотки
…Все по кругу кричат – выражаются,
Обсуждают, склоняют Россиюшку.
И кричат тут писцы израильские.
К ним пристали, примкнули, примазались
Удалые спецы словоблудия,
Докторанты школ демагогии,
И схоластики, и софистики.
Ай, велики мужи болтологии.
Ай, любители все словопрениев.
Хлебом их не корми, дай трибунничать.
Дай ты им дураков околпачивать,
На критическом вече покрикивать
И барыш на сем крике наращивать.
Вот зачали зомбировать зрителей
Языков своих долгодлинием,
Да заморских мозгов производствием.
Что ни брякнут, всё им мы не по сердцу,
Что ни сбрешут – всё против России то.
Прибежали хохлы им подвякивать,
Приезжали поляки подвизгивать…
Пока только это. Пустячок, конечно. Но уж очень тогда, в конце 80-х – начале 90-х навалились на нас общемировые ценности. А по мне, где общемировое, там и масонское, а где гуманитарное, там нравственный фашизм. Это же всё без Бога, а значит, бесчеловечно.
Плачущий чекист
Не надо думать, что слежка за нами в годы СССР была чем-то необыкновенным. Любое государство, чтобы жить, должно иметь службу своей безопасности. Это совершенно нормально. Да, следили. Ну и что? И правильно делали. А уж как сейчас-то следят!
О слежке за собой я узнал первый раз в институте на втором курсе, когда наши студенты поехали в Чехословакию, и я должен был ехать, а меня не пропустили при оформлении паспортов. Не поехать – это ладно, но почему не пустили? Обидно же! Тем более в программе стоял мой доклад о военной прозе. Я в ректорат – объясните. Вскоре объяснили. Вызвали в районное управление КГБ, и очень вежливый человек разъяснил, что я имел дело с секретной военной техникой и от этого я на пять лет после службы стал невыездным. Он даже пошутил, что после пяти лет мои сведения будут никому неинтересны. Техника уйдет далеко вперед. Конечно, меня оскорбило недоверие государства ко мне, преданному гражданину, но что ж, порядок есть порядок. Узнал причину и успокоился, а потом и перед друзьями даже выхвалился: вы в Праге были, а я засекреченный.
Вот. А второе знакомство с органами было гораздо позже и гораздо длительнее. Уже я за границей побывал, уже и книги выходили и здесь и там, тогда и привелось познакомиться с человеком с Лубянки. Он был Николай Николаевич. Это, конечно, для меня, а как по паспорту, не знаю. Какая разница, был бы человек хороший. А он как раз таким и был.
Как-то так получилось, что меня привечали диссиденты. Думаю, оттого я был им интересен, что писал работы, которые не печатались, резались и редакторами, и цензурой. Смешно сейчас – повесть «Живая вода» не мог напечатать семь лет, да и то вышла вся отереблённая. Так же и другие. Вроде ничего особенного, я не обижался, борца за правое дело из себя не корчил. Но писал, что видел, что чувствовал, иначе не мог, вот и вся заслуга. Кстати, не такой уж я был страстный патриот, чтобы отказаться от публикации на Западе не напечатанного здесь. И охотно отдавал для прочтения свои рукописи тем, кто имел отношение к издателям «тамиздата».
Но для Лубянки я стал интересен прежде всего знакомством с писателями Львом Копелевым и Георгием Владимовым. Были и другие, но эти, особенно последний, выделялись даже среди инакомыслящих. Владимов тогда, год примерно 1974-й, возглавил Комитет помощи политзаключенным. Об этом он со мной и не говорил. Об этом говорили вражеские голоса. Правда, жена Георгия Николаевича, Наталья, бывшая жена клоуна Леонида Енгибарова говорила о всяких эмиграциях, отъездах, посадках куда охотнее. Её можно было понять: она – дочь репрессированного директора Госцирка. Мне же Георгий Николаевич нравился как писатель. Именно его повесть «Большая руда» и роман «Три минуты молчания» я, что называется, пробивал в издательстве «Современник», где был старшим редактором и секретарём парторганизации. То, что был секретарём, помогало и совсем не смущало ни Владимова, ни Копелева. Даже любопытно: как так – вроде свой для партии, а и его режут. То есть не меня, а мои повести и рассказы.
Николай Николаевич, вернёмся к нему, назначил мне встречу в отдельном номере гостиницы, теперь уже забыл, или «Москвы» или «России». Скорее «России». Да, этаж третий (поднимались пешком, но для данного рассказа такие детали неважны). Деликатно расспрашивал о моих знакомых, которые имели знакомых за рубежом. Я был начеку. «Что я могу сказать? Хорошие писатели. Копелев даже и не писатель, исследователь творчества Гёте и других немцев. Да, там издаются. Но это же их дело».
Одной встречи чекисту оказалось мало. Через неделю мы вновь беседовали. Он взывал к моей партийной совести. «При чём партийная совесть? – отвечал я довольно смело. – У меня и такая есть. Я стараюсь помочь Владимову издать роман. Он о рыбаках, о рабочем классе. Это же как раз то, что ждёт партия от писателей».
– А вы можете написать свои соображения?
– О романе? Я писал редзаключение, оно в деле, можете запросить.
– А всё-таки?
– Я же нового ничего не напишу.
Внутренне я уловил его желание получить от меня подписанную мной бумагу для его всемогущего Комитета. Надо ли говорить, что тема доносов, разоблачений, трусости была для пишущих интеллигентов одной из основных. Он давил и давил. Я уже было чуть не сдался, думая: а что такого, если я напишу в бумаге, что Владимов – хороший писатель, пишет о рабочем классе. Да ему премию надо дать, а не следить за ним. Но Бог спас: время встречи с чекистом истекло. Уже было далеко за конец рабочего дня, а может, номер этот был нужен для следующей встречи, Николай Николаевич засобирался. Но всё-таки очень просил написать о Владимове.
– Вы говорите: он хороший писатель, так? Вот и отобразите. И мне будет легче его защищать.
– А ему что-то угрожает?
– Не то чтобы, но подстраховаться не мешает.
– Но, Николай Николаевич, если его здесь не издать, там издадут.
– За него не переживайте, издают. И гонорары переправляют.
Чекист подарил мне книгу на русском языке о Солженицыне. Написанная женщиной, она убедительно рассказывала, какой Солженицын эгоист, как он всех использует, как думает только о своей известности, как он был на блатной шарашке, даже вроде того, что сотрудничал с органами.
И по дороге домой, и дома я всё прокручивал слова чекиста. Неужели готовится посадка Владимова или высылка, так, что ли? Надо как-то Владимова предупредить. Но как? Поневоле я попал в ситуацию, в которой надо было быть настороже. Может, уже и за мной наблюдение? За Владимовыми-то уже точно следили. Напротив их пятиэтажки на Филёвской улице возводилась девятиэтажка, и Наталья уверяла, что там установлена направленная на их квартиру следящая аппаратура.
А надо сказать, что Владимов писал очень толковые внутренние рецензии. Мы подбирали ему рукописи потолще, чтобы выписать гонорар побольше. Так же, помню, мы подкармливали и Владимира Дудинцева, и Олега Волкова. Да многих. Вскоре, когда я ушёл из издательства и со мною расторгли все договоры и нигде не печатали, я года три-четыре жил именно на рецензии. Так я к чему. На работе спросил секретаря редакции, пришла ли с внутренней рецензии рукопись, закреплённая за мною. Не спросил, принес ли Владимов рецензию, а пришла ли рецензия. Нет?
– Так позвоните рецензенту, поторопите.
Секретарь позвонил, поторопил.
– Обещал к понедельнику.
А понедельник был обязательный присутственный день. Так что я не специально вроде бы пришёл, а исполняя служебные обязанности.
Владимов обычно появлялся на очень краткое время. Отдавал работу, брал следующую и уходил. Многие редакторы хотели иметь такого рецензента, но я, как его редактор, имел на Владимова монополию, то есть именно я и приготовил ему очередную работу. Открыв её при нём, положил в неё бланки квитанций, которые заполняли рецензенты для оплаты. Протянул папку Владимову и поглядел в глаза. Как раз вместе с квитанциями я положил записку, что надо поговорить. Конспиратор он был гениальный. Через десять минут в редакции зазвонил телефон.
– Вам девушка звонит! – весело сказал секретарь редакции.
– Лишь бы не пишущая, – ответил я, взял трубку и услышал голос Владимова.
– Стою у входа в метро, – сказал он и повесил трубку.
– Что-то разорвалось, – пожал я плечами.
– Испугалась.
Я подождал для виду, потом сказал, что пойду в магазин. У метро мы встретились, я рассказал о чекисте. Владимов молча курил. Потом ещё закурил, но быстро выбросил сигарету в урну.
– Да ерунда, не переживайте.
– За вас переживаю.
Потом, потом он уехал в Германию, ещё куда-то, но умирать вернулся в Россию.
О войне
Колхозный ток. Молотьба. Колотится, вздрагивает молотилка с конным приводом. Слабый свет сквозь пыльные, забранные в решетку фонарные стёкла. Течёт на чёрный брезент жёлтое зерно.
Подаёт снопы в молотилку Фёдор Иванович. Он упёрся деревянной ногой в станину.
Нагибается, хватает сноп, кладет его колосьями к устью молотилки, раскатывает ровной полосой и чуть подталкивает. Зубцы барабана зажимают колосья, и подносящие снопы то появляются, то исчезают. Они вдёргивают внутрь.
Место у молотилки освещено сильнее. Женщины держат снопы вперехват, как детей.
Я отгребаю зерно от лотка, женщины жестяными совками ссыпают его в мешки.
Ритмично грохочет молотилка.
Фёдор Иванович был конюхом. Когда вернулся из госпиталя, стал председателем. Он привёл с собой в колхоз слепую лошадь, тоже побывавшую на фронте. Лошадь ходит в темноте по кругу, подгонять её специального человека не приставлено – Фёдор Иванович понукает её через бревенчатую стенку. Он кричит на всех: на лошадь, чтоб быстрее ходила, на женщин, чтоб быстрее подтаскивали снопы, на мальчишку моего возраста, Тольку, чтоб быстрее разрезал свясла, на меня, чтоб быстрее отгребал зерно, на других женщин, чтобы быстрее насыпали в мешки.
Он злится не из-за того, что мы плохо работаем, а из-за того, что болит натёртая протезом нога, что из мужиков остался только он да мы с Толькой, ему жалко лошадь, жалко нас, он злится из-за того, что молотьба, бывшая до войны праздником, сейчас только работа.
Дребезжит молотилка, рывками вдергивает барабан снопы. Женщины торопятся: у всех дома некормленые дети, недоеные коровы.
Деревня рядом, но отсюда не видна. В окнах нет света: ребятишкам не велено зажигать коптилки, чтобы не сделать пожара.
Уже пала роса.
Никто не злится на Фёдора Ивановича: ни женщины, ни мы с Толькой, ни лошадь, – Фёдор Иванович кричит, чтоб быстрее закончить. Нога его болит сильно, но никто бы не догадался, если бы сквозь сердитый крик не прорвался наконец стон.
– Шабашим?! – кричит одна из женщин.
– Толька! – кричит Фёдор Иванович. – Встань! Ещё сотню пропустим.
Толька подскакивает, сменяет Фёдора Ивановича. А Фёдор Иванович отстёгивает, отбрасывает протез, садится на пол и разрезает свясла на снопах.
– Ровней расстилай, – кричит он, – ровнее! Не комками. – Он командует через стену лошади: – А ну ещё! А ну пошла! – И там, в темноте, лошадь убыстряет ход, обшаркивая ногами мокрые лопухи на краю круга.
Женщины торопятся подтаскивать снопы, отметать солому, насыпать зерном мешки, и я тороплюсь отгрести от лотка пыльное теплое зерно.
Я уже наелся зерна и больше не хочу, Я устал, но мне стыдно сказать об этом.
Вот кончим, и никто не засмеётся, не затеет веселой возни, все торопливо побегут по домам.
Я завидую Тольке: он стоит подавальщиком на месте взрослых мужиков. Я высовываюсь, вижу его потное, грязное, напряжённое лицо. И он взглядывает на меня и подмигивает: мол, вот где я! Голова его резко дёргается, исчезает.
И раздаётся крик…
Я ничего не понимаю, вскакиваю, слышу, как Фёдор Иванович гаркает лошади остановку.
Стала молотилка. Висит в воздухе пыль от соломы.
Навзрыд кричит, бьётся о землю Толькина мать.
Кладут Тольку на снопы. А он, боясь посмотреть на левую руку, которой нет, обливаясь кровью, испуганно говорит:
– Дяденька, не ругайте меня! Дядя Федя, я не нарочно.
Через пять лет Тольку забракует призывная комиссия райвоенкомата.
Это всё, что я могу рассказать о войне.
Зелёнка
В наше село были вывезены дети блокадного Ленинграда. Вывезли их совсем крошечными. Когда окончилась война, многих нашли оставшиеся в живых родители, а многие так и остались детдомовцами. Окрепшие на вятском молоке, живущие в любви к ним и жалости, детдомовцы оказались вскоре и вредными, и драчливыми. Круглосуточная совместная жизнь сплачивала их, им было легко побеждать нас, измученных к тому же ещё и межуличной враждой.
Мы звали детдомовцев бандой зелёных. А звали потому, что их лечили не как нас, не йодом, а зелёнкой. Тогда я её впервые увидел. Детдомовцы были лихие ребята, все перецарапанные, поэтому все перемазанные зелёнкой. Но наступили школьные годы, детдомовцы были включены в число обычных школьников, и у них, и у нас появились новые друзья. Только мы не могли понять, зачем надо воровать картошку для костра, если мы её и так принесём. Другое дело – воровать старые аккумуляторы в МТС, чтобы свинец из них переливать на битки, это и мы делали.
Все наши игры были военными: с разведчиками, пленными, землянками, штабами, трофеями. Спасибо нашим тогдашним учителям военного дела и физкультуры: они наши стихийные сражения превращали в увлекательные состязания по скорости разжигания костра, переправе через реку и чтоб сохранить сухими спички, по ориентированию в лесу по компасу, а зимой – по бесстрашному катанию с крутых гор и прыжкам через трамплин. Так и говорили: через трамплин, а не с трамплина. Эти трамплины можно было и объехать, испугавшись в последний момент. Ещё бы не испугаться: на нем так подбрасывало, что земля, покрытая снегом, долго летела под тобой где-то внизу. Тут уж мы давали фору ленинградцам.
Детдомовцы стали бывать и в наших домах, а мы ходили к ним. Помню случай, когда один мальчик стал настолько своим в многодетной семье, что его уже не отличали от своих и он стал называть мамой маму своего друга. Также помню, как инспектор роно взяла на воспитание троих мальчиков. Они выросли у неё, одинокой, не имевшей своих детей.
А тот первый мальчик рос и рос в многодетной семье, и ему уже было лет четырнадцать, когда его разыскала настоящая мать. Она приехала вся такая нарядная, с подарками. И он, её сын, сказал ей:
– Я понимаю, что вы моя мама, но я от своей мамы никуда не уеду.
Эта женщина пожила у них несколько дней, пыталась помогать по хозяйству, ходила с сыном пастушить корову и телёнка, потом уехала. От неё потом часто приходили посылки. Им, многодетным, это очень помогало.
Уже нет того детского дома, только стоит на этом месте памятный знак, и ещё иногда приезжают в село бывшие детдомовцы, седые мужчины и женщины, приезжают на свою вятскую родину.
Умру любя
Первое, что я запомнил у Пушкина наизусть, была поэма «Цыганы». Было мне лет шесть. Я не знал значения знаков препинания, разделения на строки, не понимал смысла скобок, я читал слова подряд, так и заучивал. Не специально, а от частого перечитывания. Рука магнитно тянулась к книге, привычно раскрывалась на влекущем месте, и я шептал: «…они сегодня над рекой в шатрах изодранных ночуют». Всё было настолько точно, что я и понятия не имел, что это написано больше ста лет назад. Цыгане приходили в село летом, разбивали изодранные шатры недалеко от реки, ходили по улицам. Нас к табору не отпускали, цыган побаивались, мы смотрели издали. А благодаря этой поэме я как будто был вместе с ними, знал, что там у них костры, сидит у костра старый цыган и рассказывает о Мариуле и успокаивает Алеко. Ну разлюбила тебя Земфира, ну что ж делать, все они такие, цыганки.
Я читал и читал, а как добирался до самого главного места, забывал дышать и читал взахлёб:
«Вдруг видит близкие две тени и близкий шёпот слышит он над обесславленной могилой первый голос пора второй голос постой первый голос пора мой милый второй голос нет нет дождёмся дня первый голос уж поздно второй голос как ты робко любишь минуту первый голос ты меня погубишь если без меня проснётся муж Алеко проснулся я куда вы не спешите оба вам хорошо и здесь у гроба Земфира мой друг беги беги Алеко постой куда красавец молодой лежи вонзает в него нож Земфира Алеко цыган умираю Земфира Алеко ты убьёшь его взгляни ты весь обрызган кровью о что ты сделал Алеко ничего теперь дыши его любовью Земфира нет полно не боюсь тебя твои угрозы презираю твоё убийство проклинаю Алеко умри ж и ты поражает её Земфира умру любя умирает…»
Так я и читал: «Алеко умри ж и ты поражает её Земфира умру любя». И ему не отомстили, только и сказал старик: «Ты зол и смел оставь же нас прости да будет мир с тобою».
Когда к нам приходили цыганки с детьми, мы обязательно что-то давали им. Раз я отдал маленькой неумытой девочке-цыганке цветные тряпочки для её куклы. Её мать поняла всё величие моего подарка, мне же ещё предстояло объяснять свой порыв сёстрам, взяла мою руку, повернула ладонью кверху:
– Ой дорога, дорога, ой дальняя дорога. Будешь ты полковником, будет у тебя жена Маруся, и проживёшь ты восемьдесят лет.
Два её предсказания уже не сбылись.
Сашка
У Сашки отец водитель, мама продавец и ещё есть бабушка. Бабушку он не слушает, маму тоже, у него один авторитет – отец. Сашке пять лет. Он уже разбирает буквы, но особенно у него получается арифметика. Вот он играет с соседской девочкой Варей. У Вари очень шумная мама, поэтому Варя очень тихая. Варя считать ещё не умеет, поэтому Сашка её всё время обманывает. Вот они бросают по очереди палочку маленькой собачке Туське. Туська очень любит бегать за палочкой.
– Ты близко кидаешь, – говорит Сашка. – Ей короткие рейсы делать невыгодно. – Он размахивается и бросает палочку.
Туська сразу кидается и с ходу хватает добычу.
– Тормоза у неё хорошие, – одобряет Илюша.
Он бросает и бросает, Туська бегает и бегает. Варе тоже хочется поиграть.
– Ладно, – решает Сашка. – Давай бросать по три раза. Чур, я первый. – Он бросает и с левой, и с правой руки.
Варя чувствует, что её обманывают.
– Теперь я, – говорит она.
– Нет, я, – возражает Сашка. – Это же я все нулевые бросал.
Вскоре бежит кататься с горки. Горка рядом с улицей, поэтому бабушка идёт следом и дежурит. Бабушка уже замёрзла и умоляет:
– Сашка, ты же говорил: ещё десять раз, и пойдём домой. А ты уже десять по десять раз проехал.
Румяный и довольный Сашка тащит на горку санки и заявляет:
– Считать надо уметь.
Интересно, кем будет Сашка, когда вырастет? Наверное, бухгалтером. У новых русских.
Рассказ о двух повешенных
Ну хорошо, мы, любящие России, уже ничему не удивляемся, то есть в смысле издевательств над Россией. В основном это издевательства публичные. Вот выпустили на экран свинью гулять, а на свинье чёрной краской: «Россия». Вот иконы оскверняются. Вот реклама: царский посол ворует кофе, ну и так далее.
В чём секрет русского неотмщения издевательству над русским? Думаю, в русском осознании своей греховности. Это осознание выше многих. Праведно проживший монах говорит: «Плачьте обо мне, братья, потому что не приготовил я себе напутствия в вечность. Вот идёт день, после которого не будет другого утра. И будут муки, которые мы заслужили. И из пламени будем взывать: „Господи, Ты сотворил нас для жизни праведной, а мы уподобились скотам, считая плоть за главное в жизни. Забыли, что не деньгами платили за нас, а кровию Христовой“».
Какое же счастье сидеть в деревне одному, без телевизора, с восходящей на небеса молодой луной. Счастье – тихонько выходить во двор, чтобы не спугнуть скворцов, счастье – замереть над первыми цветами, да даже и такое счастье, чтобы горестно охнуть над погибшим ростком сирени.
Счастье-то счастье, но не уходит из головы ужас и цинизм только что виденного повешенного! Где? В самом центре Москвы, в начале Тверской, там, напротив Театра имени Ермоловой, сейчас контора Евросети. Контора эта – по-нынешнему говоря, офис. Там тебя не обхамят, но без денег к ним не приходи. И вот я зашёл и увидел, что при входе в Евросеть над головами входящих висит повешенный мужчина в галстуке, в хороших ботинках. На груди табличка: «Повешен за некультурное обращение с клиентами». Большей мерзости, цинизма и пошлости я никогда не видел и очень надеюсь, что не увижу. Вот это символ Евросети. Сеть её наброшена на нас, а над сетью висит повешенный манекен.
Возмущенный, я сказал офисным (читай: конторским) служащим:
– С чёрным юмором у вас в порядке.
Они, думая, что оценен их уровень, захохотали, довольные.
Нет, я человек старой закалки, а передо мной были люди новой формации. Закалка что-то значит, нас закаляли, а этих формовали, штамповали.
А теперь надо рассказать про второго повешенного. В тот же день поехал в своё Никольское. И мне первый встречный на остановке сказал:
– Чего Серёжик-то выкинул, а?
– А что Серёжик?
– Да повесился.
Ничего себе новость. Серёжика я знал давно. Крохотного роста мужичишка, он сильно пил. Пил с женой, потом её похоронил и напился сразу же. Ходил пить на могилу. Жил с матерью. Она не пила, умерла сама. То есть вот это неизвестно. У них загорелся дом, её утром нашли мёртвой. Может быть, она задохнулась в дыму. Огонь быстро потушили. Серёжик даже и не проснулся – спал на крыльце. Заметили соседи, вызвали пожарных. Вскоре дом снова горел. Тоже потушили. Говорили, что от проводки – дом старый.
Серёжик часто приходил ко мне. Конечно, за деньгами. Но не было, чтобы он цыганил деньги просто так. Он каждый раз обязательно что-то приносил. Он воровал на стройках. Строек в наших местах было много – Москва расползалась. Серёжик воровал всё, что мог унести. А так как был малосильным, то уносил немного.
– Дядь Вов, – говорил он, – возьми рубероид. Хотел крышу крыть, да раздумал. Купи, а?
Когда была жива жена, то приходил вместе с нею. Она не смела войти за калитку, стояла за ней и смотрела на меня молитвенно и отчаянно.
– Серёжик, – говорил я, – ну куда мне рубероид? Лучше я тебе просто так дам. Реанимируйтесь.
– Дядь Вов, – вздымал руки Серёжик, – дядь Вов, знаешь чего? Не знаешь, дядь Вов. Я же к тебе в крайнем случае. Я всё считаю, ты можешь не считать, я записываю, сколько тебе должен.
– Свечку поставишь в церкви, и ладно, – отвечал я.
– Да! – кричал он возбуждённо. – Да! Но одеться же надо, так же не пойдёшь. Да я и так за тебя молюсь. У меня и икона есть. Материна, ещё от её бабушки.
Нет, четко подумалось мне, не мог Серёжик сам повеситься.
– Это когда?
– Да с неделю.
Я подошел к дому Серёжика. А в дом уже было не войти: уже вся одворица была обнесена забором и внутри ходили рабочие. Меня внутрь не пустили, сказали: не велено.
Да, не мог Серёжик сам повеситься, помогли. И не от проводки загорелся его дом, а поджигали.
– Дядь Вов, – кричал он, – пойдём со мной, пойдём! Я тебе покажу, где проводка, а где загорелось. Там и бутылка с бензином. Поджигали меня, дядь Вов. Пожарник говорит: «Начали поджигать, всё равно сожгут».
Вот и весь мой рассказ. Теперь на месте дома Серёжика стоит угрюмая жёлто-красная домина, у ворот будка со сторожем. Иногда из ворот выезжает нерусская машина с задымлёнными стёклами. Да, в общем-то и плевать в эту сторону. Но вот жаль, не знаю, где похоронили Серёжика. С его смертью я лишился молитвенника за себя. Это главное.
А висит ли в конторе-офисе манекен, это мне уже и неинтересно. Злу не положено предела, ещё и не то увидим.
А Серёжика нет.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































