Текст книги "Эфирное время"
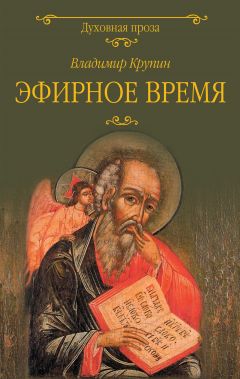
Автор книги: Владимир Крупин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 23 страниц)
В дело вмешались люди. Ведь не только бабы-Настины куры перестали нестись, но и подруги курочки-рябы. Чего-то надо было решать. Ну, кто же догадается, какое было принято решение? А такое, от которого курочка-ряба приказала долго жить. Увы. Когда на следующее утро наш реваншист пришёл на поле боя, хозяйский петух упал с первого удара. Еле встал, его снова сшибли.
Больше они не дрались. То ли от ран, то ли от любви к казнённой курочке-рябе красный петух стал чахнуть и умер бы от того или другого, но такой смерти, такой роскоши петухам не дозволено, и он умер досрочно.
А что же наш разбойник? А наш хоть бы что. Вновь стал драться, вновь загнал воспрянувших было Барсика в избу, а Ишку в конуру, вновь ходим по двору с палками, вновь внукам не велено приезжать. Только что загнал меня в избу. Сижу и записываю петушиную историю.
От Женьки для Жени
– …И она отвергла его. Он написал за одну ночь этот полонез и застрелился, и его хоронили под музыку полонеза.
– Эх! – вздохнул Женька. – А она?
– Она стояла на балконе и смотрела из-под чёрной вуали. Когда его несли мимо, она бросила на гроб белую бархатную розу.
– Да-а? – потрясенно протянул Женька. – Не промахнулась?
Женя с сожалением посмотрела на него:
– Ты же не напишешь к утру полонез и не застрелишься.
– Нет, – грустно ответил Женька. – Конечно, если б мне такую музыку написать, я б тут же!.. Но если ты думаешь, что от любви только музыку пишут да стреляются, так что же тебе Коля-баянист не напишет?
– Не напишет, а полонез разучит. Обещал на дне рождения сыграть.
– А что бы и не написать, если ноты знает?
– Ты не понимаешь, – сказала Женя, – записывать – одно, а писать – другое.
– Не знаю, – упрямо ответил он. – Если я сейчас ученик токаря, то буду токарем, как мой учитель Яша-золото, а потом стану инженером и сделаю такой станок, чтоб всё заменил: и токарный, и фрезерный, и резьбошлифовальный, и чтоб пластинки проигрывал. Это уж поверь! Сделаю.
– Тебе о чем ни начни говорить, ты всё на работу сведешь, – поддела она.
– Я ж тебе не запрещаю говорить о своей работе.
– А я её терпеть не могу: что за работа – кассирша.
– Иди на ферму.
– Бегом бегу! А кто за меня в институт будет готовиться? – И передразнила: – «На ферму»! Коров слушать?
– А что? – сказал Женька. – Коровы красиво мычат. Голодные – так, сытые – по-другому.
– У тебя всё – музыка. Мастерские – музыка, коровы – музыка. Ты музыки не понимаешь…
Потом он будет помнить не разговор, не её лицо (у него не останется её фотографии), а свежесть после короткого ночного дождя, мокрую жёлтую траву, чёткую, скошенную углом вставшей луны тень изгороди.
Расстались они по-хорошему. Правда, Женька опять не осмелился ни сказать своей любимой о любви, ни поцеловать её. Только всё просил не уходить, и она ждала, а когда он уже совсем решился и взял её за руки, Женя отстранилась и засмеялась:
– До завтра!
– Нет, – ответил он. – До дня рождения, до послезавтра.
Дело было в подарке: Женька не знал, что подарить. На следующий день он поехал в город, долго скитался по магазинам и смотрел на витрины. То, что нравилось, было дорого, то, что было по карману, – не нравилось.
«Дорого – мило, дешёво – гнило, – подумал Женька, – изобрету станок, поеду за границу опыт передавать, привезу ей…»
Но что он привезёт из-за границы, Женька не успел решить: чистый, дрогнувший над гулом магазина звук остановил его.
– Серебро, – говорил продавец. – Горская чеканка. – И ещё раз щёлкнул по бокалу, воскресив тонкое пение серебра.
– Сколько? – задохнувшись, спросил Женька.
Ему не ответили. Страшно боясь, что бокал перехватят, Женька нагнулся и прочёл цену, выставленную на чёрном бархате открытой коробки: девяносто шесть. Он побежал к кассе, заплатил, вернулся к прилавку.
– Вот, – сказал он. – Вот чек. Пожалуйста, мне бокал. Можно не заворачивать.
– Мальчик, – засмеялся продавец, взглянул на чек. – Девяносто шесть рублей, а не копеек. Это набор. По одному не продаём.
Женька вышел на улицу, выбросил чек.
«Рокфеллеры проклятые! Что нищий подарит! Только и остаётся музыку писать! Но как её напишешь?»
В магазине грампластинок он спросил:
– Полонез Огинского есть?
– Рубль двадцать, – ответила продавщица.
– Эта музыка?! Рубль двадцать?! Вы смеётесь.
– Я на работе, – сказала продавщица, – чего мне смеяться?
– Да я ж могу пять купить! – сосчитал Женька.
– Хоть десять.
Женька быстро решил: одну ей, одну себе, три в запас.
Но тут же передумал. Зачем пять? Разве они будут слушать отдельно? Вдвоём будут слушать. Сядут рядышком и заведут радиолу.
– Одну, – попросил он и бросился к кассе. Продавщица вынула из пакета сверкнувшую пластинку и поставила на диск.
– Не надо! – закричал от кассы Женька. – Не надо!..
– Надо же проверить! – возмутилась продавщица. – Порядок такой.
Раздалась музыка знакомая, но странная.
– Что-то не то, – извинительно сказал Женька, – и то и не то.
– Это такое исполнение. Хоровая капелла мальчиков. Только голоса. Ясно? – Она переставила иглу на середину.
Ровный светлый луч покачивался на пластинке, как на воде.
Женька взял пластинку:
– Его что, мальчики хоронили?
– Что? – не поняла продавщица. – Кого?
– Вы не злитесь, – сказал Женька. – Огинского.
– Мне злиться зла не хватает, – ответила она. – Откуда я знаю, мальчики или девочки.
В вагоне не сиделось. Женька оставил чемоданчик в купе и вышел постоять в тамбуре. Взгляд качался на ныряющих и взлетающих проводах.
Женька вернулся в купе и увидел, что соседка приспособила его чемоданчик себе под голову.
– Ведь постель можно взять, – буркнул Женька.
– Больно жирно на два часа. Тебе что, чемодан жалко?
– Не жалко, а…
– Да забери ты его! Я бы и свой подложила, да он большой. Чемодан под голову пожалел!
Женька достал пакет и вздрогнул – пластинка была сломана.
– А-а-а, – протянула женщина. – Пластинка! У вас только танцы на уме. Моя тоже всё радиолу просила. Сейчас спасу нет, хоть уши затыкай. – Увидела Женькино расстроенное лицо и добавила: – Сам небось раздавил. Я ведь головой только прилегла. Что я на нём, этим местом лежала?
– Тётя, – грустно сказал Женька. – У вас голова тяжелей этого места.
– Да заплачу я, подавись ты своей пластинкой! Сколько она? Рублёвку? Трёшницу?
– Миллион! – ответил Женька. – Нужна мне ваша трёшница!
Дома Женька попытался склеить пластинку, но не сумел.
– Здорово, прогульщик! – встретил его на работе Яша-золото.
– Я же отпрашивался, Яков Иванович.
– Ладно уж, – сказал Яша-золото, – становись.
Токаря Якова Ивановича прозвали Яшей-золотом, когда механик на собрании сказал: «Это, товарищи, не токарь, а для наших мастерских чистое золото».
– Вы знаете, – Женька помялся, – мне надо одну вещь сделать… Не для наряда.
– Ось к велосипеду? – спросил Яша-золото. – Давай, давай, прирабатывай.
– Зачем вы! – обиделся Женька. – Вы ж меня знаете. Я бокал после смены хочу выточить. В подарок.
– Рюмку? – усмехнулся Яша-золото. – Что рюмку – ты сразу поллитру выточи. А я по-стариковски болтики построгаю. – И отвернулся к станку.
Женька вздохнул, взял болт-образец, вставил в патрон своего старенького станка шестигранник и начал «строить», как выражался Яша-золото, болт.
Вскоре Яша подошёл, сердито спросил:
– Что там за подарок?
– Бокал хочу, – ответил Женька. – Я в городе видел такой – звенит! Я пластинку с музыкой вез, да тетка одна… раздавила.
– Надо же, – сказал Яша-золото. – Значит, бокал?
– Бокал.
– А из чего?
– Может, из нержавейки?
– Ха! Из нержавейки три смены проскребешь.
– А из меди? Или латуни?
– А где ты заготовку возьмёшь?
Этого Женька не знал.
– Ладно! – сказал Яша-золото. – Давай точи, а там посмотрим.
Когда в мастерских стихло, Яша-золото молча извлёк, закрепил и сцентровал на своём (на своём!) станке латунную заготовку.
– Загубишь – к станку не пущу, – сказал учитель. – Знаешь, как такие заготовки берегут? Цветной металл! – Женька ещё раз кивнул. – Как будешь делать, конусом?
– Да.
– Вверху нежненько закругли, понял? Сначала внутри – и сразу отшлифуй. Потом сверху. Тоже отшлифуй. Потом ножку. Сделай тонюсенькую, чтоб страшно было, чтоб как колокольчик на травиночке. И подставку тонкую, тарелочкой. Ну? Или по-другому хочешь?
– Нет, я так и мечтал. Спасибо, Яков Иванович.
– Утром покажешь. – Яша-золото пошёл к дверям, но вернулся, отпер шкафчик, достал свои знаменитые резцы, выложил и добавил: – Не гони, не на пожар.
Женька прошёлся резцом по заготовке, заблестевшей ровным, золотистым светом, развернул суппорт и стал делать конус внутри цилиндра.
Мягко и неслышно отматывалась красная нить металла. Проступили очертания конуса. Женька утончил стенку, замерил. Толстовато. Ещё снял, ещё замерил. Чуть-чуть повернул штурвальчик поперечной подачи суппорта, прошёлся по конусу, остановил патрон. Звякнули о стенку конуса губки штангенциркуля. Шесть десятых! Женька расстегнул комбинезон и хотел ещё рискнуть, но вспомнил Яшу и решил – шкуркой поглажу. Передёрнул рычаг скоростей на большие обороты и отшлифовал: сначала шкуркой покрупнее, потом «микронкой», потом «нулевкой», потом суконкой. Под конец подышал на латунь и прижал к горячему металлу белый носовой платок… Бокал светился.
Дальше было легче. Сделал хрупкую длинную ножку и, оставив тонкое донышко, отрезал готовый бокал от заготовки. Лёгкий луч скользил по металлу, напоминая луч света на пластинке.
Дома Женька вырезал трафарет и кислотой вытравил по кругу донышка дату и имя.
Утром показал подарок учителю. Яша-золото осмотрел бокал:
– Можешь, если захочешь. Кому это ты?
Женька попросил:
– Только вы никому, ладно? Это Жене, знаете, она в конторе сидит, кассирша.
– Красиво ты её обозвал, – заметил Яша-золото, читая надпись. – Вот уж бы не подумал, что ей.
Вечером был день рождения. Баянист Коля отличился: он не только разучил полонез, но ещё и принёс ананас, за которым, оказывается, ездил в город.
Когда сели за стол, Женька, неловко торопясь, развернул газету.
– Вот. Пусть именинница из него пьёт.
– Сам сделал? – спросил Коля.
– Пушкин, – ответил Женька.
Коля взял бокал в руки, определил:
– Грамм на пятьдесят. – Прочёл: – «Женьшень» – и блеснул знаниями: – Корень жизни. Пей, проживёшь долго.
Выпили. Женя аккуратно пригубила из бокала. Женьке захотелось тоже выпить из бокала, и, когда все вышли из-за стола, он сказал ей об этом.
– Кстати. – Она свела брови. – Выйдем.
Вышли.
– Зачем ты мне эту рюмку принес? Как пьянице какой. Лучше б ничего не дарил.
Женька оторопел:
– Как же? Это не рюмка, а бокал!
– Пускай. Всё равно для вина. Я же не пью, ты знаешь, только чуть.
Он стал объяснять:
– Я вёз тебе полонез Огинского. В поезде его, то есть пластинку, сломали нечаянно. Но бокал – тоже музыка…
– Какая у бокала музыка? – удивилась она. – И «Женьшень» написал. Ведь никто не знает, что ты так меня называешь. Я не сержусь, называй, мне нравится. Только на бокале зачем? Ну ладно, пошли, а то неудобно, гостей бросили.
– Ты иди, я сейчас.
– Ты что, злишься? Хочешь мне день рождения испортить? Подумайте, какой гордый!
– А что мне сердиться, – свеликодушничал Женька. – Ананас тебе подарили. Ешь. Коля тебе на баяне сыграет.
– Сыграет. А ты как думал – человек старался, специально для меня разучивал.
– Видишь, как хорошо, – сказал Женька, – специально для тебя. А я какую-то рюмку припёр. Ты её выбрось.
– Женя, – сказала именинница. – Давай в самом деле выбросим и забудем.
Она побежала в дом и весело крикнула в открытое окно:
– Женька, бросать?
– Бросай, – ответил он и пошагал от её дома.
Нулевое сознание у нулевого километра
При входе на Красную площадь, перед Воскресенскими воротами, проходя которые люди всегда крестились, находится на земле знак. Он означает нулевой километр автодорог Российской Федерации и показывает направление к странам света. Знак как раз напротив входа в Иверскую часовню. Именно её было принято посещать перед дальней дорогой.
Казалось бы, как хорошо сошлось: и знак начала всех дорог, и Божия Матерь Иверская, дар Святой горы Афон. И постоять, помолчать перед странствием, и зайти помолиться, свечку поставить.
Вот и проверьте на себе, пойдите к этому знаку и к часовне. Вы ужаснётесь. Тут такое дикое языческое гадание! Тут люди становятся к знаку спиной и бросают через левое плечо монету. Смотрят, как упадет. Около знака пасутся сборщицы монет, которые гадающим советуют кидать монету на счастье покрупнее достоинством, а друг с другом ссорятся.
Медные монеты по десять и пятьдесят копеек не поднимают, не поднимают и никелевый пятачок. А как раз на этих монетах образ святого великомученика Георгия Победоносца. И по нему ходят грязными подошвами. Скажут, это не икона, но не будем же мы наступать на фотографию родных людей, не будем их бросать под ноги.
Как всё понять? Может, вот это соотношение числа гадающих и числа входящих в часовню и есть показатель числа верующих и остальных. Но нет, начинаешь спрашивать, отвечают, что и в часовне были, и свечки ставили, но что интересно и погадать. Всё-таки нулевой километр.
Тут же место работы ряженых «Ленина», «Сталина» и, Бог их простит, «Николая Второго». Конечно, это издевательство над историей. Но с ними фотографируются. Раз было холодно, и «Ленин» грелся в часовне. Заскочил «Сталин»: «Куда ты, охламон, скрылся? Иди, встань для композиции».
И ведь привыкли уже. Уже и дежурная в часовне не гонит переодетых кощунников, и батюшка, который служит.
Всё это толерантность, то есть привыкание к заразе. А нам говорят, что толерантность – это терпимость. Но терпимость напоминает о доме терпимости.
Холодный камень
Девочки Вика, Оксана и Маша были подружки. Они после школы не сразу шли домой, а вначале заходили на детскую площадку. Чаще только Вика и Оксана, потому что Маша всегда торопилась домой, у неё были младшие брат и сестра, и она с ними нянчилась. Сегодня опять не смогла пойти с подругами, и они остались вдвоём. Сидели на скамейке и разговаривали о прочитанном рассказе Гайдара «Горячий камень».
– Молодец этот Ивашка, – говорила Оксана, – весь измучился, перемазался, а закатил камень.
– Прямо как Сизиф, – поддержала Вика. – Помнишь «Мифы Древней Греции»?
– Нет, – не согласилась Оксана, – Сизифа боги наказали и не давали камень закатывать, а тут Ивашка ради старика-сторожа старался. Только сторож не захотел. Пожалел своей жизни. Есть что вспомнить: в тюрьме сидел, царя свергал, церкви разрушал.
– Да-да, – сказала Вика, – Вот только плохо, что этот писатель-рассказчик курил. Прямо от волшебного камня прикурил. Курить плохо. Мальчишки за школой курят некоторые. Витька Семёнов курит. Так вот! Прямо жёлтый. На физре два раза не мог подтянуться. Так-то он очень смешной. Помнишь, англичанку передразнил? Мы укатывались.
– Передразнивать нехорошо, – строго заметила Оксана.
– Зато смешно.
– Чего ты всё про Витьку? Витька, Витька. Влюбилась? Он всё равно не за тобой, за мной бегает. И за косу дёргает, и в столовой говорит: давай тарелку отнесу.
– Да и пожалуйста! Меня тоже дёргал.
– У тебя и косы-то нет.
– Но волосы-то есть, есть за что ухватиться. – Вика потрясла пучком волос на затылке. – Видишь?
– А тарелку относил? – спросила Оксана. – Нет? А сотовый номер давал?
– Мало ли что, – возразила Вика. – Сотовый! Он у меня математику списывает. Вот! – И добавила: – Мне бабушка говорит: твой дедушка был такой хулиган. Я говорю: бабушка, дедушка же такой хороший. Она говорит: это я его воспитала. Поняла намёк? Я так же Витьку воспитаю.
– Три ха-ха, – ответила Оксана. – А знаешь что, Вик? Давай знаешь что? Устроим ему программу «Розыгрыш». На пустыре горы песка, что-то строить хотят. А рядом камни завезли. Давай один закатим, потом позовём Витьку, скажем: разбей камень – и курить больше не будешь.
– Камни же не горячие.
– И что? Нам главное, чтоб Витька поверил, что камень волшебный. А?
Тут им стало очень смешно, и они вдоволь похохотали. А потом и в самом деле пошли на пустырь. Но вначале позвонили Витьке и велели ему прийти на пустырь с молотком.
– Так надо. Потом узнаешь… Да, мы все тут. Пока-пока!
Стали выбирать камень. Ох, тяжеленные. И себя жалко, тащить тяжело, и Витьку жалко. Выбрали поменьше. Втащили на холм.
Витька пришёл. И пришёл в самом деле с молотком. Подруги сказали ему, что надо разбить камень – и тогда Витька будет сильнее всех мальчишек в классе. И курить не будет.
– Разбивай. Это как горячий камень.
– Что я, ненормальный, хороший камень ломать? Я и на уроке думал, ни фига себе – помолодеть, это же опять в детский сад идти. Кабы разбить да взрослым стать. – Витька огляделся. – А Маша-то где?
– Нянчиться пошла, – сердито сказала Оксана. – Она многодетная у нас.
– А вы позвоните ей, пусть выходит. И детей выведет. Я с ними поиграю.
– Не буду я ей звонить, – сердито ответила Оксана.
– И я не буду, вот ещё! – решила Вика.
Тут у них у обеих засигналили мобильники. Конечно, пора было идти домой, обедать и делать уроки.
А Витька, оставшись один, потрогал камень, как будто проверял, не горячий ли. Сел на него. Долго собирался позвонить Маше, но так и не осмелился. И камень не стал разбивать. А курить он и так бросит. Что он, дурак что ли, курить? Он и Маше обещал, что не будет курить.
Витька достал из кармана куртки начатую пачку сигарет, положил её на камень и ударил по ней молотком. Потом ещё и ещё, будто железо ковал. Но камень даже не треснул. Так и ушёл на фундамент будущего дома неразбитым.
Жертва вечерняя
И кто возразит, что в прошлое заглянуть труднее, чем в будущее? В будущем одно: Страшный суд, а в прошлом всё то, что его готовило. Жил я среди грешных людей, сам грешил, да ещё и себя оправдывал: все такие, даже хуже. Но уже одна эта мысль говорит, что грешнее всех был я. Адам, сваливающий вину на Еву, был грешнее Евы.
Вот сошлось два вечера – вечер этого дня и вечер этой моей жизни. Давай, брат, попробуем вспомнить прожитое, слышанное, пережитое. Вдруг кому и пригодится.
Вот хоть с этого начать:
Открытое голосование
В шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые годы прошлого века было очень и очень престижно быть членом творческого союза. И очень даже выгодно. Особенно все мечтали стать членами Союза писателей. И даже не оттого, что был могучий Литфонд, писательская поликлиника, дома творчества, материальная помощь, прочее, нет, главное – было почётно: член Союза писателей. Звучит.
Кандидат в члены Союза проходил испытательный срок. Вот он принес книгу свою или две или собрал публикации по газетам, журналам и сборникам, принёс. Ждёт очереди, иногда полгода-год, обсуждения своих трудов, нет, не сразу в приёмной комиссии, а на секции прозы, поэзии, критики, драматургии. Там рубка идет страшная. Члены бюро секций – люди важные. Всё разберут, всё рассмотрят. Кто рекомендовал (нужны были три рекомендации от членов Союза со стажем не менее пяти, кажется, лет, но не меньше), кто будет читать? Уже и в секции работы соискателей читали с пристрастием. Потом шло обсуждение, потом секция голосовала, голосование было тайным, за то, чтоб принять или не принять. Принять? Значит, документы шли в приемную комиссию и опять ждали очереди. Тоже долго. Перескочить очередь было практически невозможно, за этим следили. Я сам всё это прошёл, эти два с лишним года ожидания.
И вот я уже сам – член приемной комиссии. Нас человек тридцать. Ходим мы на заседания усердно, ибо понимаем: решаются судьбы. Сразу сообщу, что очень редко они решались объективно. Чаще всего работает принцип: наш – не наш. Талантливый – не талантливый – дело десятое. Примерно половина членов комиссии – евреи, половина – мы. Ни они без наших голосов, ни мы без их не можем провести своего кандидата в Союз. Так что приходилось и им и нам уступать друг другу. На каждом заседании (раз в месяц) рассматривается дел пятнадцать – двадцать. Конечно, это много. Но куда денешься – очередь огромна.
Каждое дело докладывали те, кто читал представленные труды. Читали обычно двое. Голосовали, опять же, тайно. Были и спорные дела. Например, книжка понравилась, никто не возражает против приема. Но очень мала. Может, у автора пороха хватило только на одну. Решаем: подождать до следующей. Решение не обидное, хотя в те времена ждать следующей приходилось годами. Сошлюсь на себя: у меня первая книга вышла в тридцать три года, а следующая только через три года. Но тут ведь и закалка происходила, тоже важно.
А иногда бывало обескураживающее одних и радующее других решение: все хвалят принимаемого в Союз, а вскрывают урну – он не проходит. Нужно набрать более половины голосов. Более. А если половина проголосовала против, то вывод ясен. Бывали случаи, когда комиссия соглашалась принять решение открытым голосованием. Например, так приняли в Союз композитора Богословского. Многим претило то, что он, непрерывно мелькающий на экране, член и Союза композиторов, и Союза кинематографистов, ещё захотел называться и поэтом и за тексты своих песен войти в наш, естественно, самый главный Союз. Несколько раз зарезали. Проходило время. Кто-то там на кого-то давил, документы возвращались с приплюсованными очередными текстами. Что делать? Голосовать открыто. Голоснули. Мол, уж ладно, будь.
И ещё одно открытое голосование помню. Поэт Саша Красный. Этому Саше было сто три года. Я не оговорился, сто три. И вот собрался в Союз писателей. Секция поэзии за него просила, Ленина видел. Красный, конечно, псевдоним, он из плеяды Голодных, Беспощадных. Была представлена и оглашена некоторыми частями его поэма «Почему и на основании каком Дуню Челнокову не избрали в фабком?». Лучше было бы не оглашать. После молчания решили: а вдруг умрёт, если не примем. И на каком основании не принять – Ленина видел. Голосовали открыто и даже весело. Думаю, это продлило ему жизни и усердия в поэзии.
Одному открытому голосованию я был виновником. После очередного заседания комиссии её председатель подозвал меня и дал для прочтения три тонюсенькие книжечки из серии «Приложение к журналам „Советский воин“ и „Советский пограничник“». Как-то виновато просил доложить о них в следующий раз. Я прочёл. Это было нечто. Автор – женщина. Она живёт в сильно охраняемом доме высокопоставленных лиц, ей очень одиноко, она тоскует по общению с народом и находит его в разговорах с дежурной в подъезде. И дежурной, и нам, читателям, жалуется на жизнь: как ей трудно блюсти порядок в многокомнатной квартире. Муж её всё время в командировках.
До заседания я подошёл к председателю и сказал, что это ни в какие ворота.
– Но ты всё-таки рекомендуй, – попросил он.
– Но если бы у нас была секция очерка хотя бы, тогда бы ещё куда ни шло.
Председатель оживился:
– А ты предложи её создать.
Я так и стал докладывать. После первых моих слов, что представленные «Приложения» никуда не годятся, от меня стали отсаживаться члены комиссии. После вторых, что и речи быть не может о принятии автора по разделу прозы, я остался один по эту сторону стола.
Меня это удивило, но я закончил:
– Может быть, когда в Союзе будет секция очерка, давайте вновь вернёмся к рассмотрению. И пусть ещё кто прочтет. Отзыв прилагаю. По-моему… беспросветно.
Тут кто-то, сославшись на то, что у него слабый мочевой пузырь, что все об этом знают, выскочил из комнаты.
– Предлагаю открытое голосование! – воскликнул дружно поддержанный председатель.
Изумительно было то, что все были за. При одном воздержавшемся, то есть это я воздержался. После заседания, когда я пытался узнать причины столь дружного единодушия, от меня шарахались. И только потом один из наших, наедине со мной, разъяснил, что авторша эта не кто иная, как жена первого зама председателя Комитета госбезопасности.
В моей жизни, по его мнению, наступали невеселые времена. Но всё обошлось. По стечению обстоятельств этот первый зам вскоре застрелился в самолёте, возвращаясь из командировки. Но не от того же, что жена стала членом Союза писателей.
Хотя эти три случая не были типическими. Обычно как-то договаривались. Например, евреи протягивают в Союз способного Илюшу. У нас на подходе талантливый Александр. И им хочется нашего Александра зарезать. Но мы им говорим: зарежете Сашку, Илюшу утопим. И благополучно проходили и Саша, и Илюша. Иногда приходилось кем-то жертвовать. Мы – престарелыми, евреи – переводчиками. Секция переводчиков практически была еврейская, но предложение выделить их в отдельную ассоциацию при Союзе писателей было бурно отклонено.
Итак, довольные с пользой для литературы проведённым временем, мы интернационально выходили из помещения парткома. Именно в нем проходили заседания. Но сразу уйти домой было практически невозможно, ибо путь к раздевалке лежал через ресторан. А там уже страдали от великого ожидания те, чьи дела сегодня рассматривали. Надо ли говорить, что нас хватали и тянули за обильно накрытые столы и столики.
«Оставили в рядах»
Упоминание о комнате парткома в Доме литераторов вызвало в памяти два его заседания, два персональных дела двух коммунистов: Солоухина и Окуджавы. В их членстве я совершенно не усматриваю никакого криминала, и Шолохов был в рядах, и я тут же присоседюсь. Представлять же, что членам КПСС было легче жить, – это заблуждение. Я не только был членом, но и всегда, по причине своей пассионарности, ходил в начальниках, то есть избирался в секретари, в бюро, в парткомы. Хотя и не рвался, и не высовывался, но вот это «не могу молчать» и поиск справедливости в открытой борьбе меня подводили. Приходил в новый коллектив, сидел тихонько на собраниях, читал нужную книгу или рукопись, слушал краем уха, а в какой-то момент не выдерживал и просил слова. И что? И вскоре избирался. А какие, кстати, были привилегии у нас? Ходить на субботники? Дежурить в народной дружине? Взносы платить? Ездить в самые трудные командировки? А уж что касается общественной писательской жизни, это было такое сжигание нервов, такая трата времени! Мало того, сколько врагов наживалось! Никто не хочет читать скандальную рукопись, на неё уже было пять отзывов, два хороших и два плохих, а пятый и за и против. Но есть подозрение, что хорошие писали дружки-приятели автора, а плохие – его завистники, так заявляет автор. Дают рукопись мне, клянутся, что всё это анонимно. И таких случаев было много. Я всегда писал свои отзывы без оглядки, писал то, что думаю, чаще всего приходилось, что называется, резать, и что думаете, авторы об этом не узнавали?
Но вернёмся к тому заседанию.
В названии рассказа использованы широко известные слова Владимира Солоухина после обсуждения его дела на парткоме. Его разбирали за публикацию рассказа «Похороны Степаниды Ивановны» в Америке, в издательстве, помню, Профера.
Владимир Алексеевич и не думал виниться.
– Рассказ Проферу я не передавал, но здесь предлагал его нескольким журналам.
О деле Солоухина больше может рассказать писатель Юрий Поляков, он им, по заданию парткома, занимался. Я же был свидетелем выхода Солоухина в залу ресторана, где он, усевшись за трапезу, сообщил соратникам:
– Оставили в рядах.
Но стоит поведать и о другом персональном деле, о деле по провозу в нашу страну порнографической продукции членом КПСС Булатом Окуджавой. Тут всё было непросто.
Известный бард, песни его поёт молодёжь, и не только. Ещё до обсуждения, пока Окуджава в коридоре ждал приглашения, секретарь парткома сокрушённо сообщил, что в райкоме уперлись и требуют для назидания прочих исключить коммуниста за такую тяжкую провинность, что на них доводы о знаменитости не действуют. «Ну и что, что знаменит, тем более».
– Крови жаждут, – закончил сообщение секретарь, осмотрел нас тоскливым взглядом и просил секретаршу просить обсуждаемого войти в помещение парткома.
Интересно, что это тогдашнее событие, а это было событие, и очень громкое, теперь представляется мелочью: подумаешь – три-четыре кассеты да журналы с похабщиной, их теперь на каждом углу кучи. Даже и восхититься можно поэтом, как далеко вперёд смотрел, боролся за либеральные ценности, чтобы каждый мог удовлетворить свои запросы. Хотя, когда зачитали список перехваченной кино-, фото– и журнальной продукции, он был внушителен. Оглашать не хотели, но пришлось. Представитель райкома, не очень-то ласково нас иногда озирающий сказал, что полагается. Потом дали слово Окуджаве. Особенно его возмущало то, что вещи шмонали и протокол писали те же таможенники, которые выпускали из Союза.
– До этого неделю назад автографы просили.
То есть какие неблагодарные оказались. Старейший член парткома, боевой лётчик Марк Галлай сокрушался и всё повторял:
– Мы вас так любим! Но зачем же это вам, а?
– Не себе вёз, просили.
– Кто? – сурово вопросил представитель.
– Так, молодёжь, знакомые.
Началось обсуждение. Выступления были однотипны. Да, нехорошо (следующий: очень нехорошо!), у нас не загнивающий капитализм, но проступившийся – наш товарищ, фронтовик, поэт-песенник, с ним такое впервые, больше не повторится, мы в этом уверены, мы не можем потерять своего соратника и всё такое соответственное.
Вообще, у меня к поэту была и своя претензия. В одном из романов он написал такую фразу: «Плоское лицо тупого вятича». Именно вятичем я и являлся, а со мною и все миллионы наследников этого древнерусского племени. Я возмущался, но среди своих, а тут мне его было жалко, хотелось поскорее закончить это мучительное для всех заседание. Вот сейчас пишу, и стало вдруг совсем неинтересно. Зачем? Тем более теперь, когда всё так давно было. Бог ему судья. Да и нам.
Окуджаве помогло как раз обсуждение Солоухина. Как известно, Солоухину закатили строгий выговор с занесением в учётную карточку. Но не исключили же. И этот довод убедил, кажется, представителя райкома, когда мы оговаривали степень взыскания. Уже без Окуджавы. Его просили выйти в коридор, и он там сидел, ожидая решения. Члены парткома были далеко не дети, понимали, что публикация смелого, честного рассказа о похоронах матери, когда сельский священник чуть ли не тайком отпевает великую труженицу, православную женщину, и провоз порнографии – две большие разницы, всё-таки ограничились тоже строгачом, тоже с занесением.
– Эх вы, – смеялся потом Солоухин, – что ж вы меня не исключили? Дали бы мне Нобеля.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































