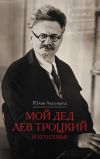Текст книги "Бессарабский роман"

Автор книги: Владимир Лорченков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 34 страниц)
31
Бабушку Первую не раз после этого будут обманывать, и она с удивлением обнаружит среди тех, кто это делает, самых близких людей. Сестер, например. Все они считают Бабушку Первую первостатейной дурой – безмозглой, обмануть которую не стоит ничего, достаточно лишь всплакнуть у нее на плече да вытянуть потом обманом что угодно. Так это же правда. Сестры хитрые, сестрам нужны то деньги, то платье, то еще чего, не всем им повезло с мужьями так, как Бабушке Первой, и они начинают ненавидеть ее за это. Удивительно, думает Дедушка Первый, исключительно стараниями которого они не раздали все, что имели, – и он все чаще вспоминает историю про тещу и цыган, рассказанную ему по секрету тестем, – как все-таки люди становятся похожи на своих родителей. Борись не борись. Бабушка Первая часто замирает, стоя с полуоткрытым ртом, еще чаще плачет – и выносит нищим, стоящим за оградой, чуть ли не весь семейный обед, это еще до войны, конечно. Бог вознаградит!
Она верит в это так истово, что Дедушка Первый иногда думает, а не права ли она, эта чернявая молдаванка с Буковины, не вознаградит ли их Господь за доброту и милость к бедным? За мягкое сердце жены, за ту болезненность, с которой воспринимает она плохие известия, пусть они и не касаются их семьи? Словно канарейка. Дедушка Первый читал про таких – их берут с собой в забой шахтеры, и когда воздуха становится мало, канарейка начинает биться. Нет, это про писателей, возразил бы писатель Лоринков. Глаза на мокром месте.
Но Господь не возблагодарил и не пощадил. Бог расшвыривает семью Дедушки Первого, как домики в песочнице, и топчет их, как злой ребенок. Ломает, крушит. Бабушка Первая умрет до того, как ее дети вырастут и начнут обманывать ее так же, как обманывали сестры. Дети Бабушки Первой умирают до того, как вырасти. Сестры Бабушки Первой умирают все, кроме одной, а та умирает во время повторного голода, в 1951 году. Семья, бывшая сама для себя центром мира, семья, преисполненная жизни и сока, семья бурчащая, живущая, переваривающая, семья изрыгающая, извергающая, принимающая и поглощающая, становится лишь слабым воспоминанием в сознании всего одного человека, который почти не застал эту семью в пору ее изобилия и расцвета, – в памяти девочки, увидевшей свое отражение в лакированном ботинке человека в черном костюме. Мамы Первой.
32
Дедушка Первый выходит в поле подсолнечника и на мгновение путает небо и землю, так невероятно желто слепят цветы. Он стоит немного и моргает. Улыбается. На Дедушке Первом самый нарядный костюм, на Дедушке Первом жилетка, на Дедушке Первом часы с цепочкой, которая свисает из жилетки, а еще на Дедушке Первом роскошная шляпа, обошедшаяся ему в пять леев, сумму немалую, но мужчина без шляпы в селе – это, знаете, как подсолнечник без цветка. Дедушка улыбается. Зубы его так белы и так ослепительно сверкают, что солнце и подсолнечники на минуту сами теряют ориентацию, и мир бешено вертится вокруг Дедушки Первого, а тому не привыкать. Местная звезда! С утра в село приехал, о чем загодя предупредили старосту по телеграфу, корреспондент румынской газеты «Вестник железной гвардии», чтобы взять у Дедушки Первого интервью, потому как очередная же годовщина Великого Национального собрания. Ветеран воссоединения. Дедушка Первый скромно называет себя так, говорит, что он был просто солдат своей страны, пусть и в костюме, и скромно умалчивает о том, откуда начался его путь к свободе и независимости Бессарабии от этой ужасной русской Империи и к воссоединению с матерью-Румынией. Постель шлюхи.
Дедушка Первый некстати вспоминает Бабушку Первую, совсем остывшую в постели, и цыкает зубом. Другая стала. Если поначалу она была горячая, как свежая мамалыга со шкварками, думает Дед, любивший поесть, то сейчас прохладная и скучная, как ломоть этой же мамалыги, который подают к завтраку в молдавских селах со стаканом холодного молока. Зато дети. Дети для мужчины в селе – это что-то вроде шляпы, а с этим у Бабушки Первой все в порядке, стоит прикоснуться к этой маленькой, вечно хнычущей – в мать, в мать-покойницу – женщине, как у нее начинает расти живот. Три из семи. Часть беременностей заканчивается безуспешно, бесплатная и доступная медицина в то время еще только лозунг советских, которые забрели в Бессарабию всего на годик, да были вышвырнуты с нашей земли войсками славной Румынии.
1941 год. Говорят, Москву бомбили и сам господин Гитлер велел срыть этот город, на его месте сделать озеро и запустить по нему катера и шхуны с господами офицерами, чтобы развлекались и отдыхали. Дедушка Первый вздыхает. Когда в 1940 году в Бессарабию, совершенно неожиданно для всех, а более всего для бессарабцев, решавших, по привычке, судьбы мира в местных кофейнях за стаканчиком вина, вошли войска, Дедушка очень сильно напрягся. Боялся мести. Боялся не зря, ведь первое, что сделали советские войска, когда вошли в Кишинев, – оцепили районы с остатками русских же, которые бежали от Советов еще в 17-м году, и приступили к расстрелам.
Дедушка Первый хмурится. В тот день он снова был в городе – это, видимо, невероятное стечение обстоятельств и судьба, оказываться в Кишиневе в момент главных событий в истории нашей славной родины, – и многое видел своими глазами. А лучше бы не видел. И именно в тот же день в село прибыли несколько человек из, как у них принято говорить, органов, с тем чтобы расспросить Дедушку Первого кое о каких событиях 1919 года, произошедших в Бессарабии, участником которых он, по имеющейся от осведомителей информации, был. Дедушка вздыхает. К счастью, его нашли в Кишиневе добрые друзья, пославшие гонца в село – добирался всю ночь, – и Дедушке вновь пришлось стать на некоторое время городским жителем. Было где. О том знало все село Калфа – кроме Бабушки Первой, конечно, – что у Дедушки Первого была в Кишиневе шлюха, да не какая-нибудь из борделя, а шлюха на содержании, хотя содержание, думал дедушка, отправляясь «по делам» в город, это слишком громко сказано. Продуктовые наборы. Дела несколько лет перед войной шли хорошо, и семья даже козу продала – вернее, должна была, но идиотка Бабушка Первая нашла, как всегда, неприятностей на свою задницу, – и Дедушка приобрел мельницу. Конечно, реквизировали. Но реквизировали в 1940 году, а сослать в Сибирь Дедушку не успели, потому что меньше чем через год в Бессарабию вошли войска Румынии, и владельцам вернули все их имущество. Дедушке тоже. Так что пришлось ему возвращаться из Кишинева в село, оставить свою русскую шлюху и делать вид перед Бабушкой Первой, что он прятался по чердакам да подвалам. В постели прыгал. Дедушка Первый еще раз ослепляет небо, подсолнечники и солнце белозубой улыбкой цыгана. Интервью взяли!
Румыны тоже искали тех депутатов великого Национального собрания, которые приняли декларацию о присоединении края к Румынии, но с другими, нежели советские, целями. Поощрить и поддержать. Маршал Антонеску, диктатор Румынии, велит своим войскам: румыны, переходите Прут! Те переходят и занимают Бессарабию безо всяких столкновений, потому что советским войскам, ошеломленным нападением Германии, недосуг заниматься румынами. Всего два боя. Зато советские саперы минируют Кишинев, в котором за год русские успевают построить больше, чем Румыния за восемнадцать лет воссоединения, и взрывают все. Город горит. Прилетает небольшая эскадрилья немецких самолетов, приданных немцами в помощь румынам, и успевает немножечко побомбить то, что осталось после русских, и осколки трещат.
Мама, смотри! Не успевает крикнуть сын постаревшей девицы Анестиди маме, чтобы она глянула на осколок, зажатый у него в руке, как другой осколок пробивает ему затылок, и мальчик, обливаясь кровью, падает. Умер в момент. Сыночек. У нее был и другой ребенок, от насильничания. Но того Анестиди оставила в селе, на воспитании. Знать не хочет. Этот же – кровинка. Анестиди трогается умом. Ее схождение в ад начинается именно в этот момент, а последним пунктом путешествия будет стена кишиневского детского дома, куда она отвезет на тачке пятерых подобранных ею детей, свалит их в кучу в прихожей и умрет от слабости прямо на улице, и последнее, что она услышит, будет голос сына. Мама, смотри.
Дедушка Второй вспоминает своих детей, и все мысли о разводе, что роятся в его голове с утра до вечера, покидают его немедленно, он страшно детолюбив. Черт с ней, лишь бы рожала. Румынский корреспондент фотографирует Дедушку Первого в окружении семьи, и этот снимок опубликовывают в газете оккупационных войск три недели спустя, как раз к годовщине воссоединения. Его увидит Ольга Статная. Первая Мисс Бессарабии, рослая большегрудая Ольга, потерявшая отца, мужа, и иллюзии, проживающая одиноко в своем домике по улице Болгарской, будет поражена тем, каким примерным семьянином выглядит ее содержатель, этот богатый молдаван. Мужчины – лицемеры. Подумав об этом, Ольга подавит зевоту и улыбнется Дедушке Первому, который приедет из города с пакетом масла, хлеба и мяса к своей большой русской шлюхе с большими грудями, не то что маленькая грудь Бабушки Первой, откуда только молоко идет? Ворота открываются. Дедушка Первый, опрокинувший стаканчик винца, довольно улыбается, вспоминая отдых в Кишиневе, и ему хочется пройтись сейчас по этому полю, выкупленному им у артели по честной цене, так что никто в накладе не остался, – он хочет почувствовать землю и поэтому ступает в поле подсолнечника, и цветки поворачивают за ним головки, словно за солнцем, такой он красивый, нарядный и сияющий. Земля рыхлая.
33
Упрямый белорус Демьян Ларченко все утро таскает мешки с песком к забору от брошенного барака для семей офицерского состава. Копает, минирует. Пограничная застава на берегу Днестра брошена, но раз в ней остался он, уроженец Могилевской губернии, лейтенант Демьян Ларченко, значит, на эту территорию распространяется советская юрисдикция, вспоминает уроки политграмоты в училище пограничник. Руки дрожат. Лейтенанту страшно, но он уже вступил в свое первое боестолкновение с противником, успешно его провел, выиграл бой, поэтому храбрится. Он один. На заставе было четырнадцать человек, которых послали сюда обустроить место, и они успели даже возвести барак для семей офицеров, – они прибудут сюда с основными силами, – как случился 1941 год, и на Союз напала Германия. Румыны туда же. Наши войска получили приказ отступать, и по молчаливому уговору с румынами это было сделано почти без боев, но, конечно, произошли накладки. Одна – здесь.
Кагульский погранотряд – вернее, лишь название, потому что и отряда еще никакого толком нет, – не получает по какой-то причине известия о начале войны и отступлении, поэтому для Демьяна становится большой неожиданностью десяток румын на телеге, которые едут по дороге с криками «Иван, сдавайся, твои ушли!». Удивленный Ларченко командует в ружье. Все четырнадцать солдат, которых лейтенант от скуки дрессировал почти два месяца, занимают позиции по первому приказу. Румыны поражены. Они пытаются объясниться с этими удивительными русскими, но уже поздно, потому что погранзастава дает бой. Десять трупов. К вечеру их число увеличивается до сорока, потому что еще три подводы, с интервалами в два часа, подъезжают к заставе, где никто не ожидает встретить русских, они же ушли. Лейтенант ликует. К ночи румыны понимают, что на Кагульском направлении есть какой-то там очажок сопротивления, и направляют туда большой отряд в сто человек. Приходят к утру. Лейтенант глядит на них в бинокль и сплевывает на землю, чувствуя себя невероятно старым и опытным солдатом. Велит бойцам подпустить врага поближе.
Румыны идут не таясь. Глядя на опустевшую заставу, они переговариваются вполголоса, обсуждая сошедшее с ума командование, которому померещились где-то русские, но те ведь ушли. Лейтенант улыбается. Трупы тех, кого уничтожили раньше, перенесены в барак, так что новый отряд не ожидает нападения. Открывают огонь. Румыны ложатся на землю и отходят назад, потеряв свыше тридцати человек убитыми. Они разъярены. Подсчитав приблизительно количество защитников заставы, решают взять их в плен и живьем сжечь, даже не сообщают командованию о случившемся и пытаются окружить заставу. Натыкаются на мины. Натыкаются на огонь. Спустя сутки от румын остаются пятнадцать человек, уйти которым пограничники не дают.
Лейтенант задумывается. Все это похоже на удачное посещение тира, но что он будет делать, когда за его маленький отряд возьмутся всерьез? Приказ об отходе. Но его нет, и рация молчит. Демьян Ларченко задумывается о смерти. Носит мешки, минирует, и постепенно молодость – лейтенанту всего двадцать один – берет свое и мысли о смерти отступают. Лейтенант считает. Сорок румын да еще сто румын, итого сто сорок, и если разделить на три дня, и так в течение месяца, да еще по двадцать, да… плюс… вычетом… Шестьдесят лет спустя дальний родственник лейтенанта – они там из Могилева все родственники – писатель Лоринков будет так же мучительно и восторженно подсчитывать количество листов своего ненаписанного романа. Они незнакомы. Лейтенанту Ларченко не до будущего, оно не наступит для него никогда, он знает, и лейтенант занят обороной.
Заставу берут в дело. Ее штурмуют по-настоящему, как положено, – и от этой обстоятельности у лейтенанта песок в зубах и кровь в волосах, и из четырнадцати защитников Кагульской заставы на восемнадцатый день осады остаются в живых всего трое. Потом он один. Румыны поражены. Чертовы русские, говорят они, не зная, сколько их там осталось, и вызывают немецкое подкрепление, и когда немцы подходят, осаде исполняется уже полтора месяца. Лейтенанту предлагают теплую шинель и горячее питание. Он бы с удовольствием, но, к сожалению, у него есть приказ, и он его исполнит, даже если вся эта долбаная Бессарабия, в которой он пробыл меньше года, встанет на него дыбом. Так что нет. Немцы пожимают плечами и осторожно – все еще не знают, что он остался один, – начинают окружать заставу. Лейтенант стреляется. Похоронить с почестями, велит немецкий капитан, и залп карабинов звучит над заставой, когда тела чертовых русских предают земле.
Капитан думает, что война, судя по всему, будет тяжелой. Потом передумывает. Солдаты немецкого батальона, вызванного сражаться с неприступной крепостью, с удивлением и презрением глядя на румын, уходят по дороге на Кишинев. Идут пешком, потому что танки и машины – это для кинохроники Геббельса, неприязненно думает капитан, а большая часть армии передвигается на лошадях и пешком. Солдаты потеют. Каски позвякивают. Спустя какой-то час колонна исчезает за одним из холмов, которых так много в этом краю. Остается тяжелый запах сапог.
Позже об этой истории прознают киношники и снимут фильм про заставу, которая вся поляжет на границе, и последний из оставшихся в живых, командир заставы, выйдет из леса, чтобы врыть на место пограничный столбик. Назло всему. Лейтенант Ларченко, узнав об этом, очень бы посмеялся. До столбика ли тут, ребята, сказал бы он. Но его уже лет двадцать как не было, когда это кино стали снимать, посмеяться над сценаристами было некому и фильм запустили в производство именно с таким сюжетным ходом. Камера, мотор.
Ночью лейтенант Ларченко, застрелившийся не совсем удачно, – но его оправдывает отсутствие опыта в этом деле, – все еще в бессознательном состоянии начинает ползти наверх. Он не задохнулся. Тела не утрамбованы и земля набросана свободно, так что воздух в могиле есть. Могила шевелится. Почти час земля ходит, потому что лейтенант, которому в бреду кажется, что он ползет по какому-то тоннелю, где не видно света, и это, в общем, недалеко от истины, – все шевелится да шевелится и почти выползает на поверхность. Потом земля перестает шевелиться. Лейтенант умирает. Его лицо, присыпанное землей, белеет всю ночь и середину дня, а потом на него садится степной сокол, сапсан. Топчется. Бесшумно плачет падающими звездами ночное небо. Шелестит Прут. Стрекочут сверчки. Пасутся овцы. Звенят колокольчики. Благодатный край.
34
Дедушка Первый, опьяненный парой стаканов вина и славой, идет, слегка виляя из-за рыхлой почвы, по полю подсолнечника. Цветки поворачивают головки вслед за ним, потому что Дедушка Первый идет за солнцем. Они не торопятся. Дедушка раскидывает руки и кружится, чувствуя себя счастливым, – ему кажется, что в мире все устаканилось наконец, и больше ему не придется прятаться. Он хозяин. В мире воцарилось равновесие, его дети будут жить долго и счастливо, думает он, и уже в следующем году можно будет поинтересоваться наделом земли где-нибудь в России, побольше. Коммунистов перебьют. А земля останется, так что. Кто знает, может он, Дедушка Первый, прикупит поместье где-нибудь под Орлом и будет там… рысаков растить! Почему нет?! Дедушка Второй на радостях решает хлопнуть еще стаканчик вина, – фляга, конечно, с собой, – и пьет, задрав голову к небу, и оно салютует ему некоторое время, прежде чем он понимает, что салют и вправду есть. Стреляют.
Что за черт, бормочет Дедушка Первый, машинально вытирая рот рукавом пиджака, то-то недовольна будет Бабушка Первая, но сейчас не до того. Что за черт, говорит Дедушка Второй и, придерживая шляпу одной рукой, а флягу второй, возвращается к краю поля и осторожно выглядывает из него. Картина Гойи. Дедушка Второй в искусстве не силен, иногда его этим попрекает любовница, Ольга, бывшая гимназисточка из города, и о Гойе не слыхал. Но перед ним картина Гойи: метрах в ста от поля над обрывом стоят, вскинув руки, словно оборванцы на картине Гойи, люди с черными лицами и в грязных одеждах. Глаза горят. Напротив них, вскинув винтовки и держа тяжесть тела на левой ноге, – один, видимо левша, на правой, – целится расстрельная команда. В небе горят проклятия. Матери в белых когда-то рубахах прижимают к груди детей, потому что матерей сейчас расстреляют с детьми. Дедушка Второй смотрит. Из его раскрытого от удивления рта вытекает вино, которое он забыл сглотнуть, и уголок его рта становится красным, будто это Дедушку Второго сейчас расстреляли. Подсолнухи плещутся желтым. Дедушка Второй моргает. Раздается залп и люди с криками падают, и только тогда Дедушка Второй признает в них тех евреев, что жили в соседнем селе, а среди них и немного цыган, само собой, русских, да еще и парочка красных молдаван, прихваченных, видимо, за компанию. Идут в распыл.
Дедушка сглатывает, но поздно, потому что вино все вытекло, так что он, стоя в подсолнухах на краю поля и не отрывая взгляда от интерпретации картины Гойи – двадцатый век, масло, Бессарабия, – прикусывает зубами горлышко фляги, и обожженная глина хрустит. Крошится на губах. Дедушка Второй пьет вино, закусывая глиняной крошкой кувшина, и в это время гремит второй залп, еще одна партия расстрелянных исчезает с обрыва. Стоит очередь. У некоторых, кто ожидает смерти в следующих партиях, начинается истерика, заходятся в крике дети, и детолюбивый Дедушка Первый кривится, словно от боли. Он не любит жидов. Дедушка Первый говорит об этом спокойно, и ничего такого в том, чтобы не любить жидов в Бессарабии в 1941 году, нет. Их слишком много везде, а когда приходят советские, их становится больше, чем слишком много, говорит Дедушка Первый под сочувственные кивки интервьюера румынской газеты, и они поднимают стаканчик вина в сельской корчме, где идет интервью. То же самое тому же самому интерьеру будет говорить дедушка человека, который станет президентом независимой Молдавии в 2001 году. Кто же их любит? Дедушка Первый все понимает. Но – дети?
Люди у белого каменного обрыва суетятся. Дети орут до рвоты. Сверху за всеми равнодушно наблюдает сапсан, склевавший вчера лицо лейтенанта на Кагульской заставе, аккурат в трех метрах от того места, где в 1976 году откроют памятник героям-пограничникам. Сокол парит. Сверху все это выглядит для него, как скопление черных точек на белом возле большого желтого пятна, и сокол спокоен, потому что спускаться можно будет, когда все точки замрут. Точки мечутся. Дедушка Первый, сдерживая слезы, глядит, на троицу жиденят – мальчишку лет девяти и его мать с девочкой двух лет. Мать – молдаванка, а муж ее жид, который перед началом войны пронюхал – все-то они вынюхивают – и смылся куда-то в Россию, бросив жену и детей. Вот что знает Дедушка Первый, и знает, что ему надо бы выйти из поля, но ноги у него, словно корни подсолнечника.
Мальчишка глядит то в поле, то на мать, и лицо у него бледное, напуганное, и Дедушка Первый понимает – мальчишка сейчас, как и он, хочет сделать шаг, да не может. Мать плачет. Мальчишка говорит ей что-то, лицо его искривляется, слезы текут, мать пытается обнять, чтобы смерть взяла сразу троих, но мальчишка хватает сестру и бросается в поле. Суета и ор. Мать прикрывает животом спину сына, которому вслед для проформы тычет штыком румынский солдат, и замирает, пронзенная. Дала фору. Когда каратели понимают, что произошло, к полю бегут уже пятеро детей. Мальчишка, несущий сестренку, и за ним припустили еще трое маленьких – лет четырех или пяти. Маленькие, а соображают. Дедушка Второй, сглатывая слюни, слезы, вино и глиняную крошку, крестится и делает пару шагов назад, сдергивает с себя шляпу. Всхлипывает и бросается вглубь поля.
Румыны, матерясь и сплевывая, добивают оставшихся и не торопясь, потому что ребенок от взрослого никуда не уйдет, становятся цепью, чтобы начать прочесывать поле и достать жиденят. Переговариваются, смеясь. Никакого снисхождения, никакой жалости, никакой рефлексии. Румыния едва не погибла, когда жиды взяли власть, и если бы не «Железная гвардия», страну бы ждало разорение. Разве кто-то жалел их детей, умиравших от голода на руках родителей без работы? Разве не жидовские промышленники ездили в дорогих автомобилях по изнуренному от голода Берлину, трахали за кусок ветчины и сыра немецких девушек, и разве не то же самое было в Бухаресте в конце двадцатых годов? Жиды – это плесень, как верно сказал маршал Антонеску, и всю ответственность за изведение этой плесени он берет на себя. Стало быть, вперед.
Сапсан закладывает еще один вираж, чтобы обозреть происходящее под ним с самого удобного ракурса. Черные точки у белого камня замерли. Пора спускаться.