Текст книги "Вангол"
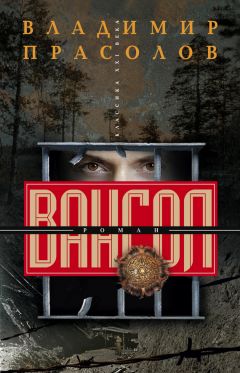
Автор книги: Владимир Прасолов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 31 страниц)
Он расслабился и какое-то время, просто раскинувшись, лежал на прогретых солнцем камнях. Он забыл об опасности, просто забыл. Вместе со слезами с души свалилась тяжесть и страх последнего часа. Солнце стояло в зените, когда Иванников, обсохший и внутренне собранный, пошёл по берегу. Он пошёл назад к тому месту, где погиб старшина, где, возможно, его самого ожидала смерть в образе того страшного медведя. Он пошёл, потому что другого пути для себя не знал. Он должен был вернуться, чтобы стать человеком и жить или просто умереть. Когда Иванников через двое суток, весь оборванный, в кровоподтёках и ссадинах, без шинели, но со своей винтовкой в руках догнал отряд, его не сразу узнали. Молодой парень был абсолютно седым.
– Ты толком можешь объяснить, что случилось? – спросил Ненашев, сидя на поваленной сосне, у стоявшего перед ним по стойке «смирно» Иванникова. – Где Лядов? Где твоя шинель?
– Старшина Лядов погиб, его порвал медведь. Я упал в реку, и шинель не давала плыть, потому её сбросил, утонула она, потому не нашёл потом.
– Ты можешь объяснить подробно, где, при каких обстоятельствах погиб Лядов?
– Товарищ лейтенант, я же всё объяснил. На нас на берегу бросился медведь, Лядова убил сразу, а я упал в реку, потому и спасся.
– «Потому, потому!» Что ты заладил одно и то же, какой к дьяволу медведь? Вы были при исполнении боевого задания, с оружием, преследовали бежавших зэков, а тут медведь. Что я должен начальству докладывать, что вы на охоту ходили? Почему ты думаешь, что Лядов погиб?
– Потому как плыли вместе. – Иванников часто-часто заморгал глазами.
– Плыли вместе? Так он плыл? Ты же сказал, что его медведь порвал?
– Лядов не плыл. Его голова плыла рядом со мной, оторванная. – Иванников опустил голову.
– Вот те на… – только и смог сказать лейтенант. – Так, вот тебе бумага, напиши всё подробно.
Поисковая группа не смогла обнаружить старика Такдыгана и Игоря, растворившихся в бескрайних просторах забайкальской тайги. Грянувшая вскоре война заслонила собой этот случай, и в своём отчёте Ненашев указал про случайную гибель старшины Лядова, тело которого так и не было найдено.
– Ой, не к добру это. Черёмуха да сирень по второму разу зацвела. Демьяниха болтает, к войне это. – Костина жена, пеленая младшего, взглянула на мужа.
– Так финская только кончилась, опять, что ли, – с печки раздался голос старшего сына.
– Умолкни. То не война была, а так, пограничный конфликт, как на Хасане. Дали финнам по зубам, чтобы не рыпались, и всё. А чё там Демьяниха сказала? – с ударением на последнем слове спросил Костя жену.
Уложив младенца в колыбель, она подсела к мужу и, обняв его, сказала:
– Я тебя ни на какую войну не пущу. Трое ребятишек, и я без тебя и дня никак не могу прожить. – Она поцеловала мужа в плечо и прижалась.
– Ладно, ладно. Так о чём Демьяниха рассказывала? – ещё раз мягко спросил Костя.
– Да бабы вчера вечером у дома председателя собрались, хотели, чтобы он лекаря из города вызвал. – Маша прыснула со смеху и покраснела.
– Ну-ну, рассказывай, чего смеёшься.
– Кость, неловко как-то. – Она умолкла и, как бы набравшись сил, продолжила: – В общем, слава богу, ты у меня в порядке, а в деревне напасть на мужиков какая-то. Ссутся по ночам, прости меня Господи. – Мария ещё гуще покраснела. – Честное слово, бабы замучились, то у одной, то у другой, то в одну ночь почти все мокрые просыпаются. Тут Демьяниха и подошла, послушала и сказала, что не надо никакого лекаря, никто не поможет, терпите, бабы, само пройдёт, только скоро с мужиками расставаться придётся, примета верная. Ну, бабы на неё и насели, а она говорит: тешьтесь с мужиками напоследок, ребятишек зачинайте, война большая грядёт, много народу мужицкого убудет. Вон и черёмуха да сирень дважды цветёт, как перед Первой мировой войной. Говорю вам, поверьте, не позорьте мужиков, потерпите, немного и осталось. Сказала так и, пока все думали, про чё это она, ушла потихоньку. И знаешь, все бабы по домам тоже молча разошлись. Вот я и говорю, люблю я тебя и не пущу никуда. – Она ещё сильнее прижалась к мужу, и на глаза её навернулись слёзы.
– Да что с тобой, чё ты Демьянихе поверила? Болтает всякую ерунду, а ты в слёзы, вот дурёха. – Костя развернул лицо Маши к себе и поцеловал в мокрые, солёные от слёз губы. – Не с кем нам воевать. С немцами договор, а остальные империалисты сейчас не знают, как от Гитлера уберечься, не до нас им – и точка. Вот послушай, что я недавно услышал, а потом своими глазами в газете прочитал. Ездил на пристань, а там с парохода газетку мне дали, а в газете про то, как нашего Панфилыча убили враги народа и хату сожгли. Написано, что Колька, сын Панфилыча, от горя уехал куда-то в Ростов. Я-то думаю, откуда это взялось? Оказывается, сам Колька в поезде корреспонденту и рассказал.
Маша удивлёнными глазами смотрела на мужа:
– Куда он уехал? Вон же он идёт.
Она показала пальцем в окно. Костя глянул, точно, мимо их дома, с котомкой через плечо шагал, насвистывая что-то, Колька Кулаков, сын Панфилыча. Костя сорвался из-за стола и выскочил на улицу:
– Колька, привет.
– О, здоров, Костя, вот приехал на недельку брату помочь. Чё хотел?
– Слышь, ты чё в газету набрехал про то, как родителей твоих враги народа убили?
Приветливая улыбка сошла с лица Кольки.
– Ты чё, белены объелся? Кака така газета? Кому я чё набрехал? Щас как врежу, пьяный, что ли?
Теперь Костя, выпучив глаза, сделал удивлённое лицо.
– Так, пойдём ко мне, я тебе сейчас дам прочитать то, чё ты набрехал.
– Пошли, – с готовностью ответил Николай, и они пошли в дом Кости.
– На, читай. – Костя вытащил из шкафа сложенную газету. – Вот «Комсомолка» от 29 мая 1941 года, а вот и статья – «Враг безжалостен». Читай, читай, а то – врежу. Я те сам щас врежу.
Николай с удивлённым лицом быстро читал статью, поднимая непонимающий взгляд на Машу и Костю.
– Честное комсомольское, это не я рассказывал. Вообще я же никуда не ездил, а тут написано, что рассказал об этом в поезде. Тут ошибка какая-то, да в мыслях у меня не было, что родителей убили, зачем бы мне это придумывать?
– Коль, а ты чё, «Комсомольской правде» не веришь? – с издёвкой спросил Костя.
– Причём здесь это, веришь – не веришь, я вам ещё раз говорю, не я это наговорил. Вот фамилия корреспондента, его и надо спросить, откель он это всё взял и меня приплёл.
– Ага, спроси у него. Он тут недалеко в Москве, поди, живёт, – продолжал с ухмылкой издеваться Костя. – А если серьёзно ты ни при чём, то кто это мог рассказать да ещё твоим именем прикрыться? Дело серьёзное, Николай. Вчерась участковый приезжал, меня расспрашивал, не видел ли я тебя, он мне про это и рассказал. Ему указание пришло проверить факты, указанные в статье. На всю страну статья прогремела, а врагов-то не было. Козодуб сильно матерился, теперь, говорит, деваться некуда, надо врагов – убийц искать. Иначе, говорит, с него голову снимут. Тебя в первую очередь ищет. Хочет узнать, с чего это ты наплёл эту байду.
– Во дела… – только и сказал Николай, бросив на пол котомку. – И чё теперь делать?
– Чё делать, езжай к Козодубу и всё объясни, может, он поверит.
– Ты, Костя, эту газету никому в деревне больше не показывай, ладно?
– Ладно.
– Вот влип так влип, кто же это придумал, а? Пойду я к брату, вещи брошу и в район к участковому, пусть разбирается.
– Ну, счастливо.
Николай, торопясь, ушёл.
– И смех и грех. Костя, думаешь, это не он? – спросила Маша.
– Думаю, это не он, только ничего понять не могу. «Ах, Демьяниха, убили да пожгли, ведь говорила же она», – думал Костя, поглаживая шрам на руке. – Слушай, я с Колькой в район смотаюсь, мысли тут у меня появились кой-какие.
– Костя, завтра ж воскресенье. Не езди, недоброе предчувствие у меня.
– К обеду вернусь. Чё ты так смотришь, не помру же я в дороге.
«Ой, не к добру это», – думала Маша, глядя, как Костя собирается в дорогу.
Просто умереть здесь было нельзя. Об этом можно было только мечтать. Избитого и окровавленного Битца опера Киевского ОГПУ бросили в штрафной изолятор его же лагеря уже под утро, когда двое сотрудников, ничего не добившись, просто устали измываться над его телом.
– Пусть отлежится, в понедельник лично повезёте его в Москву, там увидит свою жену, сыночка и всё расскажет за милую душу. И то, что было, и то, чего не было. Не он первый, не он последний, – мерно шагая по кабинету начальника лагеря, говорил моложавый майор стоявшим перед ним по стойке «смирно» двум усталым сотрудникам. – А сейчас спать, завтра воскресенье. Заскочите домой собраться к поездке, к вечеру чтобы были здесь. Всё ясно?
– Так точно.
– Свободны.
Битц не ожидал ареста и такой скорой расправы над ним. Всё, что он делал, было им тщательно продумано и спланировано. Столько лет безупречной службы, казалось бы, гарантировали ему статус преданного делу партии работника. Однако он заблуждался. Заблуждался в том, что его не тронут по первому подозрению, а начнут проверять. Он это поймёт и успеет уйти сам и спасти семью, но случилось иначе. Сначала в Москве арестовали его жену, прямо из курсантской казармы ночью забрали сына, а на следующий день в его кабинет бесцеремонно вошли люди и, не дав ему произнести и слова, сбив с ног, разоружили. Потом его били и задавали вопросы. Он делал вид, что не знает, что отвечать. Его били и спрашивали, били и спрашивали, пока он не потерял сознание. Сейчас оно медленно возвращалось к нему. Кто-то заботливо подложил ему под голову что-то, и стало легче дышать. Он с трудом открыл заплывшие от побоев глаза и в сумрачном свете камеры увидел склонившееся над ним лицо.
– Ну что, хозяин? От тюрьмы да от сумы не зарекайся, верняк?
Он не рассмотрел ещё лица, но голос узнал. Это был Москва. Битц похолодел. «Из огня да в полымя», – мелькнула в его голове нравившаяся ему чёткостью мысли русская пословица. Он сделал усилие приподняться.
– Лежи, лежи. – Москва придержал его за плечо. – Никто тебя не тронет, тут уж и трогать грех, такую котлету из тебя сделали. Сейчас глотнёшь снадобья, полегче станет. – Он поднёс ко рту Битца склянку и, приподняв голову, помог сделать несколько глотков.
Через какое-то время Битцу действительно стало легче, разливавшаяся по всему телу боль куда-то ушла, в голове просветлело, и он без посторонней помощи сел на нарах. Напротив сидел, подперев тяжёлый подбородок кулаком, Москва и с нескрываемым любопытством всматривался в лицо начальника лагеря.
– Ты смотри! Там, где не сине, даже порозовело. Сильное снадобье, не соврали люди. Как самочуйствие, начальник, идти сможешь?
– Куда идти? – не понял Битц. – Мы же в ШИЗО, кругом охрана?
– О, соображать начал. Точно, в ШИЗО, и охрана кругом, всё как всегда, только сейчас ночь, а ночью в лагере свои законы, сам знаешь. Выведу я тебя, начальник, иначе тебя добьют, не здесь, так в столице, а ты нам живой нужен. – Москва ухмыльнулся. – Век воли не видать, не ожидал, что спасать мусора придётся, а придётся…
– Кому это вам? – прервал его Битц.
– Братве, – коротко ответил Москва. – Ты полежал бы ещё часок-другой, сил поднаберись, идти пёхом придётся долго. В четыре утра уйдём. Вопросов больше не задавай, с нами ты жив будешь. А не захочешь с нами, крышка тебе, так что выбора у тебя всё равно нет. А мне на вопрос ответь, иначе пустые наши хлопоты будут. Архив гэпэушники взяли?
– Какой архив?
– Твой архив, начальник, не дури. Он теперь дороже твоей жизни стоит, мы слова на ветер не бросаем, тебя спасём в обмен на твой архив, о нём сведущие люди знают, и цена ему твоя жизнь. Всё понял, начальник?
– Понял, архив за зоной, в надёжном месте, без меня вам его не видать.
– Ну так что, договорились?
– Договорились. Слово офицера.
– Ох, ох, слово офицера. Какого офицера? Мусорского слова мне не надо, ты человечье слово дай, – грубо, с издёвкой, произнёс Москва, жёстко глядя в глаза Битцу.
– Даю, – ответил Битц.
– Вот теперь верю. Хоть ты и мусор поганый, но по лагерям слух такой, что слово ты своё держать умеешь.
Где-то вдалеке ухнуло, ещё и ещё.
– Никак, гроза? Нам на пользу. Собачки следа не возьмут. Ладно, отдохни, через часок зайду за тобой. – Москва встал и, отворив дверь камеры, вышел. Дверь закрылась, и глухо прошелестел закрываемый затвор.
Битц закрыл глаза. Да, похоже, иного выхода у него не было. Он не знал точно, чего добивались от него гэпэушники, но знал теперь, что нужно уголовникам, причём первые готовы отнять у него жизнь, а вторые спасают ее. Он с ужасом подумал о жене. Её наверняка тоже возьмут, и сына. Он ничего не успеет сделать. Стоп. Москва. «Если он поможет спасти их, отдам архив».
Сильные удары грома приближались, и, странно, они были настолько частыми, что Битцу показалось: это вовсе даже не удары грома, а какая-то канонада. Он хотел прилечь, но услышал шум шагов и лязг открываемого затвора.
«Не успел Москва», – с отчаянием подумал Битц, приготовившись увидеть в дверях своих мучителей, но увидел вбежавшего законника.
– Быстро пошли! – крикнул Москва, не закрывая дверей.
В это время что-то с грохотом ударило в здание, и стены шатнулись. Посыпалась штукатурка и пыль. Они выскочили из камеры и почти бегом кинулись по узкому коридору подземелья. Ещё один удар, и земля буквально ушла у них из-под ног, треск и грохот, куски кирпича и клубы пыли обрушились на них. Выкарабкиваясь из этого крошева, Москва буквально на себе тащил контуженого Битца. Вокруг творилось что-то невообразимое. Небо ровно гудело моторами и ревело летящей к земле смертью, огромной мощи взрывы накрывали небольшой город, железнодорожную станцию и лагерь. В этом месиве огня и встававшей на дыбы земли, грохоте и криках обезумевших, мечущихся людей Москва и пришедший в себя Битц покинули лагерь, вернее, то, что от него оставалось. Вдруг всё затихло. Бомбёжка кончилась, и только пыль, покрывшая свежую зелень, да столбы дыма пожарищ говорили о том, что это утро разделило жизнь людей на до и после. Жизнь Битца тоже была расколота на до и после, но не началом этой войны, а чуть раньше, он этого ещё не мог осознать, так как не понимал вообще ничего. Пробитая и наскоро перевязанная голова его просто отдавала команды страшно болевшему от побоев телу. Он двигался безмолвно, ведомый людьми Москвы, которые дождались их на окраине городка. Шли молча, шли несколько часов и где-то пополудни в небольшом, но густом лесу остановились. Москва, выйдя на небольшую поляну, раздвинул ветви кустов, и все увидели вход в землянку. Даже тут, попадав на ладно сложенные из досок нары, все продолжали молчать, вопросительно и озадаченно поглядывая на законника. Москва, усевшись на чурку около небольшой железной печки, потёр рукой подбородок и, взглянув на Битца, сказал:
– А что, начальник, мне почему-то кажется, что нас искать не будут. Вернее, если и будут, то не сегодня. Тут, видно, такая заваруха началась, война, однако.
Это слово, оброненное Москвой, враз сделало тишину в землянке такой, что, казалось, у всех перехватило дыхание. Первым нарушил тишину Татарин. Толкнув в бок Фрола, он сказал:
– Кому война, а кому мать родна. Теперь вертухаям не до нас будет, пол-лагеря в бегах, пока разберутся, кто где, мы уже далеко будем.
– Так-то оно так, – задумчиво ответил Фрол, развязывая небольшой вещевой мешок. – Токо чё-то радости я не испытываю.
– Да, радости мало, у нас «дорога» готова была, ксивы, а теперь введут военное положение, на каждом углу проверки. Да и вертухаи трупы пересчитают да лохов из ближних подвалов вытащат. То, что нас нет да начальника, скоро ясно станет, тут уж они не дураки, поймут. Так что уходить надо быстро, и плацкарты нам не видать. – Москва глянул в сторону лежавшего на нарах Битца: – Что скажешь, начальник, ты эту сволочную систему лучше нас знаешь.
Битц долго молча лежал под взглядами зэков, затем медленно, стараясь не шевелить головой, сел на нарах и, глядя в пол, сказал:
– Охота за нами будет по полной программе. Скорее всего, она уже началась. ОГПУ – система железная, даже если началась война. Однако от Городка уходить нельзя. Кто-то должен вернуться и принести вещи и документы. Всё приготовлено и лежит в надёжном месте, если только при бомбёжке не зацепило.
– Не пугай, начальник. Там сейчас чёрт ногу сломит, какая охота. День-два, пока оклемаются.
– Москва, ты за собой дверь в камеру закрыл? – спросил Битц. И сам ответил: – Нет. Что первое в голову оперу придёт, когда он это увидит? Дверь нараспашку, и меня нет. Побег. А значит, сразу тревога. Вас пока в общей массе вычислят – максимум день. Среди погибших нет, значит, побег, к вечеру уже будет всё ясно.
– И чё таперь? – Спросив, Фрол положил в рот кусок сахара.
– А теперь вы с Татарином вернётесь в Городок и принесёте то, что начальник просит, – ответил Москва. – Если к полуночи не вернётесь, значит, вас замели, и мы уходим. Но думаю, проскочите, на рожон не лезьте. Где, начальник, твой схорон? Давай объясни пацанам.
– Во бля, сами в лапы вертухаям, что ли, пойдём? – взвился Татарин, но под тяжёлым взглядом Москвы замолчал.
– Они в Городке нас ждать не будут. Если мы подорвались, то уже под носом у них не появимся. Сейчас надо быстро рвать назад, – вдруг спокойно и рассудительно сказал Фрол. – Говори, начальник, чё делать надо?
Битц подробно рассказал, где и как спрятаны вещи и как они должны их взять.
– Да, – выслушав Битца, сказал Москва. – Не так ты прост, начальник, не зря тебя гэпэушники взяли. Может, ты враг народа?
– А кто, по-твоему, в этой стране друг народа? Может, товарищ Сталин? – вопросом на вопрос ответил Битц.
– Сталин не друг, Сталин отец народа, а отец строгим должен быть, иначе в семье порядка не будет. И ты, мусор, лучше его не трожь, – сказал Москва. – Всё, кончай базар, давайте, пацаны. У нас теперь один друг, воля вольная, а всё остальное х…я. На-ка, Фрол, волыну. Прихватил у одного убитого, когда уходили, может, сгодится.
Фрол повертел маленький в его ручищах наган и отдал Татарину.
– Пущай у тебя будет. Я случай чего так обойдусь. – Сжав кулак, посмотрел на него и, пригнувшись, вышел из землянки.
Следом выскользнул Татарин, и скоро их шаги стихли. Оставалось ждать. Битц, кряхтя, устроился на нарах, и скоро его неровное дыхание успокоилось.
«Уснул мусор. Ладно, спи пока. Архив отдашь, а там посмотрим, что делать», – подумал Москва и тоже улёгся на нары. Через какое-то время он закурил, встал и сел за стол. Дым его папиросы пеленой плавал под низким, сырым, опутанным белёсой паутиной потолком землянки.
Екатерина Михайловна не знала, с чего начать. Вся жизнь крутилась вихрем в её голове, воспоминания то отрывками, то красочными картинами всплывали в памяти, заставляя учащённо биться сердце, ей не хватало воздуха.
Тихим весенним вечером 1915 года она встретилась с молодым офицером Павловым. Это случилось на именинах подруги Оленьки, тогда он впервые пригласил её на танец.
Когда его рука едва коснулась её талии, а глаза встретились, Катерина чуть не потеряла сознание. По телу прокатилась дрожь, а глаза на мгновение застлал туман. Она чуть качнулась, но сильные руки Павлова подхватили её и закружили в весёлой мазурке. Через секунду она уже счастливо смеялась. Легко, словно летая, они плыли по паркетным полам Оленькиной гостиной в волнах захватившей их музыки. Она таяла в надёжных и крепких руках Павлова. Его грудь, украшенная Георгиевским крестом, и золотые погоны, приятный, бархатный с хрипотцой голос и большие, сжигающие её взглядом, выразительные под сросшимися чёрными бровями глаза не оставляли её сердцу никаких шансов на спасение. Она, словно птица, попавшая в силки, всем своим существом пыталась из них вырваться. Одновременно понимая тщетность своих попыток, трепетно ощущала всю прелесть тысяч нитей, вдруг окутавших её и связавших их обоих. В этот вечер Павлов ангажировал её на все танцы и вообще не отходил от неё. Она ловила на себе восхищённые взгляды подруг, сердце сладостно сжималось от счастья. От предвкушения того счастья, которое, она ничуточки не сомневалась, скоро наступит в её жизни. После танцев, гуляя в саду, они незаметно забрели в самый укромный уголок и, не видимые никем, целовались, пьянея от объятий и нежности. Эту ночь она не спала. Последний поцелуй при расставании не давал ей уснуть. Она долго смотрела на себя в зеркало, разглядывая своё лицо, шею, плечи, грудь, прикасаясь пальцами к тем местам, где ещё несколько часов назад чувствовала прикосновения пылающих нестерпимым жаром губ Павлова. Она закрывала глаза и вновь и вновь предавалась сладостным воспоминаниям, в деталях вспоминая каждое его движение, каждое касание их тел, и задыхалась от ни с чем не сравнимых новых и таинственных чувств, бушевавших в её теле. Пыталась уснуть, но в глазах стоял он, и его улыбка, его взгляд будоражили и волновали, отгоняя сны. Забывшись под утро, она проснулась с одним желанием: скорее, скорее бы пролетел день, вечером он будет её ждать. Она пойдёт на свидание. Она влюбилась, она любит. Какое это счастье любить, пела её душа. И он любит её, она это знала, она это чувствовала всем своим естеством, глубоко и нежно. Так мимолётно пролетел месяц. Это был месяц, когда они, ежедневно встречаясь, проводили всё свободное время вместе. Каждый день, расставаясь, она ждала завтрашней встречи, чтобы снова и снова быть рядом с ним.
Но месяц закончился. Павлов вместе с командой вылечившихся от ран в госпитале уезжал на фронт. Когда эшелон уже тронулся, он соскочил с подножки и, крепко поцеловав её в губы, прошептал:
– Катенька, я буду тебе писать, хочу, чтобы ты стала моей женой. Жди меня.
Она ничего не смогла ответить ему, горло перехватило. А эшелон уходил и уходил на запад, унося Павлова и её любовь. В голове всё звучали его слова: «Стань женой, жди меня» – и она ждала. Писал он часто. Каждую неделю почтальон приносил два, а то и три письма, и Катерина радостно читала их, жила ими. Он приехал холодной декабрьской ночью. Его лицо, его глаза, ворвавшиеся вместе с клубами морозного воздуха в хорошо протопленную квартиру Катерины, сказали ей всё. Она упала в его объятия и этой ночью стала его женой, а утром он привёз её к своей матери. На следующий день они венчались в небольшой церквушке и три дня не разлучались ни на час. Потом он уехал, обещав вернуться через два дня, так как нужно было срочно решить какие-то дела, но не вернулся. Короткое письмо, наспех написанное им в поезде, опущенное в почтовый ящик на одной из маленьких станций, шло очень долго. В нём он объяснил, что отпуск был прерван в связи с тем, что ему просто необходимо было быть на фронте, он служил под командованием Брусилова. И в комендатуре, куда он зашёл, получил срочное предписание явиться на службу. Эшелон стоял уже под парами на станции, ему невозможно было приехать даже попрощаться, за что он просил прощения. Шла война, жестокая и беспощадная, унося жизни и калеча судьбы людей. А в ней, в Катерине, зародилась жизнь, и эту жизнь не интересовало то, что происходит вокруг, она пришла и заявила о себе. Летели недели, месяцы, письма перестали приходить в ноябре семнадцатого, когда в стране началась неразбериха. Катерина ничего не понимала в политике и не сразу поняла, что такое революция, просто для неё это выразилось в том, что пожилой добрый почтальон перестал носить письма и вообще куда-то делся. Куда-то делась и полиция. В городе стало неспокойно, она не раз слышала стрельбу. По улицам ходили вооружённые люди с суровыми лицами, она видела, как схватили офицера и прямо на площади перед базаром расстреляли. Что происходит? Она не в силах была понять и разобраться в этом. Её тётка спешно собирала всё ценное и готовилась к отъезду. В Харбине у неё жили друзья, которые в письме пригласили их переждать, пока в стране не наведут порядок. Как ни уговаривала тётка, Катерина ехать отказалась. Причина была одна: она ждала Павлова, который передал весточку, что скоро будет. Мать Павлова, Глафира Андреевна, простая и аккуратная женщина, после смерти мужа, погибшего ещё в Русско-японскую войну при обороне Порт-Артура, жила скромно в большом доме на пенсию, назначенную царским правительством. Когда пенсию платить перестали, продавала вещи и ценности. Катерина ждала. Ждала, баюкая крошку, которая ещё не видела своего отца, ждала долгими холодными ночами и чувствовала, что он жив и он придёт. Так и случилось, он был жив, но приехать не мог. Весть о том, что Павлов жив и лежит в госпитале в Смоленске, дошла вместе с весёлым прапорщиком, заглянувшим к ним в дом. Никого не слушая, оставив малышку Глафире Андреевне, она собралась в дорогу. Это случилось в начале восемнадцатого года. Если бы Катерина могла представить, что больше не увидит свою дочку! Но тогда ей и мысль такая не могла прийти в голову. Она ехала к раненому мужу, проведать, помочь, забрать домой, она знала, что ей нужно ехать к нему. То, что случилось потом, толком не помнит и сейчас. Она села в один из эшелонов, шедших на запад, и всё смешалось в её судьбе и голове. Отрывочно помнит, как в переполненный вагон где-то за Томском ворвались вооружённые люди и она, как и многие, осталась без денег и документов. Более того, в Екатеринбурге её просто выкинули из вагона, экспроприированного на нужды революции.
Несколько бессонных ночей на холодном вокзале и невозможность что-либо предпринять. Дальше был какой-то жуткий кошмар. Её, голодную и замерзавшую, привели в битком набитый людьми, прокуренный и грязный барак. Она пыталась объяснить людям, окружавшим, что едет в Смоленск, к мужу, её ограбили, ей нужна помощь, но её никто не слушал. Всем было безразлично, кто она, что с ней случилось. Кто-то сунул ей в руку кусок чёрствого хлеба и луковицу. С трудом найдя свободное место, не в силах даже поесть, впервые за несколько дней она уснула. Проснулась от жажды, сильно хотелось пить, в бараке было темно и душно, она пыталась встать, но почему-то не смогла этого сделать. Страх охватил Катерину, она рванулась, но тело не слушалось её. Закричала, но только слабый стон вырвался из её уст. Тиф. Этот страшный диагноз она не слышала. Её, еле живую, вынесли из барака, в котором остались десятки трупов. Барак вместе с трупами сожгли – так решил седой мужчина с профессорской бородкой, руководивший десятком молодых людей. Два месяца она боролась с болезнью и выжила только благодаря тому, что её вывезла в Москву та самая бригада добровольцев из университета. Тем временем под нужды революции был конфискован дом Павловых, и Глафира Андреевна вынуждена была выехать с внучкой к дальним родственникам в Хабаровск. Только через полгода она приехала вновь в Читу, устроилась техничкой в госпиталь, поселившись в одном из деповских домов. Как она сумела это сделать, никто не знал. Она никогда больше не появлялась на улице, где стоял её дом, а в двадцатом дом сгорел. Весной восемнадцатого года Катерина смогла добраться до Смоленска, но, увы, госпиталя она там не нашла. Вернулась в Москву к приютившим её людям. Вернуться в Читу было непросто, Гражданская война перерезала все дороги, денег и документов по-прежнему не было, и Катерина стала искать хоть какую-то работу. Помог тот же профессор медицины, который когда-то, показав пальцем на почти труп молодой женщины, сказал: «Эта выживет, заберём с собой». Он устроил её секретарём-машинисткой в адвокатскую контору, владельцем которой был его университетский приятель Пётр Петрович Арефьев. Только в двадцать втором году Катерина смогла приехать в Читу и месяц билась в поисках следов своей свекрови и дочери, но никто ничего не знал. А кто и знал, то промолчал, ведь она искала жену и мать белого офицера. Кто-то ей сказал, что в сгоревшем доме погибло много людей, среди них были и дети. Оглушённая этой вестью, она вернулась в Москву и через некоторое время дала согласие на брак с Арефьевым. Ей просто нужно было начать жизнь заново, и Пётр Петрович всё сделал для того, чтобы она забыла прошлое и была счастлива. Теперь всё нужно было рассказать этому человеку, мужу её дочери, и она не знала, как это сделать. Видя, как мучительны воспоминания для Екатерины Михайловны, Макушев остановил её:
– Не это главное, и вы ни в чем не виноваты, дорогая Екатерина Михайловна. Главное, что Мария жива, у вас есть два внука и зять, коим я являюсь и очень этому рад.
Екатерина Михайловна, едва удерживая слёзы, благодарно посмотрела на Макушева и стала расспрашивать о Марии. Степан стал рассказывать, видя, как успокаиваются и теплеют лица сидевших с ним за столом людей, ещё вчера незнакомых, а сейчас самых близких родственников. Разговоры затянулись до утра. Утром Владимир ушёл на службу, пожелав Степану хорошенько отоспаться. Но отоспаться Степану не удалось. Вернувшийся в обед Владимир о чём-то переговорил с родителями, а потом разбудил Степана:
– Степан, извини, что бужу, проснись.
– Что случилось?
– Да нет, ничего не случилось. Родители очень просят тебя не сообщать пока ничего Марии, лучше, если это произойдёт при встрече. Мама не спала сегодня, отец тоже. Как бы пригласить Марию приехать в Москву? Это возможно? Степан, если это возможно, сделай это.
– Почему нельзя? Очень даже можно и нужно. Дам телеграмму, чтобы сегодня же выезжала с детьми, надеюсь, примете? Мне ещё минимум два дня в Москве, хотелось бы присутствовать при такой встрече, не возражаете? – улыбаясь, спросил Степан.
– Конечно, о чём ты говоришь? Давай вместе на телеграф, мне как раз по пути на службу. – Владимир почти побежал на кухню. – Чай уже наливаю, давай мойся.
Наскоро перехватив чая с бутербродом, Степан вместе с Владимиром направился на телеграф. «Всё хорошо, в связи с особыми обстоятельствами срочно сегодня с детьми выезжай в Москву, дай телеграмму, встречу на вокзале. Целую, твой Степан. 20 июня 1941 года». Получив телеграмму, Мария не теряя времени, собрала детей и уже вечером выехала поездом в Москву. Не предполагал тогда Степан, что этой телеграммой спасёт свою семью. Первые же бомбы, обрушившиеся на Городок утром 22 июня, угодили именно в их дом, оставив на его месте огромную воронку.
Поезд в Москву прибывал ранним утром 22 июня. Степан и Владимир встречали Марию. Владимир, отлучившись ненадолго, купил букет цветов, чем озадачил Степана.
– Дай букет мне, я подарю.
– Сам должен был догадаться, – смеялся Владимир, видя, что поезд подходит, а Степан обескураженно топчется на месте, не зная, что предпринять.
– Отдай букет мне, она ж моя жена!
– Тебе жена, а мне, выходит, сестра, ладно, держи. – Владимир отдал букет роз Степану. – Будешь должен, – продолжая хохотать, сказал он, видя перед собой смущённого увальня в форме капитана, с раскрасневшимся лицом и красными розами в руках.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































