Текст книги "Смотреть на птиц"
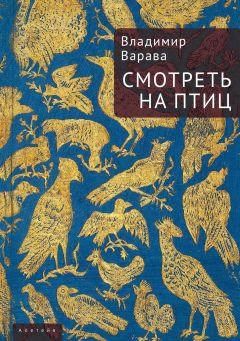
Автор книги: Владимир Варава
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 20 страниц)
Разбитая витрина
…и вновь тревожит витрин крик глаза.
Николай Лепок
Я никогда в жизни не видел своих глаз. Не в том смысле, что я никогда не заглядывал в зеркало, в котором отражается лицо, а потому что никогда не смотрел себе прямо в глаза. Не смотрел так, как можно смотреть на самые простые вещи и части тела. Обычно, по моим наблюдениям, разглядывают руки и зубы. Зубы, думал я раньше, вообще сердце человека. И смотреть на зубы естественно. Улыбка, и все такое. И руки люди часто рассматривают, поворачивая их попеременно то тыльной, то внутренней стороной, сжимая и разжимая кулаки и зачем-то вытягивая пальцы. Как будто видят их впервые.
А глаза? Я не исключение, люди все боятся глаз, боясь сглаза, боясь неведомо чего. Это только женщины смотрят, да и то не себе в глаза, а на то, что вокруг них. Разумеется, смотрят с косметическими целями. Едва ли можно встретить женщину, которая подолгу заглядывала бы в отражение своих прекрасных глаз, пытаясь найти там духовные сокровища. Женщины вообще мало что видят в духовном плане, они слово незрячие даже с красивыми и здоровыми глазами. И эти незрячие поводыри так много значат! Надо ж понимать, в каком мире мы живем.
Так вот один раз я все же увидел свои глаза, занырнув в их самые глубокие недра. Я не раз думал, какое наиболее сильное потрясение может испытать человек? Что более всего может его поразить, удивить, привести в отчаяние, или, наоборот, в предельный ужас и восторг? И понял, что это глаза, мои собственные глаза, в которые я однажды посмотрел со всей силой прямого и чистого взора. Потому что я увидел, что в них.
Теперь я знаю, глаза – совершенно инородный, почти что мистический орган в человеке. И поэтому человек не совсем человек. Если бы человек был только лишь природным существом, пускай и высшего уровня, как я думал наивно до этого, то эта самая природа не смогла бы сотворить глаза, придумав вместо них какие-нибудь усики, щупальца или что-то в таком духе, посредством которых можно было бы воспринимать действительность и вполне сносно в ней устроиться. Животному ведь многого не надо для существования; зачем ему видеть то, что он видит, то есть видеть лишнее, не нужное для выживания и простого удовлетворения? И для тех, кто живет по принципу «Хлеба и зрелищ», глаза – это непростительно избыточная роскошь. Явно ведь, что они из других миров, из другого порядка вещей. Словно красивые черти они засели на самое пристойное место, и смотрят оттуда своим до невозможности бесстыжим всепожирающим взглядом. Потому что глаза видят все.
Какая нелепость, когда говорят, что есть нечто «недоступное взгляду», что, мол, существуют какие-то микро и макромиры, иная реальность, другой мир, потустороннее, и вообще, что мы воспринимаем чуть ли не пять процентов от того, что способно воспринять наше зрение. В таком случае глаза были бы какими-то неполноценными придатками к более совершенному… только вот непонятно чему? В том-то и дело, что взгляду доступно все, абсолютно все. Необходимо лишь понять уведенное. Глаза видят, и этого достаточно, чтобы умереть от изумления, не сходя с места. Вот я и умер, вернее, чуть не умер, иначе, кто бы это записал, когда я понял истину своих глаз… когда прозрел.
Тем прохладным летним утром, я как обычно возвращался домой со своей смены. Я работаю по ночам, и каждый день иду одной и той же дорогой, никогда ее не меняя. Мой путь строг и размерен, по мне вообще можно сверять часы. Следуя раз и навсегда установленному маршруту, я не позволяю себе отвлекаться ни на какие посторонние предметы: ни на красивых девушек, ни на дорогие машины, ни на высокие здания. Не смотрю на птиц, летящих над головой, и не разглядываю потрескавшийся асфальт под ногами. Я как бы принуждаю себя не замечать окружающего мира, поскольку дома меня ждет самая дорогая вещь – мой анатомический атлас. Это единственное, чему я предаюсь с самой горячей страстью, на которую способно такое бесстрастное существо как я. Я и работу такую специально выбрал, чтобы ничто внешнее не мешало главному и любимому.
Но в то утро я неоправданно задержался, и даже мои родственники, которым я, в сущности, был безразличен, всерьез встревожились моим отсутствием. Тем более, что я никогда не ношу с собой телефона по причинам никому не известным, и я не собираюсь распространяться на эту тему. Они чуть было не отправились на мои поиски, но я появился в самый последний, почти критический миг, принеся с собой очень странный и непонятный для них предмет. Мой вид, речь и действия не на шутку их обеспокоили, особенно после долгих и безуспешных попыток с моей стороны объяснить им что-то совершенно невообразимое. Скорее всего, они мне не поверили, и я вынужден до сих пор искать сочувствующих, находясь в полной тьме непонимания.
Витрина старого магазина, который располагался на моем пути, была разбита. Скорее всего, она была разбита давно, возможно от сотворения мира. Но я едва замечал этот магазин, и уж, тем более, никогда бы не заметил какую-то витрину, если бы меня не остановил внезапный крик, раздавшийся со стороны магазина. Крик действительно был настолько сильным, что не только я, такой безразличный и пунктуальный человек, но, наверное, даже робот содрогнулся бы, услышав его. Было не понятно, кто кричал, да и природа крика была тоже непонятна. Так иногда бывает: общий равномерный поток жизни нарушает какой-нибудь непонятный и странный звук. Но это не главное: крик послужил причиной, заставившей меня обернуться в сторону магазина и увидеть то самое место, где находилась разбитая витрина.
Все-таки желая узнать, что случилось, я метнулся в направлении услышанного мной звука. Мне было не страшно, хотя там могло быть нечто ужасное, тем более, что вокруг не было ни души. Как будто все люди исчезли в то жаркое летнее утро. Поравнявшись с витриной, я вдруг обнаружил, что она состоит из огромного количества разбитых зеркал, составивших необычный по красоте и размеру калейдоскоп. Такой необычный, что я буквально остолбенел; будучи не особенно восприимчивым по эстетической части, тут я восхитился этой немного даже дерзкой игрой света и лучей, которая тянула к себе с такой силой, что захотелось подойти еще ближе, чтобы все рассмотреть с самого кратчайшего расстояния. Зеркала обладали различной степенью кривизны и были разных размеров, что создавало неуместный эффект комнаты смеха, будто все зеркала всех этих комнат зачем-то встретились в одном месте.
Крик прекратился также внезапно, как и появился, да я о нем уже и не помнил; мой взгляд блуждал от одного зеркала к другому, очарованный этой вдруг создавшейся необычной реальностью. Было чему подивиться: в зеркалах отражалось небо, солнце, улицы, дома, машины и другие зеркала; все это создавало какую-то запредельную какофонию линий, цвета, фигур, всяческих геометрических конструкций и фантастических пространств. Я словно провалился в другую реальность. Меня это позабавило как ребенка; начисто забыв о времени, я предался самому бесполезному в мире действию – чистому эстетическому созерцанию.
Мое детское изумление, однако, быстро прошло, вернее, оно прошло моментально, когда в отражении одного из зеркал я увидел свое, чуть увеличенное в размерах лицо. Намереваясь тут же перевести взгляд, поскольку смотреть в зеркала я никогда не любил, не надеясь увидеть ничего хорошего, я вдруг заметил нечто необычное. Я впервые увидел свои глаза. Они открылись мне во всей своей очевидности, строгой очерченности и выделенности на фоне всего остального, что составляло рисунок моего лица. Немного завороженный таким неожиданным открытием себя, я стал пристально и напряженно вглядываться, поскольку я действительно видел свои глаза впервые. Но вместо обычного «органа зрения», состоящего из роговицы, ресниц, яблока и зрачков, передо мной разверзлись две огромные черные дыры, в которых билось по человеческому сердцу.
Мне показалось, что померкло солнце и остановилась земля, что вообще наступил конец света. Я понял, что услышанной мной крик был не чем иным, как трубным гласом, зловещим предзнаменованием приближающейся катастрофы. Несколько мгновений, показавшихся вечностью, прошли в самом страшном оцепенении в наиболее отдаленных уголках мертвой вселенной. Зажмурившись так сильно, что хрустнуло где-то в затылке, я вновь впился глазами в этот проклятый осколок зеркала. Нет, не впился, я прямо-таки нырнул в него с головой. Как самый последний безумец я смотрел в свое отражение. Смотрел и смотрел, как прикованный, не в силах оторваться от того одновременно ужасного и восхитительного зрелища, которому я стал единственным в мире свидетелем. Сомнения не было никакого: в глубине черных дыр, которые зовутся зрачками, бились человеческие сердца.
Они бились так живо, равномерно и в то же время равнодушно, как бьется любое человеческое сердце, выполняя свою непонятную, да вобщем и ненужную физиологическую обязанность. Это были именно человеческие сердца, я это точно знал, поскольку занимался анатомией и мог отличить человеческое сердце от сердца любого животного. Его привычный образ, который, впрочем, известен каждому школьнику, вдруг поместился в самые недра моего органа видения. Но почему их два, и почему они располагаются не в том привычном месте, о котором нас всех учат с детства? Я, как говорится, глазам своим не мог поверить. А как им верить, если внутри них располагается то, что противоречит всем привычным представлениям о разумном мироустройстве?
Отойдя от витрины на несколько шагов, я стал медленно прохаживаться вокруг магазина, боясь уйти от него на далекое расстояние. Мне нужно было некоторое время, чтобы прийти в себя, чтобы хоть как-то осмыслить увиденное, чтобы вселенная тут же не разлетелась и не отменился существующий ход времени. Небо, залитое своей обычной голубизной, было наивно и радостно, как детский праздник. Солнце над крышами высоток источало свой привычный жар, говорящий о том, что наступило лето. Люди уже шли по своим делам, и их спокойное и равномерное движение говорило о том, что все хорошо. Но на них я теперь смотрел по-другому. «А у них-то что? У них тоже самое, или это только у меня?» – возник естественный и в тоже время страшный вопрос. Мне захотелось тут же проверить свое открытие на первом встречном, проверить немедленно. Но остатки здравого смысла все же остановили это.
Трудно сказать, что я испытывал в ту минуту. Это могло бы показаться сном, галлюцинацией, чудовищным изменением сознания, трансформацией бытия, опять-таки концом света, чем угодно. Но я реалист, не принимаю наркотиков, и ни разу в жизни не пробовал алкоголя. Моя жизнь – это работа и дорога, по которой я на нее ходил и возвращался домой, где меня ждал атлас – моя первая и последняя драгоценность. Потерев глаза, ощупав их так, словно это были теперь не глаза, а какие-то инопланетные минералы, я вновь как бы крадучись подошел к разбитой витрине, чтобы еще раз убедиться в увиденном. Оказалось, что сердца видны лишь в одном зеркале, в остальных было обычное, банальное изображение, знакомое каждому. Я это обнаружил, пересмотревшись во все зеркала этой огромной разбитой витрины. А кто ее разбил?
Что думали прохожие в эту минуту, я не представлял, но мне было на них совершенно наплевать, поскольку то, что занимало мое внимание, было на бесконечность ценнее мнения любого человека, мнения всех людей вместе взятых, живших на земле во все времена.
Я провел у витрины очень много времени, не решаясь оставить это свое открытие. Уж не знаю, что это: открытие или проклятие? А может быть начало новой эры? Вглядываясь в зеркало вновь и вновь, я видел одно и то же: в глубине зрачков неизменно находились два крохотных человеческих сердца, которые бились так трогательно, что это напоминало колыхание крылышек очень маленькой бабочки. Вначале это биение мне показалось равнодушным, но по мере вглядывания я видел их осмысленную, сострадательно-одухотворенную работу. Теперь я видел воочию, что это не просто мышцы, перегоняющие кровь, но крохотные младенцы, которые танцуют свои ангельские танцы, воздавая хвалу Господу.
Стало понятно, почему сердцу придают такое огромное значение. Всегда люди догадывались, догадывались смутно, но безошибочно, что с сердцем что-то не так, что здесь какой-то корень, какой-то центр. Излишне мистифицировали сердце, связывая с ним суть человеческих мук и переживаний. Но никто никогда и подумать не мог, что сердце находится в глазах, образуя совершенно невероятную анатомию, о которой могли лишь догадываться мудрейшие из мудрейших. Человек видит сердцем – в этом вся разгадка. Он не чувствует сердцем, он сердцем видит. Глаза могут видеть не потому, что связаны с мозгом, как думала старая физиология, а потому, что связаны с сердцем, с двумя сердцами – младенцами, сердцами – ангелами, которые призывают свет, в свете которого видно все.
Я стал трогать левую часть своей груди, трогать все сильнее и сильнее, потому что не чувствовал привычного стука в привычном месте. Сначала я помертвел от страха, как мертвеет любой человек, если тут же не находит биения пульса, если он зачем-то хочет его почувствовать. Но страх сменился радостным откровением. «Так вот в чем дело, – догадался я, – кто открыл истину своих глаз, у того перестает биться сердце, и он видит суть вещей!» Значит стук сердца – это обман, иллюзия, и никакого сердца нет, а есть два маленьких сердечка, располагающихся в глазах!»
«А как же инфаркт?» – пронесся закономерный и одновременно коварный вопрос. И тут же легкая снисходительная улыбка стала ответом на возникшее сомнение. Никакого инфаркта нет, потому что нет того, что его вызывает. А то, что называют инфарктом, есть непонимание истинного устройства человека. «Если это так, то значит, – работала моя мысль все дальше и быстрее, – все наши знания о строении человеческого организма не просто не верны, они нелепы». «Да, это так, – отвечали мне мои глаза, которые теперь видели то, что не может видеть смертный, оставаясь при этом живым». Надо просто научиться жить с новым зрением, с новым знанием. Теперь-то стало понятно, зачем я увлекался анатомией.
Лихорадочными и судорожными движениями я стал выламывать драгоценный кусок зеркала из общего полотна разбитой витрины. Мне долго этого не удавалось, и во время непонятной для собравшейся вокруг меня толпы работы, я сильно поранился. Кровь сочилась по моему телу и ее брызги разлетались вокруг, как брызги истины, окропляя всех своей свято-кровавой влагой. Наконец, мне удалось достичь желаемого; бесценный предмет был у меня в руках. Обрадованный этим, я смело отправился домой, проверять на своих близких, а затем и дальних, чудодейственную силу разбитого зеркала.
Как я встретил свою смерть, я, конечно, не могу знать точно. Как и того, была ли это смерть, та самая, которую мы все так ждем и поэтому так сильно боимся. Всегда в самой сладостной встрече с любимой есть страх. Но это и есть мука любви. И стало темно. Два маленьких ангела, совершив свою работу, покинули мои глаза, чтобы я мог хорошенько отдохнуть и все обдумать в полной тьме.
Принцип жизни
Я знал, что умру. Не в принципе, как учит абстрактный силлогизм всеобщей смертности, скорее успокаивая нашу больную совесть, чем сообщая что-то существенное и правдивое, но очень, очень скоро. И в этом «скоро» было столько грусти и скорби. Я прекрасно знал всю эту историю про Ивана Ильича, особенно то рыдающее откровение, которое испытал умирающий, прозрев в обман логического утешения. Но все равно, это мое знание, как говорят, было умственным. Я просто понимал, о чем идет речь. И все. Теперь, когда близость смерти стала невероятно ощутимой для меня, когда она пьянила своей мертвящей неотвратимостью, все стало по-другому. Я знал, что не умру, а умираю.
Это было какое-то новое чувство, вдруг пришедшее, нет, рухнувшее из самых далеких загробных высот моей все еще удивительной жизни. Да, я продолжал удивляться происходящему, в том числе и тому, что со мной происходит. Я не лишал себя удовольствия даже некоторой интроспекции своих внутренних состояний. Кое-что и записывал чуть ли не в надежде издать! Какая наивная нелепость… Неотступное чувство приближающейся смерти угнетало все, превращая меня в несуразный комок ощущений. Я всегда был твердо уверен, что невозможно никак предчувствовать собственную смерть. Это было моим кредо, высшей убежденностью. Столпом абсолютного знания, которое я добыл из критического анализа всех интеллектуальных традиций мира. И несмотря на это, я все-таки знал, что скоро умру. И это знание разлагало мое оставшееся существование, переводя каждый день и час в невыносимую пытку ожидания.
Мало сказать, что это знание пришло совершенно неожиданно, вмиг разрушив все предшествующее. Это звучит крайне пошло. Всегда что-то приходит ко всем, разом изменяя жизнь. Так, по крайне мере, пишут в литературе. Все дело в том, что со мной не произошло ничего; просто стало очевидно, что я скоро умру. Словно черный подол незваной гостьи уже маячил перед моим, становившимся все более и более мутным взором. Точно я, конечно, не могу сказать, было ли это знанием или особым чувством, скорее нечто смешанное. Но очень стойкое и достоверное, гораздо более реальное, чем все иные впечатления и представления.
Мне даже припомнилось место и время, когда это пришло впервые. Это точно было воскресное утро уходящей осени, солнце холодное, но свирепое, и в мире какое-то напряжение затаившейся прохлады. Листья падают обреченно, одинокие прохожие словно улетучиваются в свои пещеры жилья. И все какое-то ненастоящее, сон не сон, а так, иллюзорное видение. Но оно же реально, и в том-то вся грустная суть и заключается.
Я оказался словно обезоруженным; еще вчера смело и нагло шагал по жизни, будучи убежденным в том, что могу умереть в любую минуту. Меня это нисколько не пугало и не огорчало; мне было плевать на это, поскольку я не мог знать этой своей последней минуты. И это блаженное незнание придавало мне необыкновенную смелость и свободу. По сути дела, это и было счастьем, как я теперь с горечью понял. Счастье в том, чтобы не знать, что ты умрешь, ведь смертность никак не ощущается нами. Ни сон, ни болезнь ничего не говорят ни о приближении смерти, ни о ее свойствах. Просто мы спим и болеем, а когда пробуждаемся и выздоравливаем, то не приобретаем никакого опыта.
Теперь все изменилось; я знал, что скоро умру, и это было самым удручающим, убийственным, уничижающим и попросту оскорбительным фактом. «Почему я?!» – прорывался во мне вопль отчаянной справедливости. «Почему это именно я должен скоро умереть?» Все дело было в этом «скоро». Если знаешь, что умрешь когда-то там, в будущем, это все равно, что никогда. И действительно лишь ощущение этого бессмертия, дарованного неизвестностью нашего смертного часа, делает возможным вообще существование.
Было особенно обидно, когда я видел вокруг себя этих толстокожих бессмертных счастливцев, живущих так, словно это именно они должны жить, а я почему-то должен умереть. И как будто моя смерть должна стать единственной в мире трагедией и неудачей, которая только подтвердит их счастье и удачливость. Мне казалось, что они все как-то странно смотрят на меня, не то с усмешкой, не то с каким-то тайным состраданием, переходящим в радость. Их почему-то радовало, что я скоро умру, и все их нелепое существование превращалось в такое сладостное ожидание моего конца. Тогда они полностью могут завладеть мной, моим телом, душой, имуществом.
Что же они сделают с моим телом? Они, наверное, его съедят или выбросят на растерзание хищникам. Возможно, испепелят в крематории на глазах у ничего не понимающих зрителей. Но скорее всего, бросят в эту зловонную яму, что на окраине города. Там постоянно кого-то находят. Так они и сделают. А потом предадут память обо мне полному и окончательному забвению, и я навсегда окажусь вычеркнутым из бытия. Навсегда. Словно и не рождался.
Знание своей скорой и неотложной смерти сковало меня по рукам и ногам. Теперь я больше не мог принадлежать себе. С этим знанием я потерял все. Неожиданно и безвозвратно. Словно пришло наказание. Наказание непонятное, а поэтому еще более страшное и унизительное. Конечно, в глубине своей беспечной души я предполагал, что жизнь обязательно выкинет какую-нибудь подлую штуку со мной. Казнь неизбежна, таков закон немилосердного бытия, которое всегда расправляется с нами самым жестоким образом за моментальный дар незаслуженного существования. Но это относилось к такому далекому далеко, что совершенно не мешало вести тот образ жизни, какой я вел до этого времени, нисколько не смущаясь ни своей смертностью, ни ворохом рассыпавшихся около меня смертям других.
Мне было все равно. Конечно, я был тронут, когда видел смерть слишком близко. Поражался, цепенел, смущался, горевал, отчаивался, скорбел. Но, в сущности, ничья смерть не ломала моего внутреннего ядра, не превращала меня в безвольного и слабого субъекта, боящегося собственной тени, каким я стал сейчас. Как тяжко видеть себя опущенным, согбенным, почти бездыханным комком одной сплошной потери.
Нельзя сказать, что это был страх смерти. О, нет, это гораздо хуже и страшнее! Страх смерти все же здоровая реакция, это показатель жизненности. А то, что произошло со мной, нельзя было назвать обычным страхом смерти. Это обреченность. Нужно было дотянуть непонятную жизнь до скорого печального конца. Он уже где-то совсем рядом, скорее всего в чем-то самом привычном и обычном.
Сначала я стал искать признаков смерти в своем организме, думая, что уныние является скрытым психологическим симптомом фатального физиологического повреждения. Я был почти уверен в наличии смертельной болезни, вдруг обрушившейся на меня как снежная лавина. Но мне трудно было понять, где именно притаилась эта коварная смертельная болезнь. Я точно знал, что она есть, но не знал ее места. Она ведь может расположиться, где ей заблагорассудится.
Скорее всего, это легкие, почему-то мне думалось первое время. И действительно, дыхание становилось тяжелым и неровным, особенно в моменты наблюдения над ним. Появился странное покалывание в груди, придавшее окончательную уверенность, что смерть будет связана с полной парализацией органов дыхания. Что-то подобное уже было со мной, когда я чуть не утонул в холодной осенней реке. Темная полоса ослепительного света, который проник в меня, сделав на миг камнем. Ужас безвозвратности, и моментальное возвращение к жизни, отбросившее этот опыт на самое дно существования. Теперь он вспомнился.
Но невероятность умереть от остановки дыхания заставила внимание последовательно перемещаться на почки, печень, горло, голову, шею, сердце. О, сердце, вот где скорее всего притаилась моя давняя подруга смерть! Но и сердце не дало мгновенного результата, и мой поиск смертельной болезни начинался вновь, повторяясь с большей яростью и силой. Везде, где только была хоть малейшая частичка живой органической материи, могла притаиться болезнь. Иногда чувствовалось, как немеют и отнимаются ноги, а иногда я буквально слеп, словно посмотрел в упор на солнце.
Не будучи особенно сведущ в анатомии, я начал связывать между собой несоединимые с медицинской точки зрения вещи. Но слежка за собственным организмом прекратилась довольно быстро. Почему-то показалось все это нелепым. Опасность переместилась во внешний мир. Угроза теперь закралась во все, что окружало меня: люди, машины, квартира, лифт, улица, подъезд, метро, балкон, еда – все это таило смертельную угрозу, которую я чувствовал с каждым днем все сильнее и сильнее, пока чувство не перешло в уверенность и, в конце концов, в то самое знание, которые и съедало меня медленно и мучительно. Я должен погибнуть под колесами автомобиля, или меня убьет маньяк в пустом и страшном коридоре. Не важно. Важно, что я это знал, чувствуя прибывающую волну смертоносного. Оно словно обжигающее пламя странного и непонятного огня захватывало в свои объятия, делая меня достоянием чего-то мне совершенно далекого и чужого.
Трудно было сказать, откуда пришло это чувство. В самой жизни не было для этого никаких оснований. Жизнь и смерть отделены непроходимой пропастью. Но я словно погрузился в смертельные недра уже при жизни. Будучи живым, я как будто чувствовал вкус, запах и цвет этой безвкусной, бесцветной субстанции, называемой смертью. Это было конечно очень и очень странно. Конечно, я мог ошибаться, приняв какое-то жизненное состояние за приближение смерти. Но почему-то я знал, что нисколько не ошибаюсь, и что мне суждено пройти обременительную и никому не нужную процедуру встречи со смертью при жизни.
Я стал ждать смерти каждый день. Но ведь так было и раньше, да так, в общем-то, бывает со всеми рассудительными людьми, которые всегда живут одним днем, зная, что любой день может стать последним. Однако раньше это знание совершенно не мешало мне делать все, что угодно и считать, что смерть не имеет ко мне никакого отношения. И она действительно не имела.
Но что могло случиться? Что послужило причиной? Должна ведь быть какая-то причина? Я точно знал, что другие люди живут долго и беспечно, вплоть до самой смерти, не подозревая о ее бытии. Она не мешает никому жить своим присутствием. Что же случилось со мной, я не мог понять. Анализировать и вспоминать было бесполезно. Я просто теперь знал, что умру, и это сильно изменило мою оставшуюся жизнь. Самое печальное в этой истории было то, что я знал, что скоро умру. Это скоро и внушало самое нестерпимое чувство огорчения, придавая вкусу во рту какой-то ртутный оттенок.
Когда я видел ребенка или молодую женщину, то во мне рождалось нестерпимое чувство тоски. То же самое было, когда я слышал музыку. Мгновенно появлялось ощущение бесконечной утраты, недостигнутости чего-то такого, что могло бы дать жизни хотя бы кратковременную иллюзию полноты. Конечно, я понимал, что жил всегда неправильно, но нисколько в этом не раскаивался. И доведись мне снова прожить свою жизнь, я, скорее всего, делал бы то же самое. А с чего жить как-то иначе, если жизнь дает только вот эту возможность жизни, которая проистекает из тебя самого и более не из кого и не из чего?
Это был замкнутый круг. Однако его мучительная неизбежность открылась только накануне мой смерти, окончательно испортив последние дни моего существования. Определенно, все это было похоже на злые чары какого-то недоступного для понимания колдовства, в плену которого я вдруг оказался совсем неподготовленным и беззащитным. Не будучи нисколько суеверным, я стал почему-то пристальнее смотреть на свое отражение в зеркале. Во все зеркала, которыми обладал мир. И везде на меня смотрело одно и то же существо, некогда бывшее мной.
Дни становились все более и более нестерпимыми. Время тянулось как теплая резина, в то же время улетучиваясь с какой-то злобной смешливостью. Нельзя было смотреть на свет без того, чтобы не возникало чувство глубокой неловкости и последней жалости к самому себе. Слезы иногда подступали очень близко, когда я задерживал взгляд на чем-то, что останется после меня. А после меня останется все, все, что было со мной, все, к чему я имел даже самое малое отношение. Мир будет миром, и люди будут такими же людьми, и оставшиеся в живых будут заниматься любовью, просто любить, дарить ласку и нежность, страдать от измен и неразделенности. Будут даже погибать. Как все это прекрасно! Но я, увы, не имею теперь к этому никакого отношения. Для меня все кончено. Мне остается только очень скоро умереть.
Это было странно и непонятно. Но почему раньше меня это не мучало? Как я иногда все-таки ненавидел и проклинал свою прежнюю беспечность! Когда мои силы, подорванные нестерпимым ожиданием, были уже на исходе, я решил купить себе гроб. Я полагал, что это хоть как-то приблизит роковое разрешение. Гроб можно будет разместить где-нибудь в укромном месте, например, в заброшенном сарае, но обязательно неподалеку с домом. Конечно, это было нелепо, но мне казалось, что гроб будет все же как-то согревать мои последние дни и часы, показывая единственную для меня оставшуюся истину.
Но мне так и не удалось купить этот самый достоверный свидетель смерти. Никто не хотел продавать готовый гроб, а сделать его подпольно или самому было просто невозможно. От досады я даже заплакал, до того мне хотелось иметь гроб в таком положении. Но, увы, мне, наверное, не суждено увидеть своего гроба. А имей я его, можно было бы, наверное, и обмануть смерть?! Хотя бы немного, или, по крайней мере, привыкнуть к ней, ночуй я в этом моем гробу.
Но даже гроба я был лишен. С утратой своего гроба я потерял последнюю надежду на жизнь и на смерть, полагая, что она все же может быть не тем, чем я ее до сих пор представлял.
Но я не умер, черт возьми! Черт меня не забрал в предполагаемые мной сроки. А я уже не мог теперь ни есть, ни пить, ни спать, ни любить, ни думать, я не мог жить, потому что не мог умереть. Наверное, смерть была бы блаженством, приди она вот так вдруг сейчас. Я бы ее встретил радостно, с распахнутым сердцем, с самой кроткой и дружелюбной улыбкой. Но нет. Не было ни жизни, ни смерти, а было лишь одно сплошное смешанное и непонятное чувство, которое и чувством-то сложно было назвать. Что-то было, а что было, было совсем непонятно. Никогда еще существование не доходило до таких отчаянных границ, до того страшного предела, о котором нельзя ничего сказать определенного. Самое страшное, что и это не кончалось. Не кончалось уже ничего, и ничего не начиналось, став сплошным мутным потоком чужого существования.
Увы, я стал чужим для самого себя. Это совершенно новый опыт, опыт, не знавший никаких аналогов. Мне суждено было стать чужим для самого себя. Это было чудовищно и невероятно одновременно; меня словно и не было, во всяком случае, ни мое мнение, ни мое чувство, ни существование не имело никакого значения. Глухая стена отделяла меня от меня же.
Умерли последние надежды, погасли последние желания, иссякли следы всякой умственной деятельности; только чужая кровь все бежала и бежала по страшным и непонятным, никому не принадлежавшим теперь венам. Ее стремительный поток пытался вырваться наружу, но мертвеющие стенки сосудов не давали возможности бурлящей крови выйти. Кровь оказалась запертой навсегда в моем теле. И она была обречена на то, чтобы вечно бежать неведомо куда, неведомо зачем, заставляя совершать бессмысленные удары мертвого сердца.
А потом я понял, что умираю уже давно, всю жизнь, с самого рождения и буду умирать до скончания века и так и не умру. Ибо и век не кончится никогда. Все застыло в магме непонятно ускользающей вечности. Это мысль показалась мне настолько чудовищной, что захотелось просто бесследно исчезнуть. Или не родиться. Но это невозможно. Навис день смуглой тоски. Оставалось лишь ждать своей смерти, вечно умирая в этом томительном и все же сладостном ожидании.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































