Текст книги "Смотреть на птиц"
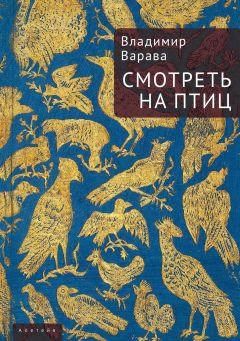
Автор книги: Владимир Варава
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц)
Были, впрочем, и тихие вечера молчания и загадочных прогулок по далеким и заброшенным городским переулкам. Были и приятные, милые беседы, в которых можно было почувствовать душевное тепло, а не только бесконечную игру разнополых физиологий, к чему, как правило, и сводилось все их общение, в конечном счете. В такие минуты Дэн незаметно любовался красивым профилем Марии, в тайне завидуя тому художнику, который смог бы ее изобразить. Ведь кто-то ее изобразит, но только не он. А почему? Он сам не мог понять и дать вразумительный ответ. Почему бы не устроить нормальную жизнь? Когда простое человеческое брало власть, то было хорошо, но только это ни во что не разворачивалось, не превращалось в дальнейшую жизнь, как это бывает у обычных людей. В обычную жизнь со своим тихим и скромным счастьем, которому Дэн все же иногда завидовал. Но делал все, чтобы оно не состоялось, сознательно разрушая все устойчивое и определенное.
* * *
Дэн в общем-то знал, как покорять женщин. Это, наверное, единственное, что он мог делать хорошо, хотя он не был здесь системным пройдохой. В его глазах как будто было написано: «женщины, я знаю, чего вы хотите, в чем ваше наслаждение!» И женщины считывали это послание, точно понимая и себя, и его. В этом был секрет его успеха. Сразу же в первый вечер их знакомства с Марей Дэн очаровал ее своей игрой на гитаре, пением и чтением стихов, которые та могла слушать бесконечно, закатывая свои черные глаза и прижимаясь к нему так нежно и преданно, как только способна домашняя кошка. В сущности, она и была кошкой, а не человеком. Такой временами милой и забавной кошечкой, с которой было сладко забавляться, пускаясь во все тяжкие плотских наслаждений. В желании любить Мария была неутомима, любить она могла также долго и страстно, как только, пожалуй, курить. «Мария, тебе надо читать книги», – иногда прорывалась у Дэна эта совершенно никчемная фраза сквозь дымовую завесу, в которой еще не успели улетучиться миллионы сладчайших оргазмов Марии. Это она любила больше всего в жизни, полагая, что жизнь – это есть одно сплошное сексуальное удовольствие.
Такие ситуации поначалу вдохновляли Дэна, давая пищу, как ему казалось, для его дальнейшего творчества. Вот она лежит полумертвая, убитая сладострастием, звучит какая-то запредельная кислотка, типа «Big Blood», клубы дыма, и беспечность, беспечность, беспечность… пока не приходит хозяйка квартиры, такая стерва, деликатно напомнить, что время вышло, и если, мы, мол, не хотим продлевать, то пора выметаться, поскольку идут новые.
Новые, новые, кто такие эти новые? Откуда они идут и зачем? Дэн никогда не мог этого понять, считая, что лишь он один в мире имеет право на наслаждение, на это преступное наслаждение, на такое наслаждение, которое доступно только ему и не позволено больше никому. Он всегда ревностно относился к чужой любви, видя в этом почему-то угрозу для себя. И когда один раз, из-за неаккуратности хозяйки, не сумевшей вовремя развести пары, они пересеклись с этими «новыми», то большего стыда и смущения, готового моментально перерасти в яростную агрессию, Дэн не испытывал никогда.
Но пока она не пришла, Дэн накачивает Марию все новыми и новыми порциями фантастического наслаждения, а она не кричит и не стонет, она смеется как дерзкая нагая богиня, чья нагота – ее сила, гогочет как безумная прямо в его лицо, искореженное от страсти и уже приближающейся старости и поэтому, стремящееся как можно больше выпить, выжрать из этой юной плоти, которая оказалась такой глупой, что позволила так подло и коварно себя использовать. Когда Мария засыпала, утомленная от запредельной работы своей еще не совсем взрослой плоти, то Дэн бережно укрывал ее и даже незаметно целовал в плечо или шею.
Но проходило время, и он все меньше и меньше чувствовал Марию, понимая, как бесконечно далеки они были друг для друга. Такая вот открывалась вдруг бездна отчуждения между теми, кто был еще миг назад одним целым. Но целого не было, причем не только с Марией, но и вообще ни с кем. Совершенно разные люди, объединенные лишь любовной страстью, которая, впрочем, не знает никакого избранничества. Слюбиться можно ведь с любым человеком при наличии минимального влечения. Дэн часто вспоминал поразившую его прочитанную у кого-то фразу: «предательская сущность полового акта». Конечно, поначалу он искал знаки некой избранности, которой хотел оправдать свои отношения с духовно неблизким существом. Но со временем все ушло, остались лишь сигареты, да бессмысленные ласки, в которых душа прожигалась с не меньшей скоростью, чем плоть. А плоть подвергалась все новым и новым испытаниям.
Хотя Дэн был намного старше Марии, в сущности они принадлежали к одному поколению. Поколению, которому нет названия, потому что у него нет назначения. Теперь никто никогда не скажет, зачем жить и куда идти. Возможно, это последнее поколение, и оно, чувствуя острее фальшь жизни, стремится как можно меньше заявлять свои права на обладание и, в общем-то, на существование.
* * *
Дэн никогда не забывал, что у него были жена и ребенок. Они обитали где-то в сумрачных пластах его то ли подсознания, то ли сверхсознания. Связи с ними не было никакой. Почти никакой. Жена давно решила уйти, проявив благоразумие, единственно возможное в такой ситуации. Этот эстет и музыкант в душе зарабатывал на жизнь чем придется. Музыка – это то, чем он соблазнял таких особ, как Мария. Жена тоже была когда-то такой особой, но родив ребенка, быстро опомнилась и протрезвела от этих сладкозвучных напевов. Сладострастной она не была, и у Дэна поэтому не оказалось ничего, чтобы он мог предложить своей жене. И он с миром отпустил ее в собственное, как оказалось деловое и успешное плавание.
Но из головы она не выходила никогда. Как-никак первая, или почти первая любовь, ну та, которая еще в юности, в школе, в студенчестве, может и в детском саду, но в той сладкой дымке несбыточных грез и надежд, которые всегда остаются, когда все уходит и умирает. Это единственная, по-настоящему сильная привязанность, сохранить которую ему не удалось. Он часто вспоминал эту милую светлую девушку без определенных черт, но вобравшую в себя всю женственность мира. Он впервые полюбил в ней женское как иное, как то, к чему всегда влекут самые заповедные чувства души.
С женой Дэн пережил первые серьезные жизненные испытания – брак, роддом, ребенок, первая ссора с родителями, от которых захотелось навсегда оторваться, улетев в собственную клеть счастья. Не получилось: суровая рука отца, естественно же невзлюбившего девушку с самого первого взгляда, невзлюбившего по этой совершенно непонятной угрюмой инерции не любить никого; да истерика матери («только через мой труп») не позволили Дэну совершить правильный шаг, и уйти от этих духовно чуждых ему людей, которые лишь по несчастливой случайности оказались его родителями. С женой Дэн впервые понял, насколько родители ему чужие люди, и насколько жена (чужой человек) является родным, поистине родным и близким.
Часто, очень часто корил он себя за то, что не хватило тогда простой смелости (у других ведь хватило) оттолкнуть этих ненавистных «предков», уйти, оставив их жить (скорее доживать) свою собственную неинтересную и бескрылую жизнью. Никогда, никогда родители не понимали Дэна. Он был готов повторять это «никогда» вечно, вспоминая все ужасные картины этого непонимания («что ты слушаешь, что ты смотришь, что читаешь, что ты делаешь, зачем ты живешь?»…). Непонимание рождало отвращение; отвращение ко всему. Оно отравляло жизнь, отбивало вкус ко всем значительным и важным, как казалось ему, вещам.
Только жена поняла его. Она была первая, кто понял его. Именно поняла, поэтому и ушла. Жаль, конечно. Дэну иногда хотелось все вернуть, он даже предпринимал несколько безумных попыток воссоединения, приезжая к жене, которая была теперь с другим, на другом конце города, в другом мире под предлогом увидеть дочь. Но всегда, всегда один и тот же результат. «Снежная королева нашей любви», – думал Дэн. Где она? Она исчезла так же неожиданно, как и появилась, оставив после себя одинокие сады, где жили лишь райские птички и горькая тоска.
Только раз удалось разжалобить жену. Ее муж куда-то уехал и они, как тогда, в ранние годы, прячась и скрываясь, остались на ночь вдвоем, насладившись друг другом сполна. Это была на редкость блаженная ночь. Но на утро – никакого продолжения. Суровый отпор. Слишком суровый, чтобы появилась малейшая надежда что-то восстановить. Темные круги под усталыми глазами, укоризна, смутный налет раскаяния, нежелание говорить, и судорожное указание на дверь с просьбой никогда больше не приходить. Это жестокое «никогда» прозвучало смертным приговором не только будущему, но и прошлому. Честно признаться Дэн тоже не хотел никакого продолжения. Он был рад, что ему удалось еще раз, наверное, напоследок, сорвать это цветок. Теперь он мог жить этим воспоминанием долго, очень долго. Но он все равно возвращался, правда никогда больше не испытав счастья той случайной ночи, ее особенную и ни с чем не сравнимую сладость. Никогда же не было такого, когда они были женаты. Запретный плод сладок.
Один раз он встретился лицом к лицу с ее мужем. Тот его конечно не узнал. Да и как он мог его узнать, они виделись всего лишь раз. Дэн почувствовал вскипевшую ненависть, и чуть было не набросился на него. Интересно, смог бы он его убить? Он был уверен, что смог бы. Но что ж его тогда остановило? Обстановка благоприятная: поздний час, темный переулок. Никого. Подъезжает машина. Выходит. Один. Не спеша, враскачку направляется к подъезду. Уверенная и наглая походка выдает в нем проходимца и мерзавца, самого обычного мерзавца, которыми наводнена сегодня жизнь, которые знают, как жить, как пристроиться, бесконечно обманывая всех. Самые последние слова брани яростно кружились в голове Дэна. Такие верноподданные негодяи, которые со всем согласны и готовые в любую минуту по чьему-то приказу растоптать все чистое и светлое, что есть в мире. Откуда они берутся? Почему их так много? Зачем они наводнили землю своим ничтожным и бессмысленным существованием? Они даже не подозревают о том, что они никто. Они слишком ничтожны для этого. Подонок! Именно таких отец и ненавидел, он бы точно убил его здесь. (А убил ли кого-нибудь в своей жизни отец!?).
И вместо того, чтобы уничтожить своего обидчика, растоптать, разорвать на куски и принести мертвую голову к ногам своей, именно своей, законной любимой жены, которая наверняка бы оценила этот героический поступок, Дэн трусливо прошел мимо, понуро, очень понуро для такого момента, опустив свои плечи глубоко вниз. Почти что врос в эту проклятую землю, которую исходили, истоптали эти проклятые, такие счастливые чужие люди.
Жена приходила на похороны отца. В тот момент Дэн был озабочен Марией, мыслью о том, как от нее избавиться или наоборот, как бы поскорее влить ей новую порцию блаженства. Невольно, он сравнивал жену и Марию. Когда рассеивался туман ненужных и посторонних образов, Дэн отчетливо видел и понимал, что только две эти женщины, между которыми выстраивался длинный ряд бессмысленных увлечений и даже «романов», только эти две вечно мучили его, по-настоящему ранили, заставляя всерьез думать о жизни, о том, можно ли с женщиной обрести смысл и счастье? Только эти две, только они давали сладостную боль и муку жизни. Такие разные.
Дэна не переставали мучить вопросы: «Кто был ему ближе?», «Кого он любил, в конечном счете?», «Или любил обеих?» Ответить было невозможно. Именно эта невозможность и тяготила его постоянно, просто безумила, не давая малейшей возможности легко и свободно вздохнуть полной грудью и почувствовать счастье жизни. А может эта мука неопределенности и была его счастьем, единственным счастьем, на которое он мог рассчитывать? Ведь он никогда не мечтал о счастье в привычном смысле, вспоминая лишь застенчиво и даже стыдливо некоторые моменты, которые, только закончившись, могли быть зачислены в ранг счастливых.
Чувство непроходящей усталости охватывало Дэна, и он, поддавшись очарованию новой смертельной боли, вдруг коварно просыпавшейся где-то в его непонятном организме, уходил в блаженную алкогольную нирвану, дарящую бесконечную радость не быть собой и не принимать никаких решений.
* * *
Когда Дэн первый раз изменил Марии, то почувствовал свободу и понял, что всерьез захотел избавиться от нее, от этой бессмысленной пиявки, так глубоко, но так страстно и поэтому необыкновенно приятно, присосавшуюся к его телу, к телу в котором было так мало смысла, поскольку в нем всегда обнаруживалась какая-то смертельная болезнь, не позволявшая ему раскрыться и проявить весь свой дар в полную меру. Какой-то маститый психолог, к которому один раз все же, сам не понимая для чего, обратился Дэн, назвал это инфантильностью и страхом перед жизнью. Он зачем-то привел в пример Кафку с его редкостным и непреходящим чувством ужаса. Но все невпопад. Психолог, сделал заключение Дэн, наверное, последний человек, который сможет хоть что-то понять в его душе, да и вообще, в любой человеческой душе.
Смертельная болезнь, как правило, заканчивалась очередным нечеловеческим запоем, который был своеобразной «проверкой» (в действительности лишь оправданием), смертельная ли это болезнь на самом деле. Когда Дэн, например, обнаруживал «системную» боль в правом боку, которая могла не прекращаться несколько дней (или даже недель), то он решался на такой ход: если это действительно смертельная болезнь, то, выпив, можно будет проверить, насколько она серьезна и смертельна. Ведь организм, действительно, подорванный какой-нибудь неизвестной болезнью, должен будет по-особому отреагировать на алкоголь, например, ускорить смерть. Если же нет никакой болезни, тогда это станет ясно через три-четыре дня. Но всегда действовала одна и та же схема: только после двух-трех недель беспробудного пьянства становилось ясно, что смертельная болезнь, конечно, имеется, только у нее совсем другое название.
Потом по кругу: на смену боли в правом боку приходит странная боль в голове (длится полгода!), потом сердце, потом горло, потом спина, потом немеют кончики пальцев левой руки, потом мать не пришла из магазина вовремя. И наконец, отец, вечно запаздывавший отец.
Одним словом, поводов пить было много. А теперь Мария стала поводом. Этот человек, Дэн это очень хорошо и трезво понимал, был не способен поднять его на жизнь. Именно поднять, поскольку он все время, поддаваясь злобным действиям обстоятельств, был склонен к тому, чтобы падать, падать бесконечно. И требовалась тяжелая работа, чтобы поставить его окончательно на ноги. Зажечь, зажечь кратковременно, на миг, на день, на час Мария конечна, могла, но на жизнь – точно нет. И для ее же пользы Дэн хотел не просто избавиться от девушки, он, повинуясь каким-то благородным порывам, решил подыскать себе «замену». Вот только не находилось ничего подходящего ни в его, ни в ее окружении. Все вроде бы молодые, но уже какие-то искалеченные, прихлопнутые жизнью. У всех все тускло, однообразно, без света и смысла. Дэн вспомнил друзей отца – этих, на первый взгляд казавшихся жизнерадостных оптимистов. Но только на первый взгляд; они тоже были измучены и вконец изуродованы своим временем. И вся их бравада не более чем хорошо замаскированное отчаяние.
«А разве может быть иначе, – думал иногда Дэн, – разве может в этой жизни, испорченной раз и навсегда, быть по-настоящему что-то иначе?» Он это не просто смутно чувствовал, он это знал, знал самым достоверным знанием, на которое вообще способен человек. И поэтому часто хотел кричать: «Оставьте меня умирать одного в этой грязной пустыне жизни!» Потихоньку гибнуть и есть самое нормальное, самое честное и достойное. Да зачем же потихоньку? Надо громко, ярко, быстро. Нужно больше смертоносного наслаждения в этот процесс, чтобы тусклый подвал жизни озарялся чем-то хоть на короткое время.
Был еще, правда, «Конь бледный». Такой заветный, почти священный текст. Когда Дэн перечитывал эту книгу, то у него появлялась самая настоящая белая зависть к ее персонажам. Вот у кого была жизнь! Сейчас уже ничего подобного нет и не может быть. То был последний всплеск истинного благородства. А теперь лишь омерзение, когда он видел перед собой этих бесконечно бодрых, готовых на все, знавших как прибрать жизнь к рукам. «Откуда у них у всех такая уверенность? Или мне только кажется, и он такие же несчастные и потерянные люди, как и все, живущие на этой земле? Они ведь ущербны в каком-то финальном смысле». Дэн сомневался, и его сомнения носили не праздный характер; он действительно не мог ничего понять.
Кайф всерьез был единственной стоящей вещью в мире, которым так щедро одарила природа человека. Но конечно не всех; те, которые знают, зачем жить, лишены высшего измерения жизни. Кайф для других – покинутых и растерянных, даже растерзанных жизнью. Только они имеют право залечивать свои раны самым недозволенным и бесстыдным образом. Только они имеют право на изысканные страдания и наслаждения. Это единственная тонкая струйка свежей хрустальной влаги в душном подземелье жизни. И Мария давала эту влагу, этот божественный анестетик, такой редкий, но такой прекрасный, на фоне которого меркла вся дрянь, зовущаяся жизненной необходимостью. Но Дэн чувствовал, что так не может продолжаться слишком долго. Приедалось все, приедалось до омерзения. Как иногда ему была противна эта девка с ее вечно писклявым: «хочу писать»… Но сколько поэзии в ее губах! Сколько тонкой эротики в ее черных глазах, в которых никогда не было ничего разумного, доброго и вечного! Именно это и влекло, именно эта черная дыра более всего и манила вглубь своей непролазной мглы, на дне которой – ничего, кроме бесконечных божественных совокуплений. Сколько их было!?
Боже, да он любил ее что ли…?!
* * *
Все-таки наступил день разлуки. Навечно. Навсегда. Они больше никогда не увидятся. Это «навечно» так больно поразило Дэна, вдруг прозревшего в это страшное «никогда». Все, к чему ты мог относиться беспечно, когда это было рядом, вблизи, вдруг затвердевает в какой-то опустошающей все живое бесконечно-ледяной неприступности. В вечной разлуке происходит столкновение с Нечеловеческим.
Дэн не думал, что это так сильно повлияет на него. Его сознание словно раздвоилось и помутилось: ведь оборвалась последняя нить, связывавшая его с реальностью, с живой теплой реальностью человеческого присутствия. По большей части Мария была лишь телом. Но сквозь естественную гламурность его девичьих форм все же временами прогладывало что-то человеческое и настоящее. И это было не только приятно. Это было нужно. Для чего-то очень важного, чего Дэн не мог понять до конца. Он всегда останавливался в отношениях на какой-то грани, не позволяя им проскочить в житейское, обыденное.
Да, Мария была очень странной. Но это был, пускай маленький и неприметный, но все-таки комок живого человеческого тепла, который всегда был под рукой, всегда так легко и беззащитно доступен. Это было реально, ох как реально… А теперь ее нет. Она ушла в невозвратность.
Умерла? Что-то страшное и смутное давило сознание, принуждая к принятию одной, только одной безутешной определенности. Она умерла, это точно, ведь что-то значил тот телефонный звонок посреди ночи несколько дней назад. Это был не розыгрыш и не сон. Это бред, чудовищный бред! Бред, ворвавшийся черным ураганом в жизнь, все в ней опрокинув и спутав окончательно. Разве умирают в таком молодом возрасте? От чего? Может это он сам ее убил? А кто вообще умер? Может не она!?
Дэн не мог ничего понять, настолько спутано было его сознание в те дни жестокой смертельной схватки с алкоголем. Не только с алкоголем: надвинулся какой-то непонятный, ранее неведомый сумрак, погрузивший существование в глухую немоту. Про такие периоды говорят «черная полоса». Но это слишком слабо; это не черная полоса, эта бездна смертельного удушья, в котором только бесконечная агония умирания без конца, без надежды, без света.
Дэн вспомнил, что был какой-то ночной звонок. Он знал, что не нужно было отвечать. Кто же будет звонить так поздно с хорошей вестью? Ясно, что это должны были быть очень плохие, страшные вести. Всегда вот так ночью и сообщают о смерти. Вот он и не стал снимать поначалу трубку, когда раздался этот погребальный звон, донесшийся откуда-то извне. Он услышал вой сирены за окном, потом лай собаки. Он не знал, кто звонил и зачем. Но он точно знал, что правильно сделал, не сняв трубку в тот страшный миг. Он сидел и молча смотрел на то, как разрывается эта телефонная трубка, больше похожая на серый гроб. Он сидел и смотрел на него часами; может быть и годы пролетели незаметно, может быть пролетела и вся жизнь… Он одержал победу в схватке с непосильным врагом: несчастье захлебнулось в себе, умерло на другом конце провода, так и не посмев войти в его жизнь.
И все же, оно вошло. Вошло подло, незаметно, коварно. Оно оказалось сильнее, напористее, наглее, и в один миг, не удержавшись, Дэн схватил трубку. Кто-то четко проинструктировал, куда и зачем нужно ехать. Через несколько минут он уже следил за каждым ее вздохом, за каждым шевелением губ, за каждым трепетанием ресниц. Это были последние минуты жизни. Он знал, что она умирает, умирает у него на глазах. Он видел, как уходит жизнь оттуда, откуда она не должна была уходить. Одновременно было больно и непонятно; невозможность что-то изменить рождало бессилие, в котором меркло все доброе и разумное. Такое происходило впервые, и он не понимал, что делать, как правильно реагировать на это зрелище недоступной ему смерти. Он бы хотел сейчас войти в нее, проникнуть в ее мысли, прямо в сердце, что бы вместе прочувствовать этот страшно-блаженный миг. Но она была недоступна, может быть единственный раз в жизни по-настоящему недоступна. Но как страшна и прекрасная была эта недоступность!
Немой ужас убил в нем всякую способность к действию. Горе как-то странно подействовало на него. Теперь он был просто заворожен. Она была так прекрасна в своем умирании! В другой раз он бы подумал, что это кощунство. Но не сейчас! Сейчас он видел перед собой чудесную картину божественного умирания; это вечный закат дня, это радость тихого прибоя. Но никакой язык не в силах описать восторга и потрясения, которое испытывает душа, столкнувшись с блаженной красотой угасания. Он не знал, кто умирает сейчас перед ним: девушка, бабочка, птица, богиня, или сама жизнь. Это было не важно. Он видел что-то, он видел, как умирают, умирают по-настоящему, без прикрас. И это было самое важное, потому что важного-то ничего и не было в мире.
Дэн почувствовал холодные слезы на своих губах. «Что же нам всем делать теперь с этим мертвым твоим телом?»
Потом было страшно, больно, стыдно…
* * *
Как одиноко и страшно лает собака за окном в глубокой ночи. Ее лающий вой холодным эхом раздается по пустым кварталам города, как будто напоминая о надвигающейся беде. О всегда близкой беде. Улицы трагически пустынны, и только этот страшный лай единственный свидетель и немой спутник жизни. Словно чья-то смерть вышла из своих чертогов и властно бродит по безлюдным дорогам ночного города, в поиске очередной нечаянной жертвы.
Как потерянная тень бродил Дэн по темным переулкам всю ночь, бормоча, словно полоумный что-то себе под нос. Он не замечал ни одиноких прохожих, ни рекламных огней, ни редких машин, с огромной скоростью пролетавших в смертельной близости от него. Конечно, ее не спасли. Это было понятно сразу, с первого момента, как только он перешагнул порог этого холодного чужого заведения. Его сразу обдал запах медицинских препаратов, отдававших неистребимым запахом погребенья. И когда врач спросил, кто он ей, то стало все понятно. Он бы мог ударить, даже убить этого врача, который не смог ее спасти. Почему-то показалось, что во всем виноват врач, и на миг Дэн почувствовал, как в его сердце загустела жесткая струя ненависти и злобы. Он вышел из приемных покоев скорой, не сказав никому ни слова.
* * *
Как-то плохо стало без нее… А как ее звали? Ирина? Или Полина (нет, не может быть, чтобы Полина – слишком уж странное имя, хотя оно ей чем-то подошло бы). Не знать даже ее имени!? Это конечно невообразимо. Но почему, почему он так и не узнал ее имя?!? Ее настоящее имя, имя единственной возлюбленной? Дэн не мог сказать ничего определенного.
Да это было и не важно; ему было так хорошо с ней, тепло и уютно, что даже и в голову не пришло спросить ее об имени. Наверное, это легкомысленно и неправильно. Что ж с того? Теперь ему плохо без нее, и знай он ее имя, это вряд ли помогло бы ему. Почему он думает об ее имени, разве ее звали не Мария? Нет, не Мария. А тогда как?
Куда она вообще делась? Почему она исчезла так неожиданно? Она растворилась в сизой дымке весеннего вечера, оставив ему скучную и неинтересную жизнь, чей теперешний смысл заключался лишь в воспоминаниях о ней. Но ничего кроме боли эти воспоминания не приносили. Так нельзя было поступить! Это жестоко и бесчеловечно, в конце концов. Я так ее любил… Да, где же она?!
Как только Дэн осознал свое сиротливое положение, ему стало скучно и страшно. Но она же ему ничего, ровным счетом ничего не обещала. Она просто была, и ее незаметное бытие и было обещанием. И поэтому оно было таким легким и единственным. Едва бы он теперь вспомнил, как она вообще появилась в его жизни.
Но ведь были времена, когда ее не было, а он был! Но теперь он об этом совсем-совсем ничего не помнил; он помнил только ее, чье отсутствие стало уже мукой и проклятьем.
* * *
Дэн растерянно смотрит, как вечерние лучи заходящего солнца отражаются на стенке соседнего дома. Он с тревогой вглядывается в приближающийся сумрак, который уже не сможет скрасить никто. Лучи такие прекрасные и равнодушные. Он один. Ехать к жене? Невозможно, ненужно, бессмысленно. А жива ли жена, может она тоже умерла? Ведь хоронили кого-то недавно… и он видел лицо, очень похожее на нее… так случайно взглянул, страшно стало… но он все увидел, он все тогда понял. Или это был сон? Кто же умер в больнице? Редкие проблески реальных событий сразу же покрывались непроницаемой тьмой, в которой жили дикие образы невозможного. Но где же неизбежное? Неизбежное, этот бог истинного, теперь был где-то далеко, в недосягаемой для разума и чувств дали. Сумрак настолько плотно и густо вошел в сознание Дэна, что он действительно не мог понять, кто же умер на самом деле? И это было самое страшное и печальное. Он окончательно потерял себя.
* * *
Когда прошло первое оцепенение, и ушедшая жизненность вновь вернулась, Дэн почувствовал, что ему уже не важно, кто умер: жена или Мария. Возможно обе. Умерла она, та, ради которой все. Умерла, не родившись. Ее никогда и не было, а была лишь тоска по ней и всегда смертельное предчувствие ее внезапного ухода. Жена и Мария перемешались, став одним существом, одним нераздельным существом. Нераздельным и неслиянным. Это какое-то двуипостасное существо женского рода, богиня, женское божество, одновременно прекрасное и невыносимое в своей лучезарной неприступности. Ее никогда ведь не было, и не будет. Только больно дразнящая мечта, или призрачный сон, рожденный в недрах глубокой смертной муки по вечности.
Дэн понял это только теперь, только в эту самую минуту, в режиме on-line своей страшной и неприкаянной, такой непонятной ему самому, своей собственной неизвестной и неведомой никому жизни. Не стало той самой, которая стала ему уже самым близким и родным существом на свете.
Такова жизнь. Дэн зашел в подъезд, выпил одним махом бутылку огненной воды и повалился наземь как бывалочи, ничего не помня, и ничего не желая.
А жизнь проходила сама по себе, протекала и бурлила, брезгливо обходя это, почти что мертворожденное тело, так беспомощно развалившееся в чужом грязном подъезде.
* * *
Вернувшись с кладбища, на котором окончательно была похоронена мечта, Дэн заперся в комнате и написал то, чего уже она не могла прочитать никогда:
«Я на несколько мгновений забыл о ее существовании. Я, конечно, поразился, когда опомнился, как такое оказалось возможным – ведь я никогда ни разу ни на миг не выпускал ее из плотного кольца моего сознания. И вот, совершенно неожиданно для себя, я осознал, что несколько мгновений был в совершенном отрешении. Я бросил взгляд на книжную полку, на которой были нелепо разбросаны какие-то лишние и ненужные вещи, своим существованием как бы оскорбляющие и задевающие чинный книгострой, и моя мысль провалилась в далекие миры, не имеющие отношения к ее бытию.
Конечно, я несколько удивился тому, когда вдруг опомнился также внезапно, как и забылся, что мог быть вне зоны удержания ее в своем сознании вполне нормально и сносно. Я даже не заметил, как она выпала из моего внутреннего зрения, всегда цепко держащего ее в твердых руках обладания и не отпускавших ее ни на миг. Нельзя было помыслить ее вне меня. Я мог не видеть ее днями, часами, неделями и даже больше. Я никогда точно не знал, где она и что с ней. Порой я даже не знал, жива ли она или нет, мне как будто было это безразлично. Но моя мысль никогда не отпускала ее, даже на самое короткое мгновение. Об этом не могло быть и речи.
А тут несколько секунд, ставших вечностью, (ведь я точно не знал, сколько все это длилось – может миг, может минуту, может около получаса, главное, что я успел забыть ее за этот промежуток времени, причем забыть так, как будто ее никогда и не существовало вовсе). Это дало мне возможность уже после осознать, как плотно она проникла во все поры моего существа, как заполнила своей необъяснимой вездесущностью все мое бытие, включая его плоть и сознание. Я сознавал ее плотью своего сознания и чувствовал сознанием своей плоти. Все смешалось – и плоть, и сознание, и мысль, и чувство, и образ и идея – все, абсолютно и буквально все, до самой последней капли плоти стало ею. Ее образ неизменно был имплантирован в самые интимные уголки моей души, оказывая магическое воздействие на все мысли, чувства и поступки.
Нет, я, конечно, мог делать, что угодно. Я мог быть даже с другой женщиной, это не мешало тому, что ее образ не выходил из моего сознания ни на миг. Она могла быть с другим мужчиной, но это совершенно не способствовало тому, чтобы она покидала недра моего сознания в силу ревностных механизмов. С глаз долой – из сердца вон; это было точно не про меня. Я мог, и это уже был великий абсурд, быть с ней, имея вместе с тем ее образ в минуту нашей с ней близости. Да, она и ее образ были разные вещи. Каким великим горем для меня была бы потеря ее образа! Я не мог представить себе такого. Наши встречи никогда не были равны всему остальному временим без нее в плане интенсивности воздействия ее облика на мой ум. На мой духовный ум, поскольку все силы моего существа были задействованы в процессе ее вживления в меня. Она во мне, всегда во мне.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































