Текст книги "Смотреть на птиц"
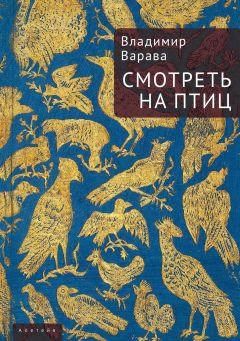
Автор книги: Владимир Варава
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц)
* * *
Однажды Дэн написал в своем дневнике:
«Иногда бывает очень трудно прожить совсем небольшой период жизни, например, дожить до конца месяца (скажем апреля). Дни тянутся так медленно, скудно и пусто, что становится невыносимо. Хочется ускорить время, чтобы приблизить конец.
Но ничего нельзя поделать; приходиться ждать, просто ждать, поскольку ничего, кроме дожить, пережить эту пустоту дней нельзя. И это так странно, так как в другие времена именно времени-то и не хватает катастрофически. А тут, просто маята какая-то. Интересно, это такое состояние времени, или внутреннее состояние (души, например)?
Апрель особенно невыносим. Эта пыльная предлетняя скука, в которую как в черную дыру проваливаются все жизненные силы. Бессмысленность обнажается до последнего предела, до своего жестокого остова.
Солнце начинает светить все дольше и сильнее; в вечернем пьянящем воздухе всегда какой-то суматошный вздор. Природа, свершив свой очередной бессмысленный круг, на краткий миг может блеснуть очень слабой и робкой надеждой. Но надежды умирают, не успев зародиться. Только уж совсем наивные юнцы могут радоваться в этот мрачный период года.
Но не только апрель славится такой тяжестью жизненного протекания. В иные времена тоже бывает необходимо дожить, дотянуть, довлачить и дотащить свое уставшее существование, готовое испустить дух, до следующего предела. Предел наступает, и создается видимость новизны. Тогда можно жить дальше, до следующего предела и так до конца, до самого конца. Мы всегда существуем в этой мрачной тоске неопределенности…
Трудно представить, но прошел год, целый год! Целый год такой бесполезной и бессмысленной жизни. Все попытки остановить время, совершить чудо, найти что-то сокровенное ни к чему не привели; мы также смотрим на закат и рассвет, также боимся и любим, также спим и едим, как и год назад. Но нет, все же, что-то произошло, что-то (хочется верить), прекрасное. Так оно и есть, не надо наговаривать на жизнь, не надо ее проклинать. Она как старая телега везет нас по весеннему лесу…
…Сегодня последний день моей жизни. Все-таки он наступил. Наступил так, как наступает каждый обычный день. День еще не закончен, и я, по правде говоря, еще не знаю, чем он закончится, но я точно знаю, что это последний день моей жизни.
Откуда у меня такая уверенность?
Уверенности нет, конечно, ни в чем, никогда. Но здесь у меня появилась какая-то очень серьезная уверенность, основанная на убеждении в том, что дальше существовать нельзя. Это убеждение совпало со многими вещами, произошедшими в последнее время, что окончательно подтвердило все мои догадки и ощущения.
Это не будет самоубийство. Я не буду предпринимать никаких действий, направленных на прекращение моей жизни. Она закончится сама, и закончится она сегодня. Я лишь знаю об этом. Знаю тем странным знанием, которое никогда не ошибается в главном.
Этот последний день не будет чем-то особенным, он вообще не будет отличаться от всех остальных, таких же одинаковых дней моей жизни.
Возможно, я умираю. Но об этом никто не знает. Так уж ли это важно? Что вообще важно? Важно ли хоть что-то, когда так много людей и смертей в мире?
Так хочется, чтобы, проснувшись однажды, увидеть, что все эта жизнь оказалось просто сном. Просто страшным сном, кошмаром. Жизнь ведь невозможна, однако она почему-то есть. Не для чего, а почему-то. И это самое ужасное, что может быть».
* * *
Прошло еще несколько таких же тусклых и обычных лет. Жизнь продолжала свой стремительный бег, проявляя неизменное равнодушие к живущим. Жизнь продолжалась, но в мире не произошло ничего, о чем можно было бы искренне сожалеть. Или так же искренне удивиться. Временами казалось, что все замерло на пороге ожидания, ожидания чего-то великого, которое никак не наступает. И когда приходило такое чувство, то становилось легче терпеть жизнь. Ожидание было сладостным, но увы обманчивым. Проходило время и ничего не наступало. Ожидание оставалось ожиданием, которое можно было длить по собственному желанию, а можно было и не длить. Снова загадочный круг одного и того же свершал свой непонятный цикл, заставляя лишь некоторых изумляться происходящему, но оставляя большинство в совершенном равнодушии и оцепенении.
Дэн пробовал фотографировать жизнь, чтобы уловить красоту ускользающих мгновений. Ничего не получилось. Даже если фотография оказывалась безупречной эстетически, в ней все равно чувствовалась какая-то фальшь. Чем больше красоты и изящества, тем больше почему-то фальши. Такой нелепый закон. От этого становилось скучно и совсем приторно. Дэн забросил фотографию, и вместе с ней желание понимать жизнь.
Он уже переступил за ту черту возраста, когда смерть еще может восприниматься как трагедия. Он незаметно добрел до того рубежа, за которым остались, как говорят, лучшие годы. И умри он сейчас, это не стало бы абсолютным и безвозвратным горем. Конечно, только для окружающих, остающихся еще в живых; для самого умершего возраст не имеет значения, и приход смерти всегда означает наступление темной катастрофы жизни. И все же с возрастом несколько притупляется и страх смерти, и воля к жизни. Все чаще Дэну казалось, что жизнь взяла свой последний излет и теперь уже неуклонно стремится к своему закономерному не страшному, но скучному концу. Умереть от естественного окончания жизни казалось Дэну верхом пошлости. Но особых сил, чтобы сопротивляться этому, он не чувствовал.
Большинство людей, дожив до этого периода, понимают, что теперь жизнь пошла на убыль; и не почувствовав в себе былого искрометного и беспутного азарта, выбирают сон и еду. Да, сон и еда – великие анастетики, они помогают перенести вдруг ставшее таким неинтересным и блеклым существование, существование, в котором там мало надежды, и так много тины и пены. Конечно, они могут хорохориться, молодиться и омолаживаться. Они становятся вегетарианцами и занимаются йогой, заводят любовниц и любовников, рожают новых детей, путешествуют, ведут здоровый образ жизни, бросают пить и курить, пьют травы, худеют, правильно питаются, занимаются спортом, делают пластические операции, занимаются благотворительностью, покупают новые квартиры, верят экстрассенсам, гороскопам, журналистам, и убеждают себя, что все только начинается. Но все уже кончилось, даже и не начавшись. И Дэн это хорошо понимал, стараясь всегда идти своим путем, никогда не принимая участия в этом празднике жизни и не разделяя участь все этих жителей такого прекрасного, но, увы, тошнотворно бессмысленного мира.
Однажды, гуляя с сыном в детском парке, Дэн, пожалуй, впервые задумался над тем, что он почему-то до сих пор жив. Все дело было в этом «почему-то». Действительно, он ведь еще не умер, хотя мог сотню, тысячу раз умереть самым случайным и нелепым образом. Это показалось ему странным и удивительным. Какое-то новое чувство пришло к нему, обласкав и обнадежив. Оно пришло совсем неприметно, не в виде откровений и озарений, а как скромный гость. Перед ним вспыхнула вереница различных смертей его ровесников, и даже тех, кто был младше его, но уже давно умерших. Он вспомнил могилу своего одноклассника, которая находилась в минутной близости от могилы его отца. Как египетская пирамида грозно и властно возвышалась она над кладбищенской пустыней, напоминая всем о неизбежной участи. Но он-то избежал этой участи, именно участи. Эта простая и нехитрая мысль оживила его, ставшее в последнее время совершенно бесцветным, существование.
Вокруг раздавался детский смех. Эти веселые звуки, перемешанные с гулом весеннего воскресного дня, дали ощущение спокойствия. Дэн не хотел поддаваться беспечности этого обманутого весной состояния. Слишком много было в его жизни разных озарений, откровений, пониманий, так ничем и не закончившихся. Одни только подъемы и падения. Он, честно говоря, устал, устал от себя, от собственного мучительного сознания и переживания жизни. Но правда была в том, что он никогда раньше не думал о том, что до сих пор жив, поскольку еще не достигал этого порога жизни. Такое никогда ранее не приходило в голову, не могло прийти, поскольку жизнь воспринималось как само собой разумеющаяся данность, а не как особая благодать. Жизнь выступила из своих берегов, и смерть вдруг превратилась в маленькую точку, исчезающую на белоснежном пространстве мира с молниеносной быстротой.
Нет ли здесь знака какой-то высшей милости, не позволившей ему умереть раньше? Дэн вдруг почувствовал избранничество. Это было совершенно новое ощущение и понимание: избранничество самой жизнью. В сущности, чем была его жизнь? Набором разного рода мучительной сложности эпизодов, никогда не позволявших подняться над ними и обозреть ее как целое.
Он вспомнил отца и мать, вспомнил Марию и жену. Вспомнил дочь и как-то по-новому посмотрел на сына, который в это самое время гнался за убегающим от него несчастным серым голубем. Кем были все эти люди для него? Они были лишь эпизодами, из которых ткалось неведомое полотно всегда непонятного существования. Но теперь что-то поменялось. Жизнь вдруг приобрела ценность как раз в тот момент, когда ее ценность была сведена к минимуму. Это божественное «вдруг», снова вдруг. А вдруг это опять обман?
Но нет, это был не обман. Это была, как говорят, нечаянная радость, волшебным образом превратившая существование из тоскливо-естественного приближения к своему неизбежному завершению во что-то завораживающее. Словно открылось ранее не ведомое, или давно забытое, легкое и прозрачное, как эти беззаботные, но такие прекрасные облака, мягко парящие над землей. Они никогда не покроют ее теперь смертной тенью. Это будет вечная прохлада, в которой так радостно и приятно быть. Теперь стало понятно, что не нужно обретать сущность жизни, которая до этого так никогда и не обреталась в той мере, в какой бы это могло удовлетворить всегда очень щепетильным требованиям Дэна. Это было что-то очень простое. Это была тайна, представшая в виде самой простой и естественной очевидности. Тайна не где-то там, в незримых далях; тайна не то, что нужно непременно разгадать, тщетно и мучительно разгадывая всю свою жизнь. Тайна – это вот, вот то, что близко, что слишком близко, чтобы ее не заметить. Тайна не дает нам обманываться относительно главного.
«Наверное, так и живут все остальные люди», – подумал Дэн уже без примеси брезгливости, которая всегда возникала, стоило ему лишь только подумать о других.
* * *
Он размышлял об этом и о других вещах, глядя в непроглядную тьму из окна вагона в поезде, летевшего на полном ходу, как теперь ему казалось, к новой жизни. Какая это жизнь? Неважно, главное, это была жизнь. Обычная эйфория, которую испытывает человек у окна в поезде, усиливалась неожиданным приливом сладостно-манящего энтузиазма дальнейшей жизни, появившегося в результате его «открытия» о своем «избранничестве». Нет, он не мечтал ни о чем несбыточном, невероятном, жизнь достаточно жестоко научила его трезво смотреть на вещи и реально оценивать свои возможности. Это было другое чувство; одновременно неожиданное, и в то же время, долго зревшее в тех невидимых пластах его существа, которым суждено было появиться лишь в определенный срок.
В свете этих перспектив неведомого будущего прошлая жизнь показалась не такой уж и пустой, какой она ощущалась все это время. Дэн вспомнил как о чем-то безвозвратно ушедшем, что он всегда воспринимал свое существование как неизбежное тягостное бремя, скучное и абсурдное одновременно, лишь невзначай прерываемое искрометными вторжениями редкого незаслуженного счастья.
С каждой минутой в сознание Дэна, с тихим восторгом вглядывавшегося в черное полотно ночного пейзажа, создаваемого стремительно мчащимся поездом, приливали все новые и новые мысли, которые со всей очевидностью и убедительностью говорили о том, что жизнь его была не напрасной. Более того, ранее казавшиеся случайными, хаотическими, просто никакими события, теперь даже выстраивались в «логическую цепочку», образуя интересный и необычный рисунок, как казалось раньше уходящей в бессмысленное ничто, жизни. Стало даже понятно, почему произошло то или иное событие, или не произошло, почему были несчастья, неудачи, «ошибки». Дэн поразился тому, как быстро осколки, почти что руины прожитой жизни вдруг сложились во вполне симпатичную мозаику, на которую, в общем-то, жаловаться было грех. Этот необычный взгляд, опрокинутый в прошлое, странным образом придавал осмысленность уже ставшему и прожитому, которое нельзя было отменить ничем, даже смертью. Это была даже не логическая цепочка, это была какая-то необыкновенно волнующая мелодия, мелодия его непонятной, но такой прекрасной жизни, которую ожидает не смерть, а таинственная тайна.
Все это не было подведением итогов. Открылся лишь смысл «первой» половины жизни; ее «вторая» половина, конечно, не обещала быть такой же симметричной по продолжительности прожитых лет, и тем более не обещала завершиться волшебным прозрением относительно истины теперь уже всей жизни. Он не обрел никакой высшей цели или какого-то особого, лежащего в иных мирах, смысла. Но теперь он не будет выкручивать руки у своей жизни, требуя от нее невозможного. Блаженная бессмыслица существования взывала не к отвержению и проклятию, а к радостному приятию того, что есть.
Было приятное чувство неотступно надвигавшейся новой жизни, заставившее Дэна прервать ночные бдения и отправиться спать. Прошедшая мимо стройная незнакомка невольно вызвала легкий прилив теплой и нежной волны. Дэн улыбнулся внутренней, немного саркастической улыбкой, как бы ответив тому Я, которое так долго мучилось и страдало. Все продолжится, все будет тем же самым, но одновременно, другим, совершенно другим. Каким – неизвестно, и это самое важное. Его смерть спрятана где-то в самых неприступных и неподвластных его сознанию уголках бытия, спрятана так глубоко, что перестала иметь какое-либо значение. Страх, конечно, оставался, но это был уже совсем другой страх.
Он почувствовал жизнь как бесконечный поток, струящийся из никому недоступных истоков и которую, вопреки всем обстоятельствам нужно прожить. Прожить, несмотря на горе. Прожить, несмотря на пустоту и неизвестность. Прожить, выжить, пережить. Перенести свою жизнь через реку страданий и тоски, через бесконечное непонимание ничего, через абсурд, через мутный поток вечного становления. В этом не было никакого пафоса, никакой позы, никакого эстетства. Просто прожить жизнь по нынешним временам есть уже подвиг. Да так, впрочем, было всегда; в этом и заключается суть жизни.
Ночь, проведенная в уютном купе, после таких возбуждающих откровений, показалась Дэну волшебной. Когда он проснулся и не ощутил привычной тяжести в голове, то понял, что все его недавние мысли и переживания реальны и достоверны. Солнечный свет ровно заполнял все внутренне пространство помещения, создавая легкую и непринужденную атмосферу поездки. Пылинки, взметнувшиеся от его движения руки, теперь медленно оседали, искрясь хрустальным светом игривой вечности.
Дэн посмотрел на сына, спавшего самым невинным сном детства. Стук колес, незнакомые попутчики, крепкий чай, аромат вагона, – все эти дорожные мелочи неприметно приподнимали настроение, обдавая жизнь прохладной волной близкого счастья.
Птицы знают
– I —
Когда Нефу исполнилось сорок лет, то он вздрогнул. Вздрогнул, словно ужаленный смертельным ядом какого-то неведомого злобного существа; вздрогнул, как будто укушенный той огромной черной птицей, которая дня два назад врезалось в окно его спальни. Так все неожиданно произошло; обычное серое утро, и вдруг в окно со всего размаху бьется это чудовище. Он даже почувствовал жгучую саднящую боль в самом незащищенном районе своего тела – где-то под левой лопаткой. Именно туда и могла ночью укусить его змея, или даже страшное насекомое, тарантул, например, или красный жирный паук, который недавно привиделся ему во сне. Такой странный был сон: красный паук на фоне багрового заката медленно ползет, оставляя темно-коричневые следы. Не зря он ему приснился, вот ведь вещий сон, или, как говорят, сон в руку, предчувствие…
Неф действительно ощущал эту боль. Не понимая ее истинной природы, он начинал чувствовать незащищенность, преходящую в стойкий и неприятный страх. А может это вообще инфаркт, такой незаметный, подло подкравшийся к нему и ударивший прямо в спину. Ведь так и происходит всегда: живет себе человек как вечный и бессмертный, а в себе семя какой-то подлой болезни уже давно носит. И вот наступает момент торжества смертной плоти: в одночасье она превращается в непонятную материю, называемую трупом. А потом все как обычно: в силу вступает тысячелетиями освященный ритуал – заклание смерти и избавление от мертвеца. А каково мертвецу, всем мертвецам каково, особенно умершим от инфаркта? Да не важно от чего. Им-то как?!
Такое состояние конечно, бывало и раньше, особенно после бурного веселья, когда вот так проснешься утром и не можешь ничего понять; не чувствуешь ни времени, ни смысла, смотришь в темную точку на белом потолке и ощущаешь себя мертвым. Видишь, как внутри твоего сознания рождаются страшные черные миры, такие непрозрачные, безвкусные и беззвучные. Внутри этих миров рождаются новые такие же бесчувственные, наполненные множеством безучастных существ. Их непонятное и ненужное существование действует умертвляюще. Зачем они здесь, рядом со мной? Им ведь что-то нужно? Но что? Мысль о смысле их бытия приводит в самое кромешное отчаяние. И вот ты входишь в этот прижизненный морг и понимаешь, что ты уже мертвец. И не надо умирать и возноситься, вот она смерть как она есть, в полной рост своей несказанной жути уже овладела тобой, подчинив себе разум, чувства, волю и плоть.
И обязательно появится где-нибудь боль; в голове, животе, в спине… в самой сердцевине насмерть изношенного сердца.
Еще вчера была беспечность, а сегодня, в этот проклятый день сорокалетия, когда за окном так неуместно ярко светит солнце, изливая на всех – и добрых и злых, и больших и малых, и живых и мертвых свой бессмысленный свет, сегодня уже все иначе. И особенно трудно видеть это легкомысленное равнодушие природы, граничащее с насмешкой и цинизмом, покрывающее всех своим безразличием и безучастностью. И ведь уже зима, а зимой всегда приходит надежда. А это самое важное и серьезное в жизни. По крайней мере, так было всегда. А тут это лишнее солнце…
Неф всегда расстраивался, если его день рождения выпадал светлым, солнечным и ясным, а не хмурым, тусклым и завьюженным. И совсем не потому, что он был ипохондриком и невротиком, а потому, что считал, что солнце зимой неуместно, что это как бы противоречит самой сути природы, хоть она бессмысленна и неразумна, но все же есть и в ней какие-то законы. По крайней мере, должны быть. А здесь явное беззаконие, уступка тем, для кого жизнь – это сплошное лето и пляж.
Вмиг осознав, что бо́льшая половина жизни уже скорее всего прошла, пролетела, испарилась, исчезла, как всегда пошло говорят «канула в лету», Неф увидел перед собой это огромное, большое и страшное чудовище, пожравшее вот так ни с того ни с сего эту добрую половину его дорогой жизни. А может и всю жизнь. Он увидел само время, его несуществующую плоть, которая была обманом и тоской, предательством и надеждой, бытием и смертью одновременно. Время как гигантский шар вбирало в себя все существующее, опустошая изнутри, превращая все ценное, дорогое и любимое в равнодушное космическое пространство, безначальное и бесконечное, а значит нечеловеческое, ненужное. «Как же это возможно!?» – прокралась в сознании отчаянная горечь. «Неужели вот так?!» – продолжала мучить эта садистская мысль. «А что же произошло???» – не умолкало адово эхо, бившее своим неотступным рефреном в самую уязвимую точку его души.
Вот наконец-то Неф и стал взрослым человеком. Вот наконец-то жизнь кончилась. Она все тянулась и тянулась, маня и обольщая, переливаясь разными красками, поворачиваясь разными, чаще приятными сторонами, и казалось этому не будет конца. И вот теперь при достижении этого возраста она кончилась. Она кончилась духовно, разрубив бытие ровно напополам: на жизнь – надежду и жизнь – доживание. В каких-то самых недоступных для человека его же собственных пластах таится это роковое знание, которое до времени живет в скрытом, свернутом виде как зерно и семя. И по достижении этого возраста вдруг моментально вызревает огромным древом познания, которое ясно и уверенно показывает, что надежда, поддерживавшая легкий и беспечный стиль жизни, кончилась, исчезла как будто и не было ее, и теперь настает время принятия суровой реальности – реальности без иллюзий и, главное, без надежд.
Это заложено, как, наверное, сейчас бы сказали, на клеточном или генетическом уровне. Всему свое время; ни один возраст не должен и не может опережать другой. И вот именно в этом возрасте проходит пора иллюзий и надежд. И, наверное, не случайно то, что большинство религиозных людей – это люди взрослые и пожилые, поскольку время действия естественной благодати прошло, и духовная нужда гонит жизнь к суррогатным и искусственным формам. Да и внешний облик человека к этому возрасту меняется: он как бы сбрасывает с себя летние одежды беззаботности и надевает тяжелые зимние вещи, чтобы защитить себя от сурового и лютого холода догорающей и остывающей жизни.
Но странно, Неф совсем не чувствует своего возраста. Ощущения себя как себя нисколько не переменились; что в двадцать, что в тридцать, что сейчас, все одинаково. Конечно, внешне изменилось много. Но как будто его физическое развитие, повинующееся общеобязательным правилам «от рождения к смерти» и отражавшееся в накоплении возраста и связанных с этим телесных деградаций, шло своим путем, а духовное, или еще какое-то, в котором он сам, в сердцевине себя самого ощущал всегда себя собой, а никем иным, вот здесь никаких перемен. Совсем как в детстве, в его светлых сизо-лиловых очертаниях, в которых бесконечным потом струилась радость и беспечность. И это он мог чувствовать и теперь, и всегда чувствовал. Вот только сознание, что уже сорок действовало угнетающе. Было совсем не понятно, что делать дальше. Такое ощущение, что жизнь уже завершилась, не начавшись как следует. Не чувствовал Неф никакой тяжести прожитых лет. Но в тоже время чувствовал: что-то оборвалось.
Тут он вспомнил слова Федора Михайловича, которые, между прочим, никогда не забывал, слова, прочитанные давным-давно в пору совсем еще ранней молодости… в общем, те самые слова про сорокалетний возраст. Очень подлые, желчные и предательские слова. Невозможные слова. Как же он мог?! Великий писатель. Наверное, в насмешку все же называют его гуманистом. Пусть даже и от лица героя, пусть даже и в шутку, или со злобы. Он ведь уничтожил силой своего гения всякую перспективу жизни, фактически обнулив ее, превратив в ничто. И как же жить после этого? Неуместно и ненужно. Смеялся он что ли, а может быть изрек истину, горькую и нелицеприятную, от который все всегда бегут, бегут в какой-то свой такой смешной и наивный мирок, который ни от чего не спасет, ни от чего никогда не защитит, и в котором так всегда мало смысла. Можно, конечно, вообще не обращать внимания на эти слова, можно вообще о них не слышать ничего, просто не знать, но Неф чувствовал своим каким-то очень глубоким и правдивым чувством, что здесь кроется важное для жизни.
Он никогда не был искателем ее смысла, но не хотелось все же просто так «небо коптить», а потом сгинуть, пускай и оставив наследие и наследников. Дело-то не в этом. А в том, что время шло, а Неф все никак не мог поймать его, схватить в свое обладание, присвоить себе, хоть небольшую частицу, которая не канет в лету, не раствориться в пустоте проходящих мимо дней. Раньше все же не так все было: возраст мог позволить беспечность, дать несравненную привилегию жизни «просто так». Сейчас положение изменилось. Очевидно, что оставшееся время необходимо превратить в пространство, в то ощутимое пространство, которое зовут жизнью. Понятно, что нельзя было продолжать делать то, что было раньше. Хотя ничего скверного не было в этом прошлом; самые обычные человеческие вещи: дом, семья, работа. Но вот именно в них и затаилась какая-то неправда, не позволявшая теперь вздохнуть полной грудью и почувствовать себя человеком. Наверное, это было очень странно, осознавал Неф, ибо большинство людей как раз и стремятся к этому. И бывают рады, что к такому возрасту обзавелись семейной и социальной стабильностью, которая может гарантировать обеспеченность дальнейшей неизбежно подходящей к концу жизни.
Как нелепы и смешны, наивны до последней отвратности после этого все эти современные теории о том, что в этом возрасте жизнь только начинается, что мол уже пришел опыт, а впереди еще так долго. Да впереди не долго, впереди ничего! В любой момент теперь… Вот ведь умер недавно этот сосед Игорь, сорокалетним умер. Упал и умер и все, словно и не было никогда. На глазах у жены и сына умер. И не болел ничем, к врачам никогда не обращался. А может зря, что не обращался?.. Что ж ему, на роду так написано? А почему этому девяностолетнему, что на первом этаже, написано иначе? В чем разница-то между ними? Книга судеб? Мы не знаем ее логики, но зато она знает, насмехаясь и издеваясь над несчастными смертными. Все же это удар ниже пояса, нет здесь никакой справедливости, правды и смысла. Ничего нет. А еще передавали недавно про этого известного актера, тоже сорок с небольшим, и так же скоропостижно. Вот они все дернулись-то и напряглись там, все эти его соработники. Какое все-таки отвратное это слово «скоропостижно» … Все детство: скоропостижно, скоропостижно, скоропостижно… Никогда не мог понять его, но как слышал, то словно колокол в ночи, такой рвущий страх охватывал. И все становилось каким-то тусклым, ненадежным и бессмысленным. Нужно ли вообще жить, если есть это зловещее «скоропостижно»?
И к чему эти жалкие трусливые оправдания, за которыми только страх старости и смерти и мелочное желание хорошо пожить еще, пожить сладко, в свое удовольствие?
Неф присел на стул, даже и не присел, а как-то просел и рухнул на него, вдавив массой своего не такого уж тяжелого тела его ножки глубоко в пол. Ему стало противно, он почувствовал отвращение, граничащее с яростью и ненавистью. Непонятно к кому, просто ненависть, глухая и темная, безотчетная и неукротимая. Он стал вспоминать разные смерти, много разных смертей и понял, что все, кто мог, уже умерли, всегда умирали с самого раннего детства, что всегда люди только и делали, что умирали. Будто это и есть главное дело человека – умереть, которое он всегда выполняет с завидной дисциплинированностью.
Да, впрочем, ничего здесь такого страшного и нет, почему бы и не умереть? Почему бы ему не умереть здесь и сейчас? Разве не этого хочет от нас природа? Разве не этого хочет Бог? Разве не этого ждут от нас другие, самые близкие люди? Разве не ждут они нашей смерти как самого большого и желанного сладострастия в жизни, самого страшного удовольствия и удовлетворения?
Неф представил, что он умер, умер внезапно, случайно и трагически, и поэтому не вернулся вовремя домой. Все всполошились, но после долгих и безуспешных розысков чей-то чужой и далекий голос по телефону сообщил жене о его смерти. Неизвестный голос, преодолевая вынужденную неловкость и досаду, сообщает ей эту весть, эту страшную и безутешную весть о его смерти. И это так достоверно и печально, так безнадежно, что делать нечего, кроме того, чтобы принять это, навсегда возненавидев этот голос и само существование. Не имел никакого права этот голос говорить такое. Это преступно, запрещено, это немыслимо. Но кому-то всегда нужно сообщать. Всегда на кого-то выпадает эта незавидная участь быть первым.
И вот она все это слышит и не слышит, верит и не верит, немеет, вскрикивает и падает замертво. Око за око, кровь за кровь. Она отказывается дальше жить без него, возвращает билет сразу, не раздумывая. Но Неф не знает точно. Он конечно хочет, очень хочет представить ее убитой и моментально погруженной в горе, потерявшей сознание, впавшей в истерику и отчаяние, потерявшей самое дорогое. Ему очень хочется, что бы было именно так, чтобы своей смертью он ей отомстил. За что? Он не мог точно сказать за что, наверное, просто за жизнь, всегда испорченную кем-то жизнь. И своей смертью мы мстим самым близким за свое неудавшееся существование.
… А потом его привозят, разыгрывается сознание, обмывают, обряжают, как там все это всегда делается, и кладут в гроб, крышка которого уже не будет стоять в подъезде, как это было раньше, а будет прислонена к стене в коридоре его квартиры, и любой вошедший в нее сразу ее увидит и помрачнеет, примет скорбно-печальный образ и нехотя, повинуясь закону всеобщего приличия, направится к покойнику, что бы отдать ему последний долг. А покойник уже в гробу, который водрузили на стол, тот самый стол, за которым часто собирались шумные и радушные гости, и за которым дети всегда делали уроки, потому что стол был удобный – широкий и крепкий, было где расположиться учебникам, ручкам, краскам, компьютеру, конфетам, булкам, жвачкам, огрызкам… да чего-только нам не было. Все это создавало такой радостный хаос, глядя на который хотелось жить, жить тихой, спокойной семейной жизнью, в которой никогда не может быть такого, как сейчас.
А сейчас гроб, вокруг которого судорожно юлит всякая нечисть – родственники, друзья, знакомые, и даже не знакомые, какие-то чужие постные лица, им-то что здесь надо, кто их позвал…? Всех встречает эта моя безутешная жена, с ног до головы окутанная трауром, с черным лицом, непроницаемым ни для какого добра и света. Нет, она не встречает, она лежит в соседней комнате, не в силах приподняться и сказать хоть какое-то слово. Ей сделали укол, напичкали транквилизаторами, она не в состоянии что-то понимать. Только тихий непроходящей стон – плач, похожий на кое-то нечеловеческое гуление доносится из ее груди. Такая истинно черная вдова, с почти мертвым лицом, оплакивающая своего дорого мужа, о котором она скажет самые искренние и правдивые слова, выгравировав их на его могильной плите и раскрасив ими быстро портящийся венок.
А может и нет, может она будет бодра и энергична, лишь с темной узкой повязкой на голове, делающей ее привлекательной и даже соблазнительной. Может она, как всегда, будет добродушна, приветлива и весела и возможно с тайной мыслью, что наконец-то избавилась… И с еще более страшной мыслью, понять которую ему трудно и невыносимо, потому что она связана с ее радостью от того, что он умер. Да-да, именно радость от его смерти, такая едва уловимая тайная радость, что он умер. Она конечно не хотела его смерти, искренне не хотела, и в самом страшном сне не могла себе это даже представить, но, услышав по телефону, что это свершилось в самый, самый первый миг, когда еще не пришел обычный для таких случаев ужас оцепенения, когда еще не пришло осознание, что ее настигло страшное горе, так вот в этот самый первый бесконечно малый (и поэтому бесконечно большой) миг, она почувствовала какую-то запредельную небесную радость.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































