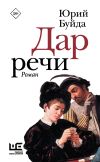Текст книги "ВИТЧ"

Автор книги: Всеволод Бенигсен
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Конечно, – выдавил Максим, находясь под сильным впечатлением от рассказа.
– Хорошо, – кивнул Зонц и стал съезжать куда-то вправо. Затем въехал правыми колесами на тротуар и заглушил мотор. – Только не надо упоминать мое имя. Не стоит. Ну что? Мы приехали.
– И все-таки я не очень понимаю, – сказал Максим, не торопясь покидать салон, – зачем все это нужно было Блюменцвейгу.
– Что «это»?
– Все эти фонды, шмонды…
– Ну вот вы у него и спросите. А потом мне расскажете.
«Сейчас улыбнется во весь рот», – подумал Максим, но Зонц как будто прочитал его мысли и только мотнул головой.
– Выходите, дверь открыта.
XI
Конечно, мысли о побеге не покинули привольчан, но постепенно даже самые свободолюбивые смирились с проживанием в Привольске-218 и в спецлечебницу или, того хлеще, тюрьму не стремились. Тем более что работа на химкомбинате оказалась, как и говорил майор, не бей лежачего, а в свободное время диссиденты писали, сочиняли, организовывали какие-то дискуссии и творческие вечера. Тисецкий, например, начал издавать небольшой листок под ироническим названием «Правда-218». За неимением типографии текст отстукивался на машинке под копирку, а оформление делалось вручную, индивидуально. Сначала Тисецкий даже хотел продавать листок, но потом ему стало совестно. Как говорится, западло. Все-таки все в одной лодке. В итоге один экземпляр вывешивали на стенде перед НИИ, как стенгазету, а остальные двадцать раздавали желающим. В одном из первых номеров Тисецкий поместил небольшую поэму Купермана, посвященную их новой Родине, которая заканчивалась искаженным четверостишием Маяковского:
Я знаю, город будет,
Я знаю, саду цвесть,
Когда таких Привольсков
Еще с десяток есть.
Этим финалом Куперман намекал на то, что раз есть Привольск-218, то наверняка где-то есть еще двести семнадцать таких привольсков. Хотя и идиоту было ясно, что названия таким ЗАТО давались безо всякой логики и тем более очередности. Впрочем, смысл стихотворения можно было понимать и иначе – пока, мол, есть такие города, как наш, сад (то есть нелегкое диссидентское ремесло) будет цвесть. Поэтесса Буревич, известная своей желчью и неприязненным с момента дележа квартир отношением к Куперману, тут же пустила в оборот свое четверостишие:
Я знаю, голод будет,
Я знаю, аду цвесть,
Когда таких Привольсков
Еще с десяток есть.
Но, как ни странно, ее сарказм никто не поддержал. Более того, на нее даже слегка обиделись, потому что ни голода, ни тем более ада в Привольске-218 не наблюдалось. Обживались, конечно, долго. Трудно было свыкнуться с мыслью, что ты как бы на свободе, но как бы и не совсем. Тем более срок в пять лет уж очень напоминал тюремный. Но через два месяца подъехал десяток ученых-химиков, открылись первые магазины, в общем, началась какая-то жизнь. Кроме того, привезли еще небольшую группу инакомыслящих. Правда, практику с заменой рейса КГБ отменило как порочную. Виной тому был слух, который (бог весть какими путями) просочился в интеллигентные круги, что, дескать, есть такой самолет-призрак, который взлетать-то взлетает, но еще в пределах СССР его сбивают, а пилоты выпрыгивают с парашютом. Чтобы пресечь эти слухи, КГБ пошло на уступки и организовало телефонную линию для жителей Привольска-218 – конечно, под неусыпным контролем. Раз в месяц можно было сделать один звонок своим родным и рассказать, что ты жив, здоров, работу нашел, но в небольшом городке под названием… ой! связь плохая!.. не слышу… ту-ту-ту-ту… Что-то типа того. А дабы никто не вздумал «шалить», как выразился майор, всех предупредили, что связь идет с задержкой в пять секунд, так что если кто-то захочет что-то ляпнуть, то, во-первых, его тут же прервут и накажут, а во-вторых, до собеседника просто ничего не дойдет. Это было не более чем хитрой уловкой, ибо никакой задержки в пять секунд не было, но проверять это на собственной шкуре новым привольчанам не хотелось. Так что говорили очень осторожно и сухо. Конечно, попыток обвести родной КГБ некоторые не оставляли. Так, Ледяхин звонил маме и говорил всегда одно и то же. Как робот. «Со мной все в порядке. Нашел хорошую работу. Зарабатываю неплохо. Построил дом. Подумываю жениться. Что у тебя?» Спустя месяц он повторял этот текст слово в слово: «Со мной все в порядке. Нашел хорошую работу. Зарабатываю неплохо. Построил дом. Подумываю жениться. Что у тебя?» Он надеялся, что старушка мать, некогда революционерка и подпольщица, догадается, что что-то не так. Но она, как назло, каждый раз отвечала одно и то же, как будто сама пыталась ему что-то передать: «Ну и слава богу. А женитьба – дело такое, хочешь жениться – женись, а нет – и не надо. У меня все хорошо». Это нервировало Ледяхина, который теперь уже начал подозревать, что и мать его находится вовсе не в Москве, а тоже в каком-нибудь Привольске. Но объяснялось все просто: ей действительно было больше нечего сказать, и поскольку ум у нее стал с возрастом слабеть, то она благополучно забывала, что там и в какой форме говорил сын в прошлый раз. Зато фокус Ледяхина не прошел мимо внимания майора Кручинина, который, услышав однотипную информацию о строительстве дома и подумывании жениться в четвертый раз, спросил у Ледяхина, как долго он собирается сообщать матери о построенном доме и предстоящей женитьбе. Ледяхин смутился и сказал, что, наверное, больше не будет.
– Вот и я так думаю, что не стоит, – мягко сказал майор.
В следующий раз перепуганный Ледяхин сказал маме, что жениться он раздумал, а дом продал и переехал. На что, к своему изумлению, услышал неизменный ответ: «Ну и слава богу. А женитьба – дело такое, хочешь жениться – женись, а нет – и не надо. У меня все хорошо» – и плюнул на эту затею. О чем впоследствии не жалел, потому что жизнь в Привольске-218 его тоже потихоньку начала устраивать.
Впрочем, «звонки на волю», как их называл Куперман, тоже быстро сошли на нет. Говорить шаблонные фразы стало лень, а фантазии пресекались на корню. Как-то Авдеев, слегка приняв на грудь, начал плести своему брату какую-то околесицу про то, как он ездил в Берлин, бродил по Унтер-ден-Линден, сидел на Александерплац, заходил в Фридрихштадт-палас и все такое. Скорее всего, подвыпивший Авдеев не имел в виду ничего такого, но так уж вышло, что все объекты, которые он упоминал (и которые автоматом соскакивали у него с языка ввиду давней школьной поездки в ГДР), находились в Восточном Берлине. Где он (якобы только что прибывший в ФРГ) просто не мог находиться. Но если Авдееву было все равно, что заливать, то насторожившийся Кручинин был вынужден прервать не на шутку разгулявшегося «туриста». Так или иначе, но и этот вид связи с внешним миром постепенно был упразднен: майору надоело отслеживать речи болтливых привольчан, привольчанам надоело постоянно подавлять в себе желание рассказать правду. В память о звонках осталась только надпись на тумбочке, где стоял телефон, – накарябанное чьей-то шаловливой рукой четверостишие, переделка знаменитого стихотворения Слуцкого:
Что-то лирики в загоне,
Что-то физики в загоне,
Что-то все вообще в загоне —
Вот такая вот хуйня.
XII
Максим быстро нашел Воронцовский проспект, шумный и грязный, как и большинство московских улиц, имевших несчастье быть выстроенными вне исторически-культурного центра столицы. Немного поблуждав среди уныло-облезлых новостроек в поисках нужного здания с несколько алгебраическим адресом: дом 6, строение 3, корпус 2, он наконец выбрел к многоэтажному блочному дому с обшарпанными стенами и уродливыми балконами, окрашенными в посеревший от копоти и времени голубой цвет, некогда, видимо, радовавший глаз приемной комиссии. Максим зашел под козырек подъезда и стал усиленно жать на кнопки большого черного домофона, набирая номер квартиры. На домофоне от руки было накарябано: «Свет, у вас что, код сменили?». Максима удивил не столько сам вопрос (почти философский в своей риторической безответности), сколько то, что он был написан белой несмывающейся краской – то есть, считай, на века. Что автоматически придавало ему статус вечного вопроса.
Максим довольно скоро оценил страдания писавшего сие послание к человечеству в лице некой Светки, ибо сколько ни жал на кнопки, домофон не подавал никаких признаков жизни. Тогда Максим дернул за ручки двери, которая, к его удивлению, просто открылась.
В лифте Максим ткнул кнопку восьмого этажа, приблизительно вычислив его по номеру квартиры, и, хотя обычно подобный метод давал погрешность в пару этажей, на сей раз он угодил точно куда и следовало. Причем понял он это сразу, как только увидел в углу лестничной клетки обитую потертой кожей дверь с медной табличкой: «Я. Блюменцвейг. Консультации по вопросам ВИТЧ».
Максим поискал глазами звонок, но, не найдя оного, постучал костяшками пальцев прямо по табличке.
– Кто там? – раздался знакомый и почти не изменившийся голос Якова.
– Это Максим Терещенко, – сказал Максим, чуть сгорбившись и уткнувшись губами в солоноватый металл замочной скважины. – Я звонил…
В ту же секунду что-то щелкнуло, и Максим невольно отпрянул. Перед ним стоял мужчина лет шестидесяти. На нем были джинсы и мятая темно-синяя рубашка с закатанными рукавами.
«Боже, – подумал Максим, разглядывая мужчину, – неужели и я так постарел?»
– Проходи, – близоруко щурясь, сказал Блюменцвейг, отходя в сторону и пропуская Максима в квартиру. – Да не разувайся. Проходи прямо в кабинет.
Максим пошел наугад по коридору, не очень понимая, где тут кабинет.
– Налево, налево, – засуетился Блюменцвейг, почти обгоняя Максима.
В маленькой комнате, которую Яков именовал кабинетом, было светло и уютно. Солнечный луч, пробиваясь сквозь неплотно зашторенное окно, ложился на потертый паркет, придавая обстановке почти церковную умиротворенность. В одном углу стоял стол. В другом небольшой диван. По всему периметру комнаты находились полки с книгами.
Блюменцвейг с некоторым опозданием пожал руку Максиму.
– Сколько лет, сколько зим, – сказал он. – Рад, что ты меня наконец нашел.
Максима слегка удивило это «наконец», как будто он всю жизнь посвятил поискам Блюменцвейга.
– Да собственно, дали координаты, я и нашел.
– И кто же эти добрые люди, если не секрет?
– Ты не знаешь… давняя история… один человек из минкульта… «Театр дегенератов»…
– Ах, да! – обрадовался Блюменцвейг, – «Театр дегенератов». Как же, как же…Ох, талантливые были ребята. Все полные дебилы, но какие таланты! Талант – вот основа всего. Вот истинная свобода. И истинное безумие, если хотите. Как у меня один аутист играл Мышкина, ты бы видел!
Блюменцвейг закачал головой и зацокал языком.
– А вокруг олигофрены, дебилы, пара шизофреников… Идиот, так сказать, приехал к идиотам.
– Тонкий художественный ход, – неуверенно похвалил Блюменцвейга Максим.
– Да при чем тут ход? – махнул тот рукой. – У меня ж не было других актеров. Какой мы успех имели в Японии! Елки-моталки. Где они все теперь? Раскидала всех жизнь… Эх-ма! Хочешь чего-нибудь выпить?
Максим мотнул головой.
– Я по делу.
– Не вижу противоречия, – удивился Блюменцвейг. – Впрочем, как знаешь.
Он указал рукой на стул, приглашая Максима сесть, а сам опустился в кресло.
– Ну, что нового?
– Да, собственно, ничего, – смутился Максим, не зная, с чего начать – вопросов было слишком много, а времени с их последней встречи прошло больше тридцати лет. – Видишь ли… дело в том, что я сейчас занят сбором материала по поводу «Глагола», если ты помнишь этот диссидентский альманах.
– Еще бы.
– И я столкнулся с определенными трудностями. Самолет, на котором вы все полетели в Мюнхен, в Мюнхене не приземлился.
Блюменцвейг как-то поморщился. А может, Максиму это только показалось.
– Это долгая и скучная история, – сказал Блюменцвейг и почему-то забарабанил по столу.
– Насколько долгая? – упрямо спросил Максим.
– Ну хорошо, – сдался после паузы Блюменцвейг. – Скажем так. Как только мы взлетели, самолет изменил курс и привез нас всех в лагерь. Это было что-то вроде эксперимента. Вот и все.
Проговорил это все Блюменцвейг с пулеметной скоростью, явно давая понять, что не очень настроен говорить на эту тему.
– То есть вы не прилетели в Германию.
– Нет, – отрезал Блюменцвейг. – Мы прилетели в Россию. Точнее, мы из нее и не улетали.
– А открытки?
– Все – липа. Игры КГБ, – сухо ответил Блюменцвейг. Было видно, что тема ему совсем не нравится. Но Максиму было некуда деваться.
– А ты?
– А мне удалось сбежать. И давай закроем эту тему. Не понимаю, почему тебя это все интересует.
– Но я же сказал. Я пишу о «Глаголе». О диссидентской интеллигенции. В конце концов, речь идет и о твоих же друзьях.
Тут Блюменцвейг снова поморщился.
– Знаешь, Максим… вот тебе мой совет. Не лезь ты в это дело.
– В какое дело?
– Ты знаешь, о чем я.
«Мило, – подумал Максим. – Свет в конце туннеля оказался миражом. Снова все та же глухая стена. Остается только попрощаться и уйти, впрочем, это было бы как-то неудобно».
– Нет, не знаю, – сказал он упрямо. – У меня есть заказ на книгу. Книгу о нас, нашем времени, наших чаяниях и надеждах.
Последнее предложение прозвучало как-то фальшиво, и Максим невольно замолчал.
– Такая книга будет написана, – сказал Блюменцвейг загадочно. – И, думаю, раньше, чем ты напишешь свою… Дело в том, что ко мне уже приходили относительно Привольска.
– Да? – удивился Максим, который помнил, что Зонц отказался от услуг Блюменцвейга, но на всякий случай спросил: – Такой высокий, загорелый?
– Нет, шибздик какой-то лопоухий. Я его отшил. В общем, давай о чем-нибудь другом. Всякому овощу свой фрукт.
– Ну хорошо, – пожал плечами Максим, который не понял смысла поговорки, но уловил ее скрытый посыл. – Тогда, может, объяснишь, что значит этот твой ВИТЧ.
Не то чтобы Максима это шибко интересовало, но на безрыбье и рак не рак.
Блюменцвейг как-то сразу ожил, вытащил из заднего кармана джинсов мятый рекламный листок и протянул его Максиму.
На листке было написано: «Диагностика ВИТЧ. Консультативные приемы специалистов, функциональная диагностика, комплексные обследования».
– Не понял, – поднял глаза Максим. – Ты что, занимаешься медициной?
– Я бы так не сказал. Хотя… В общем, это мое небольшое открытие. Расшифровывается как вирус иммунодефицита талантливого человека. Или творческого. Я еще не совсем определился с расшифровкой этой аббревиатуры.
– И что это значит? – спросил Максим, недоуменно нахмурившись.
– Это значит, что существует огромное количество творческих людей, зараженных этой крайне неприятной болезнью, – улыбнулся Блюменцвейг, видимо, радуясь, что сумел заинтересовать гостя. – В некотором роде мания безличия.
– И в чем она выражается? – спросил Максим, чувствуя, как в голове телетайпной лентой бегут слова Зонца о неадекватности Блюменцвейга.
– В серости. Творческой серости. Эти люди пишут романы, стихи, сценарии, сочиняют песни, снимают кино. Они незаметны, как серые мыши. Но и не менее опасны, чем серые мыши, которые незаметно уничтожают зерно, грызут посевы и портят имущество. Незаметно на взгляд неопытного человека. Но на взгляд человека чувствительного, человека, обладающего культурой, этот процесс очень даже заметен. И болезнен.
– Так, а ВИТЧ – это что?
– Болезнь, которая съедает этих творческих людей изнутри. А они в свою очередь пожирают нас и нашу культуру. Такое бесконечное пожирание.
– Вроде вредителей, что ли?
– Ну да. Но только не в сталинском смысле этого слова, а, скажем, в биологическом. Они же вредят не нарочно. Как, впрочем, и мыши. Это ВИТЧ их кушает изнутри.
– А ВИТЧ – это их серость.
Максим почувствовал, что оказывается невольно втянутым в какую-то полубезумную беседу.
– Именно. Есть краснуха, есть желтуха. А это… серуха, что ли.
– А в чем, простите, это конкретно выражается?
– В их творчестве. Оно серо, как бетонная стена. Оно базируется на стереотипах и штампах, на желании развлечь и освободить читателя-зрителя от мыслительного процесса. Это стагнация мозга. Норма, которую нам навязывают. Это фашизм. Это несвобода. По сути, они уничтожают культуру. Впрочем, это полбеды. Они уничтожают и нас с вами, ибо культура – это озоновый слой в атмосфере, защищающий нас от смертельного ультрафиолета. Убери этот слой, и мы все погибнем. Только не от ультрафиолета, а от ультра-серости.
Тут Блюменцвейг по-детски рассмеялся, видимо, радуясь собственному остроумию. Смех его был столь заразителен, что даже Максим улыбнулся.
– Людям только кажется, что они могут жить вне культуры или без культуры. То есть жить они, конечно, могут, но это скорее существование. Казалось бы, и бог с ними. Но серая среда агрессивна. В конце концов образ жизни этих людей становится доминирующим. Причем настолько, что размываются вообще всякие мерила и границы.
– Мерила и границы чего? – растерянно переспросил Максим.
– Таланта. Творчества. Искусства. Мы ведь все взаимозависимы.
– Подожди, но разве талант не есть сам по себе в некотором роде инверсия или даже извращение?
– Безусловно! – неожиданно обрадовался Блюменцвейг. – Метафизическая и доселе непознанная способность отдельно взятого человека выделиться из группы равных. Что-то, что априори противостоит общему фону. Фону, который, замечу, считается нормой. И относится подобное извращение, как правило, к творческим профессиям. Ибо понятие таланта и бездарности фактически не существует вне категории интеллигенции…
– А как же политики, спортсмены, бизнесмены…
– Да, но велик ли процент профессиональных спортсменов и политиков и сопоставимо ли их число с числом интеллигентов?
– А это-то здесь при чем? – удивился Максим.
– При том, что талант, как ни крути, вещь эфемерная, неуловимая. А что такое талант спортсмена? Это воля, умение концентрироваться плюс физические данные. О спортсменах мы говорим в цифрах – поднял такой-то вес, прыгнул на столько-то, забил столько-то. К таланту цифры неприменимы. Теми же цифрами мы меряем и успех бизнесмена. Что же касается политиков, то ну сколько реально талантливых политиков вы можете назвать? Ну десяток, ну двадцать, ну пятьдесят. Это за всю историю человечества. И мерить их талант вы будете опять же конкретными политическими успехами. Объединил Италию, отразил нападение, выиграл войну, поднял экономику. А разве успешен был Ван Гог? И обратный вопрос: а талантлив ли автор бесконечных бестселлеров для домохозяек?
– Но есть же и ремесла, – возразил Максим, чувствуя, что втянулся в дискуссию по самые уши, хотя совершенно не понимает, зачем ему это все. – В них тоже не всегда главенствуют цифры.
– А применимо ли понятие таланта в ремеслах? Нет, в метафорическом смысле – конечно, но… мы же прекрасно понимаем, что «талантливый дворник» или «бездарный водитель» звучит глупо. Мы скорее скажем «хороший дворник» или «плохой водитель».
– Но мы так же говорим и о писателе, например, – парировал Максим. – Плохой писатель, хороший писатель.
– Конечно. Но, по совести говоря, плохой дворник и бездарный писатель – понятия неравнозначные. Будет ли страдать дворник от осознания того, что выбрал не то призвание или, увы, не имеет таланта подметать улицу? Вряд ли. Будет ли страдать он от того, что подметает улицы Урюпинска, а мог бы подметать улицы Саратова или даже Москвы? Не думаю. Разве что в Москве зарплата больше. А будет ли он переживать, что есть более талантливые и успешные дворники? И это маловероятно.
Талант является прежде всего атрибутом интеллигенции. И эта инверсия и есть иммунитет. Если хочешь, иммунитет общества. А норма, которая наступает на нас, – это агрессивная среда, как кислота или, скажем, группа болезней: грипп какой-нибудь, ветрянка, что-нибудь инфекционное. То, с чем в принципе может справиться любой здоровый организм. Но, подчеркиваю, здоровый. На данный момент общество наше не шибко здорово.
– Но что ж плохого в наличии нормы? – возразил Максим. – Норма всегда была. Невозможно поднять всех жителей планеты на культурный уровень какого-то там философа. Да и нужно ли это?
– Проблема в том, что норма – не константа. Она движется, меняется. И сама по себе способна то поднимать, так сказать, интеллектуальную планку потребностей общества, то ее опускать. Как отлив и прилив. Но то, что мы имеем сейчас, в наше время, это уже даже не отлив и вообще не планка. Это плинтус, извините за грубость. И эта плинтусная норма…
– Norma plintus, – пошутил Максим.
– И эта норма, – продолжил Блюменцвейг, пропустив шутку мимо ушей, – как и любая норма, производит свои ценности, то есть свои стандарты существования. Талант – единственное, что в состоянии сопротивляться надвигающейся норме. Именно он дает альтернативную, а часто и объективную оценку этой норме, заставляя сомневаться в ее абсолютной правоте. Сама по себе норма не так уж страшна. Хотя в наше время она превратилась в надувание мыльных пузырей. То есть некие пустоты, которые только талант в состоянии заполнять смыслами. В общем, как я уже сказал, талант – это иммунитет.
– И в чем же заключается твоя идея? – спросил Максим, начиная теряться в этом потоке измышлений Блюменцвейга.
– Я бы хотел создать учреждение, которое будет диагностировать это заболевание. Так сказать, определять его степень.
«Да, похоже, это тебя самого надо диагностировать», – подумал Максим и невольно покосился на дверь – успеет ли он добежать до нее, если Блюменцвейг вдруг поведет себя неадекватно. Пожалуй, что успеет.
– И каким же образом ты это собираешься диагностировать? – спросил он вслух.
– Очень просто. Мы будем брать анализы…
Тут Блюменцвейг заметил растерянность на лице Максима и рассмеялся.
– Прости, это я их так называю. А по сути, мы просто берем произведение искусства, а еще лучше – несколько произведений искусства автора и подвергаем их тщательному анализу.
– Оценивать будете, что ли? – недоуменно спросил Максим.
– Можно сказать и так. Для этого у нас будет огромный штат профессиональных сотрудников по тем или иным видам искусства. Многие из которых будут отобраны лично мной, но вовсе не по причине совпадения наших вкусов, а по причине их умения выражать и аргументировать свою точку зрения, даже если она отлична от моей. Кстати, многие талантливые эксперты обладают довольно экстремальными взглядами, но это тоже ценно, ибо дает более комплексный взгляд на то или иное произведение. Скажем, по литературе у меня будет работать порядка двухсот специалистов.
– Но это же, прости, тоже субъективно. И потом, я думал, что истинную оценку дает только время.
– Ну, во-первых, мы не будем претендовать на истину в последней инстанции. Во-вторых, время, извини, тоже часто ошибается. Или ты хочешь сказать, что все труды гениальных авторов до нас дошли и были по заслугам оценены? А довольно средние произведения не становились хитами на все времена? Увы и ах! С этой точки зрения время тоже, знаешь ли, довольно субъективно. А в-третьих, оценка степени таланта не есть наша приоритетная задача. Есть авторы средние, есть выдающиеся, есть обладающие крайне скромными талантами. Но нас интересует только серость. ВИТЧ. А это разные вещи.
– И что, авторы будут сами приносить вам свои произведения?
– Будут! – уверенно шлепнул ладонью по столу Блюменцвейг, и Максим снова испуганно покосился на дверь. – Скорее всего мы будем работать в конвейерном режиме. Диагностика – процесс сложный. Мы не будем выносить оценок типа «вам пять, Сидоров, садитесь». Мы постараемся оценивать произведение с точки зрения оригинальности мышления, новизны воплощения, возможного влияния на общий культурно-творческий процесс, ломания стереотипов, в общем, с точки зрения… таланта. Но основная наша задача – это выявить серость и предостеречь от нее автора, а возможно, и общественность. Как ни странно, даже самый распоследний творец рано или поздно хочет услышать более глубокую и адекватную оценку своему творчеству, чем комплименты от случайной домохозяйки, фальшивую похвалу от друзей или просто ругань на заборе или в Интернете.
– И какие же способы лечения ты собираешься предложить? – усмехнулся Максим.
– Увы, – развел руками Блюменцвейг. – Мы будем заниматься диагностикой. Лечение вне нашей компетенции. ВИТЧ как ВИЧ. Болезнь неизлечима, но поддается сдерживанию.
Максим невольно рассмеялся.
– Что-то я сильно сомневаюсь, что твои пациенты, услышав диагноз, бросят заниматься творчеством.
– Конечно, нет. Это вообще не наша прерогатива. Но у меня в команде будут работать опытные психологи. Во-первых, диагноз будет составляться под их руководством. Он – не сухая выкладка. Это индивидуально подобранные слова. Так, чтобы заронить в душу автора определенные сомнения в качестве сотворенного им произведения. Во-вторых, анализы – это лишь первая часть обследования. Вторая – это работа с психологами напрямую. То есть обсуждение диагноза с пациентом. Именно там психологи и попытаются воздействовать на пациента…
Тут Блюменцвейг запнулся и быстро скомкал свой монолог.
– Впрочем, ты прав. Занятие это не из простых. И я не очень верю в эффективность лечения.
– Судишь по собственному опыту?
– В смысле? – удивился Блюменцвейг.
– Видишь ли, твое бурное прошлое наводит на мысль, что ты и сам с чем-то боролся.
Блюменцвейг заметно напрягся, но заставил себя улыбнуться.
– Есть немного. Я боролся со своим ВИТЧем. Правда, в разных сферах.
– Сублимация выходила, однако, довольно резкой.
– Немного насильственной. Согласен. Но я всего лишь пытался рушить стереотипы и сложившуюся вокруг меня норму. Она – абсолютное зло. Иногда я перегибал палку, каюсь. Впрочем, самое большое зло – это даже не сама норма, это те, кто пользуются ею для достижения своих личных целей. Они – одни из главных пожирателей реальности и производителей серости. Они ее спонсоры. Эти люди – самые страшные.
– А посмотреть на яркого носителя ВИТЧ можно? – с усмешкой спросил Максим.
– Яркие представители серости – это уже смешно, – ответно усмехнулся Блюменцвейг. – А они бывают разными. Есть носители, а есть инфицированные… То есть у большинства ВИТЧ – это просто зараза, а у некоторых эта зараза прогрессирует.
Блюменцвейг закурил какую-то едкую папиросу и посмотрел Максиму в глаза.
– Думаешь, я спятил?
– Да нет, – сказал Максим, невольно опустив глаза, хотя очень хотелось сказать «да».
– Вижу, что думаешь, – усмехнулся Блюменцвейг. – Впрочем, не суть.
«А что ж тогда суть?» – подумал Максим, но вслух спросил:
– И кто же виноват в этом ВИТЧе твоем?
– Как кто? А с чего гниет рыба? С головы. Значит, что? Значит, мы и виноваты.
– И я?!
– И ты. Потому что все мы толкуем об одном, высоком и жертвенном, а запусти нас в «комнату желаний», выяснится, что все мы хотим просто забраться на уютный диван и не рыпаться. Образно выражаясь.
– А что в этом плохого?
– Не знаю. Может, и ничего. Просто мы сами находим тысячи оправданий своему нежеланию делать то, ради чего мы сюда явились. Вот где истоки ВИТЧа. А еще хуже – когда мы прячемся от реальности, позволяя ВИТЧу захватывать новые территории. А потом сами же первые и скулим.
На этих словах Блюменцвейг закашлялся дымом от собственной папиросы и стал махать рукой, разгоняя сизое облако, качающееся в лучах заходящего солнца.
– Если хочешь, и тебя возьму в эксперты, – сказал он, откашлявшись.
– По старой дружбе, что ли?
– Упаси бог. У меня ж тут не семейный бизнес.
И, рассмеявшись, добавил:
– Впрочем, учитывая, что у меня не осталось ни одного мало-мальского родственника, то, пожалуй, что и семейный. Ха-ха. Нет, просто в качестве образованного эксперта.
– Спасибо, я подумаю, – вежливо ответил Максим.
– Ну и славно.
Блюменцвейг, крякнув, встал из-за стола.
– Выпить не хочешь?
– Нельзя, – развел руками Максим. – Иначе похмеляться буду на том свете.
Блюменцвейг ничего не сказал. Только откинул штору и величаво посмотрел в окно. С восьмого этажа открывался неплохой вид на спальный район Москвы.
– Посмотри на этот город, – медленно сказал Блюменцвейг, окидывая взглядом открывшуюся панораму, как полководец – поле будущей битвы. – Он расцвечен иллюминацией и рекламными щитами, а на самом деле он сер. Он сер, сэр…
После этого в воздухе повисла какая-то удушливая пауза, и Максим подумал, что, кажется, пора уходить.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?