Текст книги "По волнам жизни. Том 1"
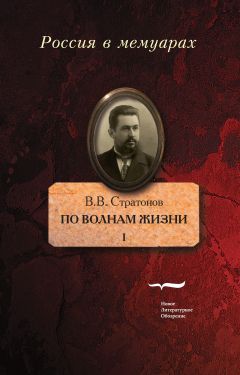
Автор книги: Всеволод Стратонов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 53 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Он и на самом деле был истериком, плохо владевшим собою. А это проявлялось в том самодурстве, о котором по России ходило немало пикантных анекдотов. И получается впечатление, что кроме самодурства Зеленый ничего не делал.
Вращаясь постоянно в кругу моряков, я не раз слышал, однако, и хорошие отзывы о Зеленом, как о добром и безусловно честном человеке. Несомненно, что при нем в Одессе был хороший порядок. Полиция взятки, конечно, брала, как их берет повсюду всякая полиция, кроме отдельных исключительных лиц. Но лично о градоначальнике Зеленом таких нареканий никогда и ни от кого – даже от его врагов – слышать не приходилось. А так не всегда говорилось о некоторых других администраторах в Одессе: едва ли все они проявляли стойкость к соблазнам, исходившим от богатой еврейской среды. Между тем евреи так ненавидели Зеленого, что немедленно разнесли бы о нем все дурное, если бы оно действительно было.
Зеленый приводил в восхищение моряков своими ругательствами. Бранился он классически, вдохновенно, как артист этого дела. Уж на что матросы привычны были к бытовой русской ругани… А рассказывали, что и они от удовольствия рты раскрывали, слушая, как виртуозно, каждый раз по-новому, собственной импровизацией – разносит их Зеленый. Это его творчество не повторяемо в печати; но некоторые его бранные словца, с сочувственным смехом, постоянно цитировались в кругах моряков.
С П. А. Зеленым сводили, между прочим, счеты и тем ребяческим способом, что время от времени печатали в газетах на первый взгляд безобидные объявления, – однако для одесситов весьма понятные. Помню одно из них в «Одесском листке»[124]124
«Одесский листок» (Одесса; 1880–1917) – ежедневная газета.
[Закрыть], на первой странице; это объявление по недосмотру было пропущено газетной конторой и полицейской цензурой:
– Вылетел зеленый попугай. Отлично бранится по-русски, еще лучше по-французски. Поймавшего просят доставить на квартиру (следовал точный адрес квартиры П. А. Зеленого), за что будет выдано приличное вознаграждение.
Вероятно, хорошо влетело и полицейскому цензору, и редакции за этот недосмотр, по условиям газетной техники вполне объяснимый.
Не повторяя классических, попавших в исторические журналы, анекдотов о нем, приведу лишь кое-что из бывшего во время моей студенческой жизни в Одессе.
П. А. Зеленый шел по улице с женой, также очень известной в Одессе Натальей Михайловной. На некотором расстоянии шагал охраняющий начальство городовой.
Зазевавшийся гимназистик не отдал градоначальнику чести. Зеленый не переносил, если учащиеся ему не козыряют. Налетел на мальчика с разносом. Н. М. как-то отвлекла внимание мужа и сделала виновному знак, чтобы он удирал. У мальчишки пятки засверкали.
Вскипевший Зеленый закричал городовому:
– Арестовать! В участок ее!!
Растерявшийся городовой мялся с разинутым ртом… Н. М. вскочила на извозчика и укатила.
В соборе, в царский день, – торжественное молебствие. П. А. Зеленый, на паперти, лично следит, чтобы на молебен пропускались только чиновные и важные лица.
Поднимается на паперть высокий плотный господин, с рыжей бородой и волосами, в штатском пальто.
– Эй, ты! Рыжая свинья! Куда прешь? А… извините, ваше превосходительство!
«Рыжий» распахнул пальто с лентой и звездой. Это был ректор университета профессор Некрасов.
Студентами мне постоянно поручалось устройство студенческих балов и концертов. Организуя очередной бал и зная, что хоровой «Gaudeamus»[125]125
Gaudeamus igitur (лат. будем веселиться) – студенческая песня (гимн), впервые появившаяся в печатном виде в 1776 г., переложена П. И. Чайковским в 1874 г. для мужского хора и фортепиано.
[Закрыть] обыкновенно не удается, вследствие незнания поющими текста, я отпечатал билеты, вместе с текстом Gaudeamus’а (по латыни и по-русски), на цветной почтовой бумаге.
У нас было принято развозить почетные билеты. Это я поручил молоденькому студенту, сыну генерала из военно-окружного суда, вылощенному щеголю, но с большим кругом знакомых. Поручил я, по неосторожности, ему завезти почетные билеты и Н. М. и П. А. Зеленым.
Влетает ко мне студентик. Бледный, растерянный… Щегольские ботинки в грязи…
– Приезжаю к градоначальнику… Говорят: просит сам адмирал! Он де в гостиной, вместе с Натальей Михайловной. Вхожу – там гости. Протягиваю ему билет… Адмирал покраснел. Как закричит:
– Это что за билеты!! Разве такая их форма? Длинные должны быть! В тетрадках… А, что вы там?
К нему подошел чиновник, что-то докладывает.
Наталья Михайловна показывает мне глазами на дверь. Шепчу:
– Почетные привез…
– Какие там почетные… Лучше удирайте, пока он этого не услышал!
Юноша не заставил себе повторять. Забыв в прихожей калоши, бросился спасаться.
Артист Н. К. Садовский рассказывал, уже за границей, в 1926 году, анекдот, относившийся к той же эпохе:
Приехал Садовский с малороссийской труппой в Одессу. Как полагалось, явился представиться градоначальнику. Но на море был шторм, пароход запоздал, с ним не пришел и гардероб труппы. Позабывши, что можно взять сертук и напрокат, Садовский явился к начальству в пиджаке.
Дежурный чиновник покосился:
– Вы так представляться… Не боитесь?
– Что же теперь я могу сделать…
Из-за двери – бас:
– А, Садовский… Просить, просить!
Встречает милостиво и любезно. Переговоривши о деловой стороне, Садовский извиняется за свой костюм:
– Пароход из‐за шторма опоздал.
– Ничего-с! Да, да! И у меня пароходы сегодня не вышли. Ну, а что вы будете играть?
Садовский перечисляет свой репертуар.
– А эта пьеса будет? Ну, как ее… Ну, та, где вы жиду в морду даете?
– Ваше превосходительство, там я не даю в морду, а только угрожаю, что дам ему по морде…
– А вы дайте! На самом деле дайте. От моего имени дайте жиду по морде!
Садовский потом предупреждал артиста, игравшего еврея:
– Ну, брат, берегись! Градоначальник велел от его имени дать тебе по морде!
Генерал-губернатор Х. Х. Рооп сильно сдерживал буйного адмирала. Отношения между ними были плохие, и Зеленый использовал всю свою протекцию, чтобы добиться «полноты власти».
Возвращался я, в августе 1888 года, на пароходе в Одессу. С нами шла из Крыма Н. М. Зеленая. Публика на пароходе ждала очередного представления: ведь Зеленый, наверное, будет встречать жену…
Действительно, на молу стоит П. А. Зеленый со свитой. Поодаль, образуя промежуточную пустоту, – остальная встречающая публика. Едва пароход приблизился, но еще не отшвартовался, как Зеленый радостно закричал во весь голос:
– Генерал-губернаторство упразднено!![126]126
Неточность: временное одесское генерал-губернаторство было упразднено в 1889 г.
[Закрыть]
Ставши самостоятельным, П. А. Зеленый действительно развернулся…
2. Студенческие волненияБеспорядки 1887 года
Прошло лишь три месяца студенческой моей жизни, как в университете вспыхнули беспорядки. Это было 1 декабря 1887 года.
Местных поводов к волнению не было. Но несколько времени назад шумная история разыгралась в Московском университете: студент Синявский ударил на студенческом балу перетянувшего струны инспектора студентов Брызгалова, и в связи с этим в Московском университете возникли довольно серьезные беспорядки.
На эту историю один за другим стали реагировать провинциальные университеты. Очередь быстро дошла и до Одессы. К нам приехали делегаты из других университетов, требуя поддержки.
1 декабря у нас была объявлена общеуниверситетская сходка. Местом ее было назначено обычное помещение, где собирались студенты, – курилка, – две больших залы, в третьем этаже, в старом здании на Дворянской.
Собрались. Один из лидеров стал читать письма с описанием беспорядков, будто бы происшедших в других университетах. Позже стало известно, что сообщения эти не всегда отвечали действительности; письма, очевидно, были сфабрикованы, и фабрикация, должно быть, шла из революционных кружков. Тем не менее, и из писем, и из горячих речей вытекало логически, что и нам, одесситам, никак нельзя не поддержать москвичей. Студенты, особенно первокурсники, прямо охмелели от молодого задора.
Толпою, в две-три сотни – зеленая молодежь впереди, а более опытные студенты не так торопились – вышли мы из курилки и заполнили площадку вестибюля, против актового зала и церкви. Это была традиция: массовое появление здесь студентов как бы устанавливало факт «беспорядков».
Что-то мы кричали. Произносили зажигательные речи. Громче всех кричали, самые страстные речи говорили – легко воспламеняющиеся молодые кавказцы.
Тем временем на Дворянской, против университетского входа, выстроилась в конном строю сотня донских казаков, с их красными околышами фуражек.
– Красные против синих! – беспечно острили студенты.
Здесь же, на углу Дворянской и Херсонской, с полным полицейским антуражем, стоял мрачный, как туча, адмирал Зеленый. Вид этой группы не предвещал ничего доброго. Но мы как-то и мысли не допускали о возможности жестокой расправы с нами нагайками.
На сходке кричали изо всех сил:
– Ректора!
– Ректора!!
Прошло около часу. И вот внизу на лестнице показалась маленькая фигура ректора. Это был симпатичнейший С. П. Ярошенко, наш профессор аналитической геометрии. Ярошенко считался «розовым»[127]127
То есть имевшим либеральные взгляды.
[Закрыть], начальство на него косилось. Студенты же его любили.
Стараясь казаться спокойным – но по его лицу ходили красные пятна, – С. П. вошел, среди расступившихся студентов, в самую гущу толпы.
Выступил студент-оратор и прочитал заготовленную петицию. Она содержала ряд фантастических, по условиям того времени, требований. Кончалась же петиция тогда обязательным упоминанием об отмене университетского устава 1884 года.
– Просим вас, господин ректор, переслать эту петицию в министерство!
– В министерство! – заорали вокруг.
– Передайте в министерство!!
Мы, зеленая молодежь, были удивительно наивны. Мы верили, будто все зло в неосведомленности министерства. Больше всего мы в ту минуту боялись, как бы эта петиция – для большинства неизвестно кем составленная и вовсе студентами не обсужденная – не осталась не посланной в Петербург.
С. П. Ярошенко учел обстановку. Тоном, не внушавшим нам сомнений в искренности, ответил:
– Даю вам обещание, господа, что петицию эту я перешлю в министерство!
Гул одобрения… Взрыв аплодисментов.
– Вас же я прошу пощадить университет и спокойно разойтись.
– Ура ректору!
– Браво, ректор!!
Сопровождаемый овациями «бунтовщиков» ректор спускался по лестнице.
– Расходиться!
– Спокойно расходиться! Малыми группами!!
Мы расходились по несколько человек мимо все еще стоявших казаков и зловеще молчаливого градоначальника.
Важных последствий беспорядки не имели, хотя кое-кто все же пострадал. Такую мягкость к студентам в Одессе приписывали мудрости генерал-губернатора Х. Х. Роопа, который говорил:
– Что за беда, если мальчишки покричат? На то они и молодежь…
Взятие «Бастилии»
Прошел год. И кому-то из студентов пришло на мысль, что годовщину беспорядков, из которых мы вышли чуть ли не победителями, во всяком случае без ощутительных потерь, надо ознаменовать.
Мысль эта встретила сочувствие. И вот 1 декабря 1888 года все лекции в университете сами собой прекратились. На них никто не пошел. Профессора возмущались:
– Что это? Вы точно взятие Бастилии празднуете…
Студенчество собралось в двух залах курилки, и день прошел у нас довольно мило. После неизбежных речей, посвященных общеполитическим мотивам, начался импровизированный концерт. Образовались хоры разных национальностей; каждый из них должен был петь свои национальные песни. Пелись болгарские, молдаванские, еврейские, грузинские, татарские, армянские и др. песни. Не помню, пелись ли также и русские; скорее, что нет.
Потом стали танцевать свои национальные танцы: очень оригинальный еврейский танец, молдаванский, болгарское коло[128]128
Коло (в Болгарии – хоро) – южнославянский народный танец-хоровод.
[Закрыть], неизбежную лезгинку, трепака…
Вечером собрались, в числе нескольких сот, в популярном ресторане Брунса.
Посторонних посетителей, которые не прочь были посмотреть на наше празднество – о нем знал уже весь город – мы выкурили; к сожалению, несколько бесцеремонно… Все комнаты ресторана вплотную переполнились студентами.
Пошло обильное возлияние пива. Сначала приносили кружками. Но это было безнадежным делом – у прислуги сил не хватало. Тогда стали приносить на столы бочонки, и из них струей лилось пиво в кружки, а иногда и прямо на стол.
Опять – песня, начиная с «Gaudeamus»; речи, речи…
На круглый стол посреди ресторана взбирается упитанный студент с бритыми щеками и тонкими усиками; читает свой «экспромт»:
Таких минут душевного восторга,
Как нынче, я давно не испытал;
Сегодня, в звуках вдохновенных песен,
Я старое студенчество узнал.
Мы убедились все, что единенье
В сердцах студенческих живет;
Из этого святого убежденья
Источник сил и вдохновенья
На будущее каждый обретет[129]129
В. В. Стратонов не совсем точно передает текст стихотворения О. Я. Пергамента «К студенчеству», которое записал в дневнике 1 декабря 1888 г.:
Таких минут безумного восторга,Как нынче, я давно не испытал;Сегодня в звуках вдохновенных песенЯ старое студенчество узнал.Мы убедились все, что единеньеВ сердцах студенческих живет;Из этого святого убежденьяОгонь божественного вдохновеньяНа будущее каждый почерпнет.Тебя приветствую, пора свободы,Стремлений светлых, чести и добра,Цвети счастливо долгие ты годы.Я пью за здравие твое. Ура! (НИОР РГБ. Ф. 218. Карт. 1068. Ед. хр. 3. Л. 133).
[Закрыть].
– Ур-ра! Качать его!
Все были достаточно пьяны, и упитанный студент стал взлетать к потолку.
Это был О. Я. Пергамент, в будущем член Государственной Думы, заставивший одно время поговорить о себе в России. О нем ниже еще будет несколько слов.
Граф И. Д. Делянов
Осенью 1889 года провинциальные университеты объезжал министр народного просвещения Иван Давидович Делянов. Говорили, что он расхрабрился на объезд вообще неспокойных в ту пору высших школ для того, чтобы демонстрировать таким способом Александру III достигнутое им умиротворение студентов.
По поводу его приезда полиция приняла разные меры предосторожности в отношении менее надежных студентов и не без основания: отношение студенчества к министру отнюдь не было дружелюбным.
Вот министр и в университете! Маленький человек – юркий, несмотря на старость. Типичный горбатый армянский нос и полная лысина. В вицмундире со звездами.
Делянов посетил, сопровождаемый свитой университетского начальства, несколько лекций. Обращался в малолюдных аудиториях – многие студенты воздержались от посещения при этих обстоятельствах лекций – с речью к слушателям. Он шепелявил, плохо выговаривая слова:
– Вам надо учича, учича и учича! Ваши родители пожакладывали, чтобы вы училиш, швои шеребряные ложки…
Министру попался на пути наш педель с мефистофельским лицом, отмечавший номера вешалок со студенческими фуражками. Педель нарядился в новый черный сертук. Должно быть, Делянов принял его за профессора. На почтительный поклон министр пожал ему руку.
Педель несколько дней сиял, точно вычищенный самовар. А студенты издевались:
– Вы теперь до самой смерти руки не будете мыть! Почему? Чтобы не смыть пожатия министра…
В общем студентами было проявлено к Делянову равнодушие. Кое-где в аудиториях и в коридорах ему посвистали, но это было пустяками.
В результате сошедшего благополучно объезда И. Д. Делянов получил графский титул. В студенческой песенке стали петь:
Где сыскать таких болванов,
Как министр наш граф Делянов?
А вслед затем у нас вспыхнули серьезные беспорядки.
Беспорядки 1889 года
«Нет больше двоек!» Далее пояснялось, что весьма успешно репетирует неуспевающих учеников студент Ярошевич, адрес которого такой-то.
Это объявление, появившееся в самой распространенной в Одессе газете «Одесский листок», имело неожиданно серьезные последствия.
Многих студентов такая самореклама шокировала. Ее сопоставляли с классическим объявлением:
– Нет больше клопов!
В курилке возникли по этому поводу весьма оживленные разговоры.
К тому времени среди нашего студенчества образовалась немногочисленная, но сплоченная группа крайнего правого направления. Это был зародыш будущих «студентов-академистов»[130]130
Так называли студенческие монархические организации, возникавшие в высших учебных заведениях с 1901 г., которые выступали против политической деятельности, забастовок и срыва занятий студентами.
[Закрыть], членов «Союза русского народа» и пр. Такие организации стали возникать в конце царствования Александра III, вследствие усилившегося спроса со стороны правительства на проявление реакционности.
Наша группа правых студентов, пользовавшаяся со стороны начальства не только тайной, но и явной поддержкой, состояла по преимуществу из бессарабских дворян. Из ее же недр вышел, бывший на несколько выпусков моложе меня, известный впоследствии своими выходками член Государственной Думы Пуришкевич. К этой же студенческой группе принадлежал и автор нашумевшего объявления – Ярошевич.
Правая группа приняла его под свое покровительство. И вдруг среди студентов поползли слухи, будто эта правая группа студентов, в отместку за нападки на Ярошевича, отправила непосредственно в министерство донос. В доносе будто бы жаловались министру на то, что студенты евреи мутят, мешая правильной академической работе патриотически настроенных студентов. Слухи указывали даже и фамилии «смутьянов» евреев, включенные в отправленный в министерство донос.
Откуда поползли слухи? Как будто проболтались некоторые из менее сдержанных на язык правых студентов – в своих похвальбах… Слухам этим, впрочем, мало кто склонен был верить: слишком это казалось чудовищно нелепым.
А они внезапно подтвердились!
Получилось распоряжение министра народного просвещения об исключении из университета около двадцати студентов евреев, как раз тех, которых называли не внушавшие доверия слухи. Между ними был и мой однокурсник и близкий товарищ талантливый математик В. Ф. Каган[131]131
Ср. с дневниковой записью В. В. Стратонова от 18 сентября 1889 г.: «Дело происходило так: один студент, математик IV курса, по фамилии Ярошевич, личность к себе не располагающая, напечатал в газете следующее объявление: “Нет больше двоек! Студент, применяя новейшие научные методы педагогики, исправляет самых ленивых учеников и внушает им любовь к наукам и занятиям; за успех ручается. Университет, Л. И. Ярошевичу”. На это безобразное объявление обратил внимание фельетонист “Одесского листка” Оса (Фрейденберг) и поднял на смех в своем фельетоне Ярошевича, сравнивая это объявление с аналогичным: нет более клопов etc. Ярошевич, не посоветовавшись ни с кем из людей более или менее умных, в ответ напечатал письмо в газете “Новороссийский телеграф”, газете с крайним юдофобским направлением, в котором нападает на личность Осы, не давая толковых возражений. “Одесский листок”, орган крайне юдофильский, отстреливается опять письмом, подписанным студентом Вортом, одним из самых несимпатичных студентов университета, в котором (письме) Ворт разражается руганью против Ярошевича» (НИОР РГБ. Ф. 218. Карт. 1068. Ед. хр. 3. Л. 223–224).
Вслед за этим «Новороссийский телеграф» напечатал письма еще двух студентов, один из которых, рассуждая об антисемитизме, утверждал, что им «заражен и Запад», от него «не могут отделаться и люди зрелые, взрослые; чего же требовать от студентов?» Тогда же в ресторане Брунса кутившая компания с участием Ярошевича, заметив вошедшего в зал еврея-студента, стала кричать «Долой жида!», о чем тот пожаловался в университет. Все это «сильно возбудило» противоборствующие «партии», причем Стратонов, полагая, что нельзя разделять студентов по национальности, хотя и дружил со своим однокурсником В. Ф. Каганом (когда некий Хвития назвал его «жидом», он демонстративно прекратил с ним общаться), тем не менее еще 5 февраля признавался в дневнике: «Каган предложил мне зайти в то семейство, где он живет, – семейство еврейское, но я, благодаря своему юдофобству, не мог пересилить себя и не зашел» (Там же. Л. 164). Поскольку же из‐за избиения еврея правление университета затребовало у студентов письменные показания, Ярошевич и его сторонники заявили, что «еврейство одолело студентов, евреи постоянно мутят, возбуждают к непозволительным проступкам, укрывают в своей среде различных подлецов и пр., и пр., а потому в высшей степени желательно, чтобы евреи не принимались сверх процентной нормы». В итоге, возмущался Стратонов, «последовало распоряжение министров народного просвещения и внутренних дел об удалении 13 человек из университета и о высылке их из градоначальства», и 18 ноября исключенных студентов, включая Кагана, «заставили дать подписку о не входе в университет» и выезде в течение трех дней из Одессы (Там же. Л. 234–235).
[Закрыть].
Гром грянул неожиданно! Исключили безо всякого видимого повода, без проверки вины, даже без какого-либо конкретного обвинения.
Это исключение своей явной и вопиющей несправедливостью не могло не всколыхнуть студенчества. Оно действительно взволновалось, страсти разгорелись.
Назначили, как принято было, общеуниверситетскую сходку в курилке.
Студенты начали собираться. И вдруг произошел небывалый у нас факт:
В курилку входит помощник инспектора – старик Маньковский…
Кричащее нарушение традиций! Инспекция никогда не входила в курилку, когда там находились студенты. Это был неписаный, но соблюдавшийся закон. Единственное исключение составлял служитель инспекции Феофан. Он заведовал раздачей студентам писем, получавшихся на университетский адрес. Конечно, Феофан был и оком инспекции, но оком не слишком зорким… К тому же он занимался, между прочим, выдачей мелких ссуд студентам – хотя и за лихвенные[132]132
Лихвенные (устар.) – очень большие, ростовщические.
[Закрыть] проценты, но на простом доверии. Его, однако, не обманывали, и ему едва ли хотелось портить доносами свои банковые операции со столь выгодными клиентами. Во всяком случае, Феофан помещался со своей конторкой в первом малом зале курилки и никогда не рисковал проникать во второй, главный, зал, где обыкновенно происходили сходки.
И вот этого бедного старика Маньковского начальство командировало на столь неприятную для него миссию…
Медленно, провожаемый взглядами студентов, ничего хорошего не предвещающими, проходит Маньковский вдоль стены… Зачем? Объявления незаконного, что ли, ищет?
Доходит он до двери в уборную. Остановился, подумал… и вошел.
Дзинь!
За Маньковским заперли дверь на ключ. Старик оказался арестованным в клозете. Бедняге там пришлось просидеть все долгое время сходки. И начальство, его пославшее, на помощь ему не пришло. Кричал, стучал в дверь кулаками… В ответ только раздавалось:
– Тише, Маньковский!
Сходка открылась. Возбужденная, страстная… Оратор за оратором взвинчивают настроение. Решают послать делегатов к ректору для объяснений.
Делегаты отправляются.
Полчаса… час… Делегатов нет.
Подбегают два студента:
– Стратонов, посмотрите, Феофан что-то записывает!
Почему-то я решаю, что моя обязанность вмешаться. Подхожу к Феофану; за мной – целая толпа…
– Что это вы записываете?
Феофан захвачен врасплох: в руках у него бумажка…
– Дайте мне вашу записку!
Испуганный, побледневший, как стена, Феофан оглядывается… Кругом зловещие лица…
Безропотно протягивает записи. Читаю: действительно записаны разные фамилии. Рву бумажку на клочья.
– Не советую вам это повторять[133]133
Вскоре после этого Феофан был уволен от службы. Очевидно, не оправдал поручения.
[Закрыть]…
Студенты волнуются из‐за отсутствия делегатов. Что с ними? Уже полтора часа…
Вскакивает на скамью маленький, нервный Иванов:
– А что, господа, если делегаты и совсем не вернутся? Что, если их арестовали?!
Нервность растет… Некоторые ораторы требуют более не ждать, а немедленно приступить к началу беспорядков. Другие, в их числе я, решительно возражаем против беспорядков: нам надо спасти исключенных, а беспорядками мы не только им не поможем, а увеличим еще их число. Другими способами надо действовать…
Но вот и делегаты! Долгие их переговоры с ректором, а ректора по телефону с другими властями, – ни к чему не привели. От ректора они вернулись ни с чем[134]134
Ректор С. П. Ярошенко был из‐за этих беспорядков вскоре лишен ректорских обязанностей.
[Закрыть].
Горячие ораторы еще энергичнее требуют начать беспорядки. Мы, возражающие, требуем голосования. Подавляющее число рук поднимается за беспорядки…[135]135
Ср. с дневниковой записью В. В. Стратонова от 6 декабря 1889 г. о событиях 20 ноября: «Наконец, кто-то, кажется Попов, предложил идти на традиционную площадку перед актовым залом и этим начать волнения. Уже двинулись было, но я громко стал останавливать, взошел на скамью и советовал сделать сначала все возможное для облегчения их [исключенных из университета] участи, а в случае неудачи начинать беспорядки. Меня поддержали другие, и на один час удалось остановить волнения. Отправили депутацию к ректору из студентов Иващенко, Солухи и Титорова (перешедшего открыто на сторону героев трактиров) для выяснения вопроса и выражения настроения духа студентов. Все это время партия доносчиков держалась тихо, не препятствуя движению. Через полчаса депутация вернулась. Ничего положительного она не сообщила. Ректор говорил много, но, по своему обыкновению, вилял. После новой речи Иващенко, изложившего результаты этих переговоров, Попов предложил идти на площадку, что и было исполнено. Вышло больше 200 человек, в курилке лишь осталось человек 50–60 представителей баши-бузуцкой партии» (НИОР РГБ. Ф. 218. Карт. 1068. Ед. хр. 3. Л. 235–236).
[Закрыть]
Значит, решено!
Теперь открываем уборную. Выходит Маньковский… С опущенной, нервно трясущейся головой, бледный, пропускается он сквозь строй возбужденных студентов. Пронзительные свистки, шиканье[136]136
Вслед за этим Маньковский вышел в отставку.
[Закрыть]…
Всей гурьбой отправляемся на традиционное место беспорядков – площадку вестибюля.
Крики:
– Ректора! Ректора!!
Из коридора, после прервавшейся лекции, выходит милейший профессор Н. А. Умов. Он сильно взволнован. Подходит к студентам, пытается говорить… Но его знают лишь свои, математики. Большинство студентов заглушает его слова резкими выкриками.
Махнув рукой, Н. А. нахмуренный уходит. Догоняю его:
– Николай Алексеевич, что вы хотели сказать студентам?
– Да, помилуйте, что они делают! Сколько будет новых, вовсе не нужных жертв…
– Я так же думаю. Пойдем назад, попробуйте, Николай Алексеевич, еще раз высказаться!
Поднимаюсь на стул и, добившись тишины, объясняю студентам других факультетов, как все мы, математики, уважаем Умова. Прошу поэтому его внимательно выслушать.
Н. А. поднимается на стул. Он пробует убеждать… Ничего не выходит, он снова должен умолкнуть. Уходит…
Продолжаются крики:
– Ректора!
Но ректор не появляется. Очевидно, и не придет.
Мы стоим на площадке уже часа два, оглашая своды безнадежными криками.
Внизу, в вестибюле, мобилизована вся инспекция и стоит внушительный отряд полиции. Говорили потом, будто в соседних дворах были и воинские части. Мы отрезаны от внешнего мира.
Голод начинает мучить не на шутку. Что же дальше делать? А сдаваться не хочется.
Предлагают устроить складчину для покупки провизии. Набросали в шапку денег. Кто пойдет покупать? Удалось подкупить одного из сторожей: берется раздобыть хлеба и колбасы. Первая партия провианта до нас доходит благополучно. Хлеб и колбасу делим на кусочки и жадно поедаем. Увы, когда сторож несет вторую порцию провианта, его перехватывает инспекция, и продовольствие конфискуется!
Однако день кончился. Совсем уже стемнело. А света нам не дают. Обе стороны уперлись… Что ж, будем, может быть, и ночевать здесь…
Но голод чувствуется вовсю. Становится явно бессмысленным упорствовать и безрезультатно взывать к ректору. Но что же еще можем мы сделать? Не ломать же здание!
Кто-то, наконец, спускается вниз – в роли парламентера. Объяснение с инспекцией и с полицией:
– Всем обещают свободный выход!
– Голосовать: оставаться или разойтись!
Поднятием рук решается:
– Расходиться!
Утомленные, голодные, подавленные сознанием бесплодности демонстрации – расходимся по домам.
Суд
Часть студентов арестуется в ту же ночь. Образуется особый суд. На другой же день и я получаю от него вызов.
Молва уже разнесла, что предстоит массовое исключение студентов и высылка их из Одессы. В числе предназначенных к исключению называли и меня.
С тяжелой душой шел я в этот суд. Получалась некоторая нелепость: я энергично восставал против этих заведомо бесцельных беспорядков, предвидя то, что неминуемо последует. Хотя я и пошел с другими, но я боролся против развития беспорядков… Далее, у меня была в полном ходу научная работа на обсерватории, и я пользовался добрым отношением к себе почти всех профессоров… И слишком, наконец, ярко всплывала в памяти та семейная драма, которою сопровождалось, несколько лет назад, увольнение из числа студентов и высылка в сопровождении жандармов из Москвы старшего брата Вячеслава. Для родителей это было страшным ударом. А брат, хотя после этого и устроился снова в Дерптском университете, но сильно расшатал свою нервную систему[137]137
Окончив гимназию в 1882 г., Вячеслав Стратонов учился в Московском университете, но за участие в беспорядках, происходивших 2 октября 1884 г. на Страстном бульваре, был уволен и выслан в Екатеринодар по месту жительства родителей под негласный надзор полиции, прекращенный в связи с поступлением его в 1885 г. на медицинский факультет Дерптского университета.
[Закрыть]. Заканчивая экзамены на доктора медицины, он, во время пасхальных вакаций, застрелился[138]138
Старший брат В. В. Стратонова покончил с собой 16 апреля 1889 г. выстрелом из револьвера. Докладывая 25 апреля о проведенном расследовании, помощник начальника Лифляндского губернского жандармского управления в Дерптском и Верроском уездах подполковник В. Л. Грумбков писал: «Университетский суд постановил передать на мое распоряжение все письма и бумаги покойного, и, по моему настоянию, вскрыты были письма умершего на имя Лидии Ивановны Стратоновой в г. Одессу, Новая улица, д. Казанской, и на имя студента Евгения Синицкого; в первом письме покойный просит прощения у тетки и родителей за свое преступное решение, но что он потерял всякое к себе уважение и сознает свое ничтожество; Синицкого же он просит переслать все вещи его к тетке и отвезти, к ней же, дорогую свою Лелю.
Приняв во внимание такие близкие отношения покойного к Синицкому, состоявшему некоторое время под негласным надзором, и что Стратонов лишил себя жизни в квартире состоящего под надзором Максимилиана Лесника, а также, получив негласно сведения, что прощальные письма написаны Стратоновым незадолго до смерти в квартире студента Университета Николая Василенко, я признал нужным немедленно же произвести обыски в квартирах Синицкого, Лесника и братьев Николая и Ивана Василенко, что и было мной исполнено в тот же день. Как по обыску, так равно и при подробном осмотре вещей и писем умершего обнаружено лишь, что Стратонов состоял в любовных отношениях к 14½-летней Елене Матюниной, дочери железнодорожного чиновника в г. Дерпте, чем и объяснилась загадочность некоторых записок, вроде: “Если я попадусь, будет мне беда великая”, написанная, как оказалось, женским почерком; эту любовь, при некотором нервном расстройстве, следует признать причиной самоубийства Стратонова. Синицкий, в свою очередь, состоит в любовной переписке со старшей дочерью Матюнина, проживающей также в г. Дерпте. Вследствие изложенного я не нашел данных для производства дознания и 21-го сего апреля возвратил Университетскому Суду все просмотренные мною письма и бумаги умершего, как не имеющие политического значения и совершенно семейного характера…» (Государственный архив Российской Федерации (далее – ГАРФ). Ф. 102. Оп. 87. 3 д-во. 1889. Д. 222. Л. 9–10).
Одно из упомянутых писем гласило: «Мама дорогая, отец! Простите своего сына за все страдания. Не плачьте обо мне. Я теперь спокоен и счастлив. Мне лучше будет. Исстрадался я и потерял к себе всякое уважение». В другом письме, адресованном тете, Лидии Ивановне Стратоновой, говорилось: «Дорогая, милая, поймите и простите. Я Вам писал, кажется, что как только потеряю веру в себя – этим кончается и жизнь моя. Время пришло. Я подавлен гнетом сознания собственного ничтожества. Вы обещали воспитать мою милую Лелю: ее к Вам привезут. Сделайте это в память обо мне. Пусть она избегнет моей участи. Только вера в свои силы спасает людей. Что я хотел бы, чтобы из нее вышло, Вы знаете, насколько Вы знаете меня. Простите еще раз. Успокойте родных, насколько это возможно. Вспоминайте иногда, как я Вас всех люблю». Самоубийца оставил также послания товарищам и Елене Ивановне Матюниной, которой писал: «Милая, дорогая моя Лелечка, прости меня за все страдания. Пусть мой конец даст тебе указания в жизни. Набирайся сил и с тем вступай в жизнь. Помни обо мне и верь, что жизнь стоит труда, не теряй только веру в себя и будешь счастлива. Твой Славочка. Прости. Г. Дерпт, 16.IV.89. Как я люблю тебя, дорогой мой Валдайчик» (НИОР РГБ. Ф. 218. Карт. 1068. Ед. хр. 3. Л. 180, 183). В свою очередь товарищ покойного, Е. Д. Синицкий (1866–1915), сообщал Лидии Ивановне (выписки из его письма Стратонов приводит в дневнике 12 мая), что покойный предъявлял к себе громадные требования:
«Он нарисовал себе идеал честного человека – тот идеал, которому почти никто не может удовлетворить, и жил во имя этого идеала. В осуществлении его он видел свое собственное достоинство. Всякие отступления в сторону ему казались преступлением. А отступления приходилось делать по “независящим обстоятельствам”. Приходилось иногда и покривить душой, смолчать там, где хотелось бы ответить прямо и открыто, не сделать того, что задумал. Кто был в этом виноват? “Независящие обстоятельства” – отвечаем мы. “Я” – отвечал покойный. И начиналась старая и страшная история самобичевания, терзаний совести, внутреннего разлада. Стратонову казалось, что он – преступник перед людьми, а главное, перед собой, что своего идеала он нисколько не осуществляет, что этот идеал для него недосягаем, а ведь во имя этого идеала он жил, в осуществлении его видел свое достоинство. Стратонов все более и более терял веру в себя, начинал чувствовать к себе презрение. ‹…›
Были, разумеется, и частные [причины]. Одна из главных – любовь Вячеслава Викторовича и Лели. (Слава смотрел на брак как на самоубийство для того, кто хочет посвятить себя общественной деятельности.) ‹…› Любовь, по его мнению, отрывала человека от его идеалов, связывала ему руки. А он, между тем, влюбился. Новый разлад и новые мучения… Слава сначала верил в Лелю, но иногда и эта вера покидала его…. По временам в отзывах о Леле слышалось разочарование… Ему казалось, что не Леля, а сам он вяжет себе руки и поступает нечестно, нехорошо под влиянием своей негодности.
Вот главные причины душевных мук Стратонова. Как они были страшны, это скажут все, кому случалось видеть его, особенно в последнее время. Стратонов страшно исхудал, стал раздражителен, не владел собой. Дня за два до смерти с ним начались нервные припадки, истерики, дрожь. Он поселился у своего знакомого доктора [М. Лесника], с которым занимался в последнее время. Тот ходил за ним, давал успокоительные лекарства. Последние минуты Стратонова были таковы: утро пролежал в постели; вечером зашел к Леле, почти кончил дело об ее отъезде [к Лидии Ивановне], затем зашел ко мне, еще к нескольким товарищам, потом пришел к доктору, у которого он поселился, и стал ходить по комнате, закурив папиросу. Доктор сидел за столом и занимался. “Какой у вас крепкий табак”, – заметил он Вячеславу Викторовичу. – “Извините”, – проговорил Стратонов и швырнул папиросу. – “Какой вы стали нервный, совсем не владеете собой”, – сказал доктор. – “Я не владею собой? Так я вам докажу, что владею”, – ответил Стратонов. Доктор обернулся и увидел, что Стратонов стоит возле него с револьвером, направленным в грудь. Прежде чем доктор успел произнести хоть одно слово, сделать хоть одно движение, раздался выстрел. Смерть была моментальна. Покойный стрелял, как медик, прямо в сердце» (см. также: Василенко М. П. Вибрани твори: У 3 т. Киïв, 2008. Т. 3. С. 183–185).
[Закрыть]. Самоубийство старшего сына совсем подкосило моих родителей… А теперь – новая драма со мною – последним сыном!
Шел я через Строгановский мост, – излюбленное в ту пору в Одессе место для самоубийств. Бросались с большой высоты, с парапета, вниз на мостовую и всегда разбивались насмерть.
Был большой соблазн и у меня, когда я проходил по мосту самоубийц.
Вот и университет! В тускло освещенной комнате уже ожидали допроса десятка два студентов. Хмурые, молчаливые… Разговоры не завязываются, каждый углублен в свои мысли.
Вызывают по очереди. Вызванные более сюда не возвращаются…
Дошла очередь и до меня.
За столом с синим сукном восседает судилище. В его составе – все правление университета, инспектор студентов и еще кто-то из посторонних властей. Видно сразу, что главную здесь роль играет инспектор студентов Балдин – старик с недобрым лицом и с трясущейся головой.
– Участвовали ли вы в беспорядках?
– Да, участвовал.
– Сочувствовали ли вы?
– Нет. Я высказывался на сходке против них.
Пауза. Справки в записях. Мои слова, как видно по лицу справлявшихся, подтверждаются.
– Почему же вы примкнули к беспорядкам?
– Не находил возможным оставить товарищей.
Вмешивается Балдин:
– А зачем вы переходили от толпы студентов к профессору Умову?
Объясняю, как было дело.
Снова справляются в записях… Я жду рокового для себя вопроса: об отобрании мною агентурных записей от Феофана…
Нет, не спрашивают. Очевидно, Феофан не выдал!
Еще несколько незначительных вопросов… Шепчутся… Инспектор указывает мне на одну из двух выходных дверей.
За дверьми стоит педель с мефистофельской физиономией. С чем-то поздравляет…
Позже выяснилось: в одни двери выпускались исключаемые и высылаемые из Одессы; в другие – подлежащие более мягким наказаниям. Вот, оказалось, с чем поздравлял педель![139]139
Ср. с дневниковой записью В. В. Стратонова от 6 декабря 1889 г. о «допросе» его 21 ноября (накануне «встретившаяся группа студентов» и профессор А. К. Кононович, к которому он зашел с А. Р. Орбинским, уговаривали их «давать уклончивые, не прямые ответы»):
«Вызывают и меня. Правление состоит из ректора, инспектора, деканов. Вхожу, кланяюсь.
Ректор: Скажите, вы были вчера в университете до какого времени?
Я: Все время, т. е. от 9 до 4-х часов.
Р[ектор]: Почему же вы оставались?
Я: Потому что перспектива быть оплеванным и получить вдогонку нелестные эпитеты не настолько заманчива, чтобы можно было выйти.
Богдановский: Неужели доходило даже до этого?
Я: Да, насколько мне помнится. Относительно плевков, впрочем, не ручаюсь.
Ректор: Так что вы оставались только потому, что не видели возможности уйти?
Я: Да, пожалуй.
Инспектор: Скажите, значит вы этим хотели подвергнуть критике распоряжение министра?
Я: Насколько это следует из факта моего присутствия.
Ректор: А сочувствуете ли вы беспорядкам?
Я: В этом я еще сам себе не давал ответа. В начале же я, пожалуй, был против беспорядков.
Инспектор: Скажите, а зачем вы несколько раз переходили от группы студентов к проф. Умову и обратно?
Я: Для переговоров с проф. Умовым.
Инспектор: О чем же?
Я: Я просил проф. Умова повторить студентам еще раз слова попечителя.
Ректор предлагает желающим членам правления задать вопросы, но таковых не оказывается. И я отпускаюсь даже без взятия подписи о невходе в университет.
Итак, я несколько сподличал во второй раз в жизни; в первый раз дело было по поводу истории с экзаменом по истории в гимназии. На этот раз я, пожалуй, и не сказал неправду, но я сказал и не всю правду. Мне стыдно вспомнить, что, когда я вышел, ко мне подошел помощник инспектора Прохоров и поздравил с благополучным окончанием допроса» (НИОР РГБ. Ф. 218. Карт. 1068. Ед. хр. 3. Л. 236).
[Закрыть]
Бессонная ночь – незнание своей судьбы. Неизвестность мучительна. Утром пошел за справками в университет[140]140
Неточность: 23–24 ноября 1889 г. В. В. Стратонов не появлялся в университете, о чем писал в дневнике: «Около часу [22 ноября], усталый, я вернулся домой, но все-таки для развлечения мыслей принялся за работу. Через четверть часа приходит ко мне Цветинович, посланный, очевидно, Кононовичем, и начинает меня уговаривать не губить себя, пожалеть родителей, etc., etc. Он-де знает, что инспекция считает меня вожаком, что я все время бродил возле университета (донесение шпионов) и пр. Ввиду этого он пришел взять с меня слово, что я не пойду на другой день, в четверг, 23-го, в университет. Дал я ему это слово и на другой день был лишь возле университета, не заходя в оный» (Там же. Л. 240).
[Закрыть]. Справиться, однако, не у кого. Но в профессорской комнате декан юридического факультета проф. Богдановский. Он был вчера членом суда. Прошу его вызвать:
– Скажите, пожалуйста, как на суде решили мою судьбу?
– Вы не исключены! Но постановлено объявить вам выговор за участие в беспорядках, с предупреждением на будущее время.
– Почему так мягко?
У меня это вырвалось как-то невольно: я почувствовал неловкость по отношению к другим, наказанным суровее.
Богдановский посмотрел на меня сквозь очки. Пожал плечами:
– За вас хлопотали профессора вашего факультета, как за преднамеченного к оставлению при университете. Ну, кроме того, было принято во внимание ваше происхождение из уважаемой семьи…[141]141
Неточность: разговор с А. М. Богдановским, «хорошим знакомым отца», произошел 25 ноября, см. дневниковую запись В. В. Стратонова от 7 декабря 1889 г.: «В пятницу я был болен, а в субботу прихожу на утреннюю лекцию. Все, кто меня видит, широко раскрывают глаза. Оказывается, разнесся слух, что я исключен в числе других. Отправляюсь к декану юридического факультета Богдановскому. Спрашиваю о своей участи – приговорен к выговору с подпиской, что, в случае чего, буду немедленно исключен. Всего исключено 38 или 40 человек… “Почему же со мной так снисходительно поступили?” – “А потому, что вы из хорошей семьи, молоды, инспекция дала благоприятный отзыв… А вы недовольны, что вас не исключили?” – “Недовольным быть нельзя, но это ставит меня в двусмысленное положение относительно товарищей”. Поговорили еще, и я ушел. На другой день, 26 ноября, узнаю, что я-де подал заявление в правление о недовольстве незначительным наказанием» (Там же).
[Закрыть]
Богдановский возвращается в профессорскую:
– Удивительное, господа, дело: Стратонов заявил протест против слишком мягкого, по его мнению, наказания!
Отсюда пошло по университету, будто я протестовал, что меня не исключили.
Обо мне и о моем друге А. Р. Орбинском усерднее всего хлопотал, как позже мы узнали, профессор астрономии А. К. Кононович. Мы оба были уже золотыми медалистами за работу по астрономии.
Кононович связал Балдина честным словом – не настаивать на нашем исключении. Поддержали нас и другие профессора факультета.
Поднимаюсь после разговора с Богдановским наверх, в курилку. Студентов здесь мало, человек шестьдесят. Тихо, нет обычного оживления.
Видна и кучка студентов правой организации. Они, было, исчезли из университета, во время горения страстей. Теперь осмелели и снова появились в курилке.
Меня встречают с широко открытыми глазами – считали для университета уже конченым.
Не успел я обменяться со студентами и несколькими словами, как на скамью вскакивает какая-то горячая голова:
– Господа! Студенчество разгромлено! Сотня наших лучших товарищей арестована или исключена! И что же, мы так и примем это молча? Не поддержим, не заступимся за них? Разве мы не будем протестовать!?
– Нет! Нет! Поддержим!
– Протестовать! Протестовать!!
Оратор призывает к немедленному возобновлению беспорядков.
Несколько десятков студентов снова бросаются на площадку вестибюля.
В зале остается только кучка правых студентов. Они иронически улыбались на призывы оратора.
Для меня – положение неожиданно трудное. Опять участвовать в беспорядках? Но не оставаться же в курилке и одному с правыми студентами, виновниками всего происшедшего… Иду также на площадку[142]142
Мемуарист путает последовательность событий, так как в дневнике пишет о событиях 22 ноября 1889 г. следующее: «На другой день часам к 10½ подхожу к университету, но никого не встречаю из числа получивших запрещение на вход. В университете та партия в полном составе расхаживает с геройским видом и поднятыми головами, готовая противодействовать беспорядкам. Меня сейчас же окружила толпа студентов нашей партии. Я предлагал многим прямо, в виде демонстрации, выйти из здания университета, чтобы показать, что не только получившие запрещение входа были зачинщиками. Часов в 11 зашел в находящуюся возле университета молочную и, посоветовавшись с находившимися там товарищами из числа “запрещенных”, отправился вновь в здание с одним студентом, чтобы провести свою идею и оставить героев одних в курилке. Но около 12 часов поднялся один студент и из тех же мотивов предложил идти вновь на площадку. Его поддержали второй, третий, и мы вновь двинулись. Однако, придя на площадку, мы увидели, что нас вышло лишь человек тридцать, да и из этих человек пять сейчас же вернулись назад. Такой группе, конечно, нечего было делать, и я предложил, чтобы не погубить этих 25, выйти сейчас из здания. Мне некоторые возражали, образовалась возле толпа, в центр которой попал я. Пришла инспекция, осмотрев и заметив всех. Инспектор ‹…› прошел дальше, а помощник Прохоров стоит за спиной и слушает, а прогнать его нельзя. Постояли так с четверть часа, и я с Огаджановым, кажется, вышел опять в молочную. Застал там много товарищей. Через несколько времени появляется студ[ент] Попов в сопровождении околодочного надзирателя. Оказывается, что его схватили на улице. Позавтракал и отправился в тюрьму. В этот же день были арестованы студенты Зозулинский, Лосятинский и Заболотный. Тем временем в университете Ярошевич собирал подписи студентов; говорят, для поднесения сочувственного адреса начальству… Сойдя с площадки, инспектор заявил Кононовичу, что берет свое обещание назад относительно меня и Орбинского, обвинив меня, что я-де сегодня являюсь вожаком и коноводом, несмотря на вчерашний допрос» (Там же. Л. 239–240).
[Закрыть].
Ничего из этих беспорядков не вышло. Напуганное студенчество, сидевшее на лекциях, нас не поддержало, не присоединилось. Наша группа немного и безрезультатно покричала, а затем мирно разошлась.
К вечеру приходит ко мне астроном-наблюдатель обсерватории Н. Д. Цветинович:
– Профессор Кононович вами страшно возмущен. Его встретил сегодня в университете Балдин и говорит: «Я беру назад данное мною вам слово, что Стратонов не будет исключен! Он сегодня опять участвовал в беспорядках». Теперь Кононович послал меня к вам. Я обязался не уходить от вас, пока вы не дадите честного слова… Вы должны обещать, что не будете посещать университета, пока там все не успокоится.
Цветинович просидел у меня, пока не получил этого обещания.
Затем приходит ко мне мой товарищ Огаджанов:
– Как, ты дал такое обещание? Как же можно было его давать!
Спустя несколько дней, вызывают меня повесткою в инспекцию. Ведут в кабинет к Балдину. Старик смотрит на меня злыми глазами и сурово трясет головой:
– Вы не исключены совершенно, но вам объявляется выговор! Распишитесь вот здесь в его получении…
Расписались? Так! Теперь вот что: вам нельзя более оставаться в нашем университете! Вы пользуетесь большим влиянием среди студенчества. Это вас связывает. Легко может случиться, что, даже против своего желания, вы будете вовлечены в какую-нибудь историю. Да это с вами уже и случалось… А тогда вы будете уже немедленно исключены!
Более того, вы будете исключены за малейшую неисправность с вашей стороны. Ну, вот вам, если хотите, пример: если у вас пуговица на сертуке окажется пришитой не по форме… Тогда с вами и кончено! Поэтому в ваших же интересах я настаиваю, чтобы вы немедленно перешли в другой университет. Всего хорошего!
Выслушал я его молча. Целый день раздумывал над этим предостережением. Уйти – в научном отношении было бы для меня катастрофой. Здесь моя работа налажена на обсерватории. Меня хорошо знают все профессора… А начинать в другом месте все с начала…[143]143
Ср. с дневниковой записью В. В. Стратонова от 7 декабря 1889 г.: «Сегодня в 11 часов являюсь к инспектору. Он обращается ко мне со словами следующего приблизительно содержания: “Правление уполномочило меня сделать вам строгий выговор за участие в беспорядках. Вы себя в них очень сильно скомпрометировали, и вас, по справедливости, следовало бы уволить вместе с остальными. Но к вам отнеслись снисходительно, щадя ваших родителей, и я, например, не делал вам таких вопросов, которые могли бы вас погубить. Например, я вас не спрашивал относительно требования, с которым вы обратились к помощнику инспектора, вместе с несколькими товарищами, требуя отдать вам хлеб. Правление поручило взять с вас подписку, что, в случае малейшего нарушения университетских правил или малейшего проступка, вы будете немедленно уволены. Но, так как вы поставлены в такие отношения к вашим товарищам, что не сможете не провиниться, правление, желая дать вам возможность окончить образование, официально рекомендует немедленно перейти в другой университет. Я, со своей стороны, лично советую вам сделать то же, ибо иначе вы будете неминуемо уволены, – а теперь потрудитесь подписать имя, отчество, фамилию и число”. На мой вопрос, какие проступки мне будут вменены в вину, он сообщил: “Вы будете уволены за нарушение, например, формы, за неотдачу чести и пр.” Я заявил, что все-таки, вероятно, останусь; он повторил совет, взял подписку и поклонился в знак окончания аудиенции. Вышел я положительно ошеломленный этим ударом. Бросить вместе с Одессой все мечты об оставлении при университете и работе на медаль, бросить все, с чем свыкся за 2½ года, слишком тяжело. ‹…› Итак, аминь той студенческой жизни, которую я вел до сих пор. Теперь надо смириться, подличать, чтобы окончательно не погубить свою жизнь. Я-то выбьюсь как-нибудь, а вот родителей жаль, особенно ввиду тягчайшего их удара со Славочкой» (Там же. Л. 242).
[Закрыть]
Нет, сдаваться не хочу. Пошел еще переговорить с ректором, с нашим симпатичным С. П. Ярошенко.
Ласковый прием:
– Вас вовсе не удаляют из университета насильственно. Этого, конечно, нет! Инспектор студентов говорил это лично от себя. Но все же вы должны хорошо сознавать, что почва под вами сильно колеблется. Что простится другому – вам не простится. Сумеете вы пробалансировать на канате полтора года до окончания курса – ваше счастье! Не сумеете – сами понимаете, что будет…[144]144
8 декабря 1889 г. В. В. Стратонов советовался, переводиться ли ему в другой университет, с деканом физико-математического факультета Ф. Н. Шведовым: «Он, по своему обыкновению, сострил, но посоветовал дать слово ректору, что не буду бунтовать, и сдержать слово, так как он находит, что слово и подписка – не одно и то же. Затем отправился на аудиенцию к ректору. И этот стал острить. Уверял, что меня не гонят и не неволят уходить, но что под моими ногами почва очень сильно колеблется; если поэтому я надеюсь, что сумею “балансировать”, то ничто мне не мешает остаться, но он все-таки находит, что для меня выгоднее убираться» (Там же. Л. 243). Поговорив 9 декабря на ту же тему с А. К. Кононовичем, Стратонов, не приняв никакого решения, уехал 18 декабря на каникулы в Екатеринодар, где отец сурово отчитал его за неповиновение начальству.
[Закрыть]
Решил оставаться.
Начались высылки полицией арестованных и исключенных. Большой произошел у нас погром! Пострадало почти сто человек. Теперь в университете всего-навсего осталось около четырехсот студентов.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































