Текст книги "Другая наука. Русские формалисты в поисках биографии"
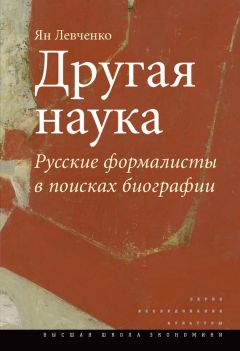
Автор книги: Ян Левченко
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 20 страниц)
И только Ложкину не спалось. Он невольно прослушал часть доклада. Заслуженный, но растерявшийся историк литературы с наигранной уверенностью убеждал, что все гоголевские типы делятся на небокоптителей чувствительных, небокоптителей рассудительных, небокоптителей активных и небокоптителей комбинированных» [Там же, с. 265–266].
Пародийность романа, на фоне которой выделяется почти прямое цитирование литературной личности, созданной Шкловским в автобиографических повествованиях (имеется в виду «Третья фабрика»), особенно подчеркивается фигурой Драгоманова. В нем встретились черты друзей и коллег Шкловского, которые, по мнению Каверина, оставили его наедине со своей биографией. У Поливанова были позаимствованы гениальность ученого-лингвиста, пристрастие к опиуму и безрукость, трансформированная в хромоту; у Тынянова – несогласие с халтурами и стремлением «уступить давлению времени»; у Эйхенбаума – имя (Борис) и обостренное «чувство истории»[147]147
Ср. реакцию Драгоманова на истерику Некрылова: «Ну, милый, милый, брось, чего там… Наше время еще не ушло. Живыми мы в сейф не ляжем» [Каверин, 1977, с. 315].
[Закрыть].
Впрочем, из всех аллюзий откровенно комична лишь отсылка к Роману Якобсону, отличавшегося, как известно, заметным косоглазием: «Борис Драгоманов смотрит на меня одним глазом, – говорит Некрылов на вечеринке, устроенной по случаю его приезда. – Другой он оставил в резерве. Он шутит» [Там же, с. 313]. Эта вечеринка и предшествующий ей литературный вечер, в котором спонтанно участвует Некрылов, является контрапунктом романа, стягивающим линии внешнего конфликта Некрылова с литературной средой и его внутреннего конфликта с Драгомановым. Здесь в исполнении одного из подвыпивших аспирантов звучит шуточное стихотворение, репрезентирующее одновременный комизм и трагизм Некрылова и тем самым обнажающее цель несмешной пародии на Шкловского.
Как замечают авторы статьи о прототипах романа, «“человеческие судьбы” и “личные отношения” в “Скандалисте” включены в литературный быт, но он дан не как у самого Шкловского, шедшего за Розановым, а именно как быт в традиционном социально-психологическом романе» [Чудакова, Тоддес, 1981, с. 177]. Каверин повел себя по отношению к Шкловскому в духе теории «литературных отталкиваний» Ивана Розанова, чьи принципы были через пятьдесят лет независимо сформулированы и развиты Харольдом Блумом в его классической работе «Страх влияния» (1973). Для автора «Скандалиста», погруженного в атмосферу литературности, опыт возвращения к традиционному психологизму был бунтом против сформировавшегося в его сознании формалистического канона.
Каверину не удалось представить Некрылова иначе, как героя плутовского романа, на метауровне «продергивающегося» через сюжет и служащего единой мотивировкой его развертывания[148]148
Одномерность и неполнота образа Некрылова корреспондирует с неполнотой в описании той роли, которую играл формализм в литературной и политической жизни второй половины 1920-х годов. По жесткому замечанию позднейшего критика, Каверин не менее страдал от самоцензуры, чем Шкловский, не раз удостаивавшийся его нелестных отзывов. В частности, в романе формализм трактуется лишь в противостоянии академической науке, хотя в это время «его приканчивали за противостояние марксизму» [Иванов, 2002, с. 210].
[Закрыть]. Раздражение Каверина растет по мере того, как текст, призванный высмеять героя, начинает обнаруживать зависимость от концепций его прототипа. Сыграла свою роль, вероятно, и память жанра, предписывающая герою плутовского романа выходить из любой затруднительной ситуации победителем. Другими словами, «эксцентрический герой» ранней прозы Каверина находит в «Скандалисте» свое наиболее осмысленное воплощение, встретив в Шкловском идеальное соответствие своей интеллектуальной сделанности [Костанди, 1987, с. 178].
Если Булгаков имел консервативный литературный вкус и наблюдал за современными течениями без особой симпатии (что в случае Шкловского усугублялось причастностью к киевским событиям), то Каверин проявил себя как разочаровавшийся ученик, уязвленный покровительственным отношением учителя и не сумевший отойти от обиды на необходимую дистанцию. Тема превосходства Шкловского, послужившего толчком к написанию «Скандалиста», становится для Каверина частым мотивом его многочисленных мемуарных книг, во многом повторяющих одна другую. Трудно сказать, насколько в этих самоповторах сказалось прямое влияние Шкловского, косвенное – со стороны Лидии Гинзбург или кого-нибудь еще. Мемуарному тексту свойственно недооценивать свои литературные возможности: так и Каверину-мемуаристу Шкловский представляется живым человеком (чуть-чуть не дотягивающим до вересаевского «Пушкина в жизни»), претензии к которому трансформируются, но не устаревают и не исчезают. Как справедливо замечает автор монографии о русской метафикции XX в., для позднего Каверина 1980-х Не Крылов окончательно слился со Шкловским и словно бы уступил ему свое место в романе, в результате чего реальный Шкловский вновь оказывается чисто фикциональным звеном, следствием обратной проекции романа на жизненный материал [Shepherd, 1992, р. 134].
Наряду с демонизацией и снижением персонажа в ряду примеров репутации Шкловского выделяется также чистая травестия, которая по своей природе ближе всего декларируемой самим Шкловским «внежалостности» искусства. Портрет Шкловского, выведенного Ольгой Форш в «Сумасшедшем корабле» (1931) под фамилией Жуканец, – это также портрет-конструктор, собранный из прямых или косвенных аллюзий на тексты своего прототипа. Учитывая год выхода романа, эта стилистическая игра выглядит вызывающе литературной, цеховой, а стало быть, несвоевременной. Форш избегает дежурных, замешанных на идеологии упреков по адресу своего героя. В фабульном времени эти речевые фрагменты, играющие «уликовую» роль, оказываются анахронизмами. Несмотря на то что в романе идет речь о временах военного коммунизма, совпавшими с расцветом ДИСКа, речь Шкловского-Жуканца наводнена отсылками не только к «развертыванию сюжета», но и к более поздней автобиографической прозе, и критике ЛЕФа. Автор вкладывает в речь персонажа то, что его прототипу еще предстоит сказать. Поспешность и противоречивость высказываний персонажа – следствие собирательной речевой маски. Этот диахронический портрет как нельзя лучше передает свойственную Шкловскому манеру перебивать самого себя (в том числе перекраивать когда-то сказанное).
Говорящая фамилия Жуканец не оставляет сомнений в том, что автор не слишком симпатизирует прототипу. Проворный жук отягощен суффиксом, актуализирующим эмоционально заряженные понятия от «молодца» до «засранца» включительно, и их карнавальная неразличимость здесь вполне принципиальна. «Юный» Жуканец сидит в своей комнате, естественно, «с малынтоком в руках» [Форш, 1988, с. 79]. Это намек на пребывание Шкловского в учениках скульптора Леонида Шервуда, причем явно маркирующий западничество первого (варваризм «малынток» вместо «кисть»). Тут же всплывает и другая линия: «Сохатый, я сердечный банкрот!», – восклицает герой, заставляя вспомнить ламентации Ц и укрепляя читателя в этом воспоминании дальнейшими жалобами о потере жилплощади в результате неудачного романа. Автор муссирует мотив символической схватки футуристов с Блоком, к которой Шкловский имел более чем косвенное отношение. Для Форш главное – это показать, насколько Шкловский и персонифицированный в его фигуре формальный метод близок русскому нигилизму: «Вырастая в полосе восприятий романтического, аналогичной той, когда молодой человек Писарев бранил Пушкина, Жуканец разбирал “сюжетно” и там, где сюжет был несказуем и в попытках его оформления зиял пустым местом» [Там же, с. 86].
Жуканец – Фауст пореволюционного мира, раздвоенный и не вполне понимающий себя. Его явная приверженность лозунгам производственного искусства уживается со скрытой, едва заметно выраженной тоской по романтической любви, умершей вместе с Блоком. «С ним кончилась любовь. Будут, конечно, возвращения, но так воспеть, как воспел ее он, никто уже не сможет и… не захочет воспевать. Эта страница закрыта с ним навсегда. И еще скажу – прочитанная вашим поколением поколению нашему она уже совсем не зазвучит» [Там же, с. 90]. Выраженная затем Жуканцем твердая уверенность в том, что все заменит коллектив, оказывается не столь уж твердой за счет этого «так» и мнущейся паузы между «сможет» и «захочет».
В продолжение актуальной для Шкловского-персонажа любовной темы в романе возникает аллюзия на неофициальный гимн ОПОЯЗа, который Каверин приводит в «Скандалисте»: «Любовь, как всякое явленье Я знаю в жанрах всех объемов, Но страсть, с научной точки зренья, Есть конвергенция приемов…» [Каверин, 1977, с. 316]. В игру намеками вовлекается предыдущий текст-посредник: «Любовь как личная склонность примет иную форму, и сила ее будет, не разрушая, не поглощая, только множить собою тонус жизни» [Форш, 1988, с. 91]. Здесь очевидна отсылка к витализму, который в своей упрощенной интерпретации сыграл большую роль в становлении мировоззрения формалистов.
В финале «Волны шестой» (главы романа названы «волнами») автор резко выводит повествование в плоскость настоящего, вновь обнаруживая себя в лучших традициях излюбленного Шкловским метаромана. Более того, это уже не просто метароман, его в незаконченном виде застает врасплох и начинает читать собственный персонаж. «Амба! – хлопнул на этом месте Жуканец по столику кулаком, пробегая черновик “Сумасшедшего корабля”» [Там же, с. 98]. Форш использует прием исторического контраста: «Жуканец уже больше не юный. Он издает свой том пятый, он прославлен, мастит». Это ироничная отсылка одновременно к двум книгам Шкловского: «Пять человек знакомых», целиком посвященной современной литературе, и «Гамбургский счет», пятой в ряду «кентаврических» книг Шкловского. Далее следует пассаж в духе рекламного клише, обыгрывающий поденную работу Шкловского в киноиндустрии: «Кто желает в наше сегодня, пожалуйте, скушайте символ-викторину. Вот он, послушайте-с! В антрактах культур-фильма “Научэкспедиция в тайгу” его распевают мальчишки».
Провозглашенная формалистами ориентация на биографию и проблему «как быть писателем» невольно подрывается описанием Горького в «Волне седьмой»: «Крупный, своенравный человек, он не хлопотал о собственной биографии» [Там же, с. 99]. Для Жуканца, который также больше печется о своей
биографии, а не о предмете занятий, «целая лекция по русской литературе» – это «скучно» [Там же, с. 114]. Захватывающие, писаные по другому поводу и вложенные в уста Сохатого слова о петербургском периоде русской литературы вызывают у него комичную реакцию: «Нет, я больше вместить не могу. <…> Давай заключение». В совокупности все это образует настоящий водоворот почти неупорядоченных, крепко увязанных с синхронной литературной ситуацией аллюзий. Буквальная реализация идей коллажа и варьете, выдвинутых прототипом Жуканца в Ц, доходит до гротеска и самопародии. Впрочем, этот буквализм далек от развенчания прототипа, скорее, речь идет о сгущении литературной мифологии, что еще было возможно на заре 1930-х годов.
Литературная репутация Шкловского в период расцвета и кризиса формальной школы – пример тесного взаимодействия литературы и быта, получающего в это же время теоретическое освещение в трудах первого и второго поколения петербургских формалистов (о нем подробнее см. главу XII). Так же как конструктивный принцип новой литературной формы создается за счет ошибок, выпадений системы из режима нормального функционирования, «литературная личность» сначала проступает как отклонение, объект высмеивания и носитель сатирического гротеска, который задним числом переосмысляется как доказательство влиятельности и мифогенности реального человека – прототипа литературной личности. Шкловский не дирижировал русской литературой 1920-х годов, но оказался лидером по части раздраженного интереса к своей персоне, которую так легко превратить в персонаж, тем более после СП и Ц, где граница между документом и фикцией пришла в движение, а главный герой был тем «падающим камнем», который освещал себе путь. Писателям, шедшим в фарватере Шкловского, оставалось только ввести «говорящее» имя и типологически узнаваемое поведение. Литературная репутация тянулась вслед за Шкловским в ответ на им же придуманную литературную личность.
Шкловский-персонаж остается в литературе и после выхода формальной школы из поля литературной современности. Но время Шкловского в этих текстах всегда одно и то же – это годы войны и революции, ранних статей ОПОЯЗа, литературной борьбы и острой полемики первой половины 1920-х годов. В пародийной, цитатной, насыщенной как общими местами, так и нестандартными контекстами «Повести о пустяках» (1934) Бориса Темирязева (псевдоним Юрия Анненкова) прослеживается путь авторского alter-ego Николая Хохлова из революции в эмиграцию. На этом пути ему (и читателю) пару раз попадается «крутолобый Толя Житомирский», не герой даже, но яркий и тотчас узнаваемый статист. Он комментирует «Воззвание к русскому народу» Николая II: «Стиль определяет собой содержание. <…> По существу, безразлично, что в данном случае подлежит анализу: этот идиотский манифест, Дон Кихот Ламанчский или “Тристрам” Стерна. Мы объявляем новый метод анализа, построенный…» [Анненков, 2001, с. 75]. Здесь используется уже упоминавшийся риторический обрыв – любимый самим Стерном апосиопезис, скрывающий за многоточием то, что требуется отгадать. Этот прием дополнительно структурирует отсылку к расхожим цитатам из ранних работ Шкловского. Его заместитель в повести Анненкова появляется еще несколько раз в качестве корреспондента главного героя и автора филологических брошюр, изданных в пореволюционном Петрограде. Правда, к этому моменту Житомирский как бы невзначай превращается в Виленского, Анненков множит аллюзии на еврейские местечки в западных губерниях. Завершенность исторического этапа обеспечивает условия для панорамного взгляда и меняет его масштаб. Вследствие этого Шкловский теряет черты, характерные для актуальной полемики. Его заместитель в тексте – это лишь яркий фрагмент исторической мозаики.
Новейшая русская литература продолжает вдохновляться драматическими событиями первой половины XX в. В романе Дмитрия Быкова «Орфография» (2003) в условно-фантасмагорической форме, наследующей цитатному модернизму Юрия Анненкова, рассказывается о революционном Петрограде рубежа 1910-1920-х годов. Быт, идеи, события даны через собирательного героя по имени Ять – символа старого мира, разом отмененного революцией и реформой орфографии (для Ятя последняя, конечно, куда более волнительна, чем любая революция). Десятки страниц объемистого романа, чей жанр сам автор определил как «опера», посвящены филологу Льговскому (привет Житомирскому и Виленскому). «Маленький, крепкий, лысый, весь в черной коже» [Быков, 2003, с. 268], Льговский создавал интересные теории, правда, «без божества, без вдохновенья» [Там же, с. 96]. Ять так и не осилил его статью «Проблемы структуры» (чего – не важно), но с неизменным интересом слушал его выступления в различных обществах и на диспутах, мастером которых Льговский заслуженно слыл. Об истории литературы он отзывается с узнаваемым пренебрежением. От эпохи революции ничего не останется так же, как от эпохи Ломоносова. «Да и мало фактов уцелеет, – говорил он, блестя глазами и посылая в разных направлениях заговорщицкие улыбки. – Никто не пишет прозы, и хорошо, если от этой эпохи останутся хотя бы дневники. Ведите дневники, это литература будущего! Проза действительно сейчас бессильна, ее напишут нескоро. Нельзя уже написать “Иван Иванович пошел”, “Антон Антонович сказал”… Мера условности превышена» [Там же, с. 123]. Быков намеренно радикализирует ориентацию Шкловского на современность. Его персонаж целиком принадлежит настоящему и часто говорит о будущем, беря за основу ранние тексты прототипа «Искусство как прием» и «Связь приемов сюжетосложения с общими приемами стиля» и постоянно срываясь в полемику: «Льговский не очень понятно заговорил о том, что комический эффект продуцируется в таких стихах помимо авторской воли и возникает по принципу средневекового карнавала, когда на место сакрального символа помещается символ непристойный. Он заметил также, что поэзия вообще не для чтения, не для услаждения приказчиков. <…> Поэзия существует для изучения» [Там же, с. 128–129]. Успевая всюду, как Шполянский у Булгакова, этот человек несколько анахронично организует в Петрограде кружок «Левей!» (ЛЕФ появится чуть позднее) и делает все, чтобы оставаться «знаком-Льговским, а не приват-доцентом Льговским» [Там же, с. 162], – намек на хроническое взаимное отторжение Шкловского и академической науки. Это и есть эпоха, удачно воплотившая свою энергию, вкусы, идеи, слова и жесты в одной фигуре. Ять не устает поражаться его мозаичному и парадоксальному мышлению, упоминая и крылатые формулы героя, и создателей его репутации – учеников и конкурентов, прямо указывая на Каверина: «Слово воскрешалось за счет низких жанров; высокого и низкого больше не было. Пафос не работал; работали ирония или полный наив. Еликберг говорила об этом подробнее, Льговскому было скучно развивать собственные теории. Он их раздаривал. Крошка
Зильбер смотрел ему в рот и все записывал, чтобы потом писать о Льговском гадости» [Там же, с. 585].
Литературная репутация Шкловского – следствие его собственной установки на слияние с литературой. Он не существует вне текста ни как бытовая, внесистемная единица, ни, тем более, как историческое лицо. Универсальный механизм пародии в большинстве рассмотренных текстов был средством усложнения критической рефлексии и одновременно способствовал созданию мифа о персонаже, научившемся не только описывать себя, но и программировать свою литературную репутацию.
Часть третья
Борис Эйхенбаум. Поиск себя в истории литературы
IX. Конструирование биографии. От устройства текста к строительству быта
В 1929 г. недавний студент восточного отделения Ленинградского университета Вениамин Каверин выпустил дебютный роман «Скандалист, или Вечера на Васильевском острове». В нем описывался ближайший круг молодого писателя – университетская и писательская среда, в первое пореволюционное десятилетие переживавшая бурный творческий расцвет. Ключевым персонажем романа был выведен Виктор Некрылов, переехавший в Москву ленинградский литератор, некогда влиятельный глава новой критической школы, мастер эпатажа и реформатор науки о литературе, а ныне генерал без армии, претендующий на лидерство, но слабый, запутавшийся, охваченный кризисом среднего возраста. В этом противоречивом виде Каверин вывел Виктора Шкловского, с которого началась так называемая формальная школа в русском литературоведении. Общество изучения поэтического языка (ОПОЯЗ) под началом Шкловского обратилось к строению словесного текста и средствам его выразительности, отдаляясь от академической истории литературы с ее путаными основаниями, стихийным психологизмом и биографическими спекуляциями. «Академики» отвечали «формалистам» высокомерной неприязнью, за которой маячила тоска по утраченному покою и страх перед небездарной и небезопасной молодежью.
Каверин достоверно воспроизводит это настроение: «…своим делом формалисты занимались с неприятной поспешностью, с мальчишеской развязностью и непостоянством. Мальчишки, которым революция развязала руки! Еще не справившись с магистерскими экзаменами, они меняли историю литературы на – смешно сказать! – синематограф. Слабые, но, быть может, не безнадежные теоретические рефераты они бросали для болтовни, для беллетристики. Они писали романы. Даже, кажется, стихи?» [Каверин, 1977, с. 255–256]. Для «традиционных» ученых, которых отчасти придумали сами формалисты, чтобы было с кем сражаться и от борьбы с кем подзаряжаться, они были «людьми падшими, покинувшими привычный, надежный академический круг для жизни бродячей, развратной, беспокойной» [Там же, с. 256]. Здесь еще один сквозной персонаж повествования профессор Ложкин, размышлявший в этом академически-охранительном ключе, вдруг задумывается: а кто же, собственно, падший? Ему припоминаются «тонкое лицо, пенсне, седеющая бородка, нет, теперь он, кажется, сбрил бородку и очень похудел, не так давно встретил его в трамвае…»
Недавний обладатель знаковой «ученой» бородки – это, вероятно, самый академичный среди формалистов, Борис Михайлович Эйхенбаум. Сын воронежского врача и несостоявшийся врач, одаренный музыкант-любитель, он поступил в 1907 г. на славяно-русское отделение университета, сблизился с германистами, но в результате защитил в 1917 г. диссертацию по русской литературе. Его первая печатная работа «Пушкин-поэт и бунт 1825 года» вышла в первом номере журнала «Вестник знания» за 1907 г. В то время Эйхенбаум еще числился студентом Военно-медицинской академии. Инициатором публикации, на пять с лишним лет опередившей регулярную писательскую практику, стал двоюродный брат автора Михаил Лемке. В 1909 г. Эйхенбаум бросил музыкальную школу и начал изучать словесность. С 1912 г. его критические заметки появляются в журналах «Запросы жизни», «Северные записки», «Заветы». В январе 1914 г. Эйхенбаум познакомился с кругом акмеистов. Это вылилось в многолетнее увлечение и еще одно основание противопоставлять прогрессивных петербургских филологов 1910-1920-х годов москвичам, ориентированным на футуристов, несмотря на петербургского «футуриста» Шкловского [Кертис, 2004, с. 82]. Уже в формалистскую пору эта связь отразилась в книге «Анна Ахматова. Опыт анализа» (1923). Примечательно, что через месяц после этого знакомства Эйхенбаум отправляется на диспут в Тенишевское училище, ознаменовавшийся футуристическим скандалом. В письме к отцу Эйхенбаум изложил свои отрицательные впечатления. В частности, отметил появление «маленького приземистого студента с широкой черной головой, большим ртом и грубым голосом» [Чудакова, Тоддес, 1987, с. 12]. Это был Виктор Шкловский, в недалеком будущем ближайший друг Эйхенбаума. Если Шкловский пришел в науку, чтобы мыслить ее в формах революции, то Эйхенбаум вскоре принял революцию, с расстановкой преодолевая предрассудки и рефлектируя каждый свой шаг, признавая неизбежность преобразования в первую очередь для собственной биографии.
Профессор Ложкин в романе «Скандалист» не случайно вспоминает пенсне и легкую седину одного из «падших». Остальным членам ОПОЯЗа Эйхенбаум годился в старшие братья. Ему было 32 года, когда вышла его программная для формального метода статья «Как сделана “Шинель” Гоголя» (1918). Основателю школы Виктору Шкловскому было тогда 25, еще не присоединившемуся Юрию Тынянову – 24, еще не уехавшему за границу Роману Якобсону – и вовсе 22 года. Вдобавок, и это намного важнее биологического возраста, Эйхенбаум начинал как дореволюционный критик, серьезно увлекавшийся Николаем Лосским и Семеном Франком, озабоченный миссией культуртрегерства, испытавший большое влияние яркой книги молодого Виктора Жирмунского «Немецкий романтизм и современная мистика» (1914). Это был тип если не академический, то интеллигентский, понятный академикам и обитающий в том же пространстве. Встреча со «скандалистом» Шкловским нарушила это внешне предсказуемое течение, и случайность обернулась предопределением. В 1922 г. Эйхенбаум подытоживает свое отречение от устаревшей парадигмы: «Интеллигентская критика и интеллигентская наука стали одинаково оцениваться как дилетантизм» [Эйхенбаум, 1921 (b), с. 14].
В этом смысле показательны отношения Эйхенбаума с Виктором Жирмунским – блестящим, но традиционно академическим германистом, чьи симпатии к формалистам не простирались далее признания их близости немецкой теории литературы. В начале 1922 г., в процессе подготовки к публикации в берлинском издательстве Зиновия Гржебина книги «Молодой Толстой» Эйхенбаум записал в дневнике: «В сочельник (6-го) был у Жирмунских. Благодушно и сентиментально (жена), но перед уходом, в передней, заговорили о главном. Он в душе озлоблен, оскорблен. Называл меня “сектантом”, упрекал в придирчивости к мелочам, говорил прекраснодушные фразы о “вечных ценностях” и т. д. <…> Думаю, что совсем разойдемся – и может быть, скоро» [Эйхенбаум, Дневник, 244, 59]. И уже через месяц, 2 февраля 1922 г., следует красноречивая запись: «наша ревтройка (Тынянов, Шкловский и я) выступает 9-го в Инст. жив. слова о Некрасове, а 19-го – в Вольфиле о Пушкине». Показательна риторика, отражающая актуальную терминологию («ревтройки» были главными инструментами «красного террора» 1919–1921 гг.) и боевой дух новой научной школы. Остается добавить, что уже в марте 1922 г. Шкловский вынужден бежать за границу от революционного правосудия, добравшегося до левоэсеровской оппозиции. Таким образом, обстановка вокруг формалистов была боевой не только в переносном смысле.
Осознаваемая, хотя и не всегда управляемая реализация метафоры сопровождала формалистов на всем протяжении их профессиональной и обыденной жизни. Перспективу взаимных и непосредственных проекций между теоретическими концепциями и жизнью задала, безусловно, революция, которую и после исчезновения советской утопии с карты мира продолжают считать ключевым событием XX в. [Хобсбаум, 2004, с. 67]. Виктор Шкловский в мемуарной книге «Сентиментальное путешествие» (1923) писал: «Эйхенбаум говорит, что главное отличие революционной жизни от обычной то, что теперь все ощущается. Жизнь стала искусством» [Шкловский, 2002, с. 260]. Эта фраза датирована более или менее точно весной 1922 г. Заканчивая примерно той же датой краткие мемуары, которые вошли в итоговую для периода 1920-х годов книгу «Мой временник» (1929), сам Эйхенбаум пунктирно намечает вехи своего перерождения: «Октябрьский переворот. Голод, холод, смерть сына. Жизнь у окопной печки. <…> Виктор Шкловский, остановивший меня на улице, Юрий Тынянов, запомнившийся еще в Пушкинском семинарии. ОПОЯЗ. Это все были исторические случайности и неожиданности. Это были мышечные движения истории. Это была стихия. Настало время тратить силы» [Эйхенбаум, 2001 (а), с. 59–60]. «Ощутимость» – важнейшее понятие в теории остранения, выдвинутой Виктором Шкловским на этапе зарождения формальной школы. Это ли не признак непривычного для дореволюционной науки «практицизма» теории, ее прямой обусловленности повседневной жизнью? Последняя по причине своей катастрофичности видится более литературной, чем сама литература.
Предпочтение проблем технологии и морфологии произведения, поисков ответа на вопрос, как оно «сделано», были связаны не только и даже не столько с жаждой научного реформаторства, сколько с поисками языка, который был бы адекватен новому режиму существования. Реальность как будто «ушла вперед», обнаружила резкое расширение художественного поля и превращение в искусство и литературу того, что ранее могло не всегда распознаваться как культурный продукт (в этом смысле объясним всплеск таких практик, как скетчи агитпоездов, плакаты РОСТА, пролетарская календарная поэзия и разнообразная «переписка из двух углов»). Догнать эту реальность означало сменить оптику, провозгласив основополагающими те идеи, которые до революции казались периферийными[149]149
Эйхенбаум в своем настороженном отзыве на футуристический диспут в феврале 1914 г. остается адептом традиционных взглядов; теоретические поиски Шкловского его предсказуемо пугают: «…поток непозволительных глупостей; <.. > тут были слова и о вещах, и о костюмах, и о том, что слово умерло, что люди несчастны от того, что они ушли от искусства, и т. д. Это была речь сумасшедшего» [Чудакова, Тоддес, 1987, с. 12]. Через четыре года ситуация кардинально изменится. 22 июля 1918 г. Эйхенбаум пишет в дневнике: «Заходил В.Б. Шкловский – читал черновик своей работы о “сюжетосложении”. Очень интересно и очень заманчиво! <.. > Сильно расшевелило меня – стал думать о своей работе. Смущает меня только какая-то неопределенность ее. Я мечусь между больными вопросами и остриями и конкретно-эмпирической работой» [Эйхенбаум, Дневник, 245, 13]. Смена оптики приводит, среди прочего, к смене ролей. Недавний «сумасшедший» превращается в предмет подражания и причину негативной авторефлексии.
[Закрыть]. Нет сомнения, что проблемы технологии, полемически поставленные в ранних изданиях ОПОЯЗа – «Сборниках по теории поэтического языка» (1916–1921), должны были вскоре вылиться в очередную постановку вопроса о литературной истории. Об этом размышлял Тынянов в программной работе 1924 г. «Литературный факт». Та же логика руководила Эйхенбаумом, который после статьи «Как сделана “Шинель” Гоголя» обращается уже не к выразительным приемам, а к самому ходу писательской работы[150]150
Исключения – статья «К вопросу о звуках стиха» (1920), написанная под влиянием Осипа Брика, и, по сути, единственная «чисто» формалистская книжка Эйхенбаума «Мелодика русского лирического стиха» (1922).
[Закрыть]. Начиная с 1918 г. формируется его интерес к Льву Толстому, чья биография позволит вскоре представить литературу как труд. Уже в книге «Молодой Толстой» (1922) реконструкция процесса письма в контексте повседневности писателя и эволюции его мировоззрения будет отчетливо доминировать [Any, 1994, р. 57–58].
Среди своих друзей-единомышленников Эйхенбаум единственный занимался систематическим изложением основ, отвечал за методологическую рефлексию. Тому способствовали его дореволюционные увлечения: немецкая классическая философия, эстетика романтиков, «интуитивизм» Семена Франка [Кертис, 2004, с. 87–104], а также «витализм» Анри Бергсона (см. главу II настоящей книги). Иначе говоря, Эйхенбаума отличало возникшее на предыдущем этапе интеллектуального взросления тяготение к фундированным взглядам, какими бы радикальными они ни были. Выше уже упоминалось выступление Эйхенбаума в 1922 г. на заседании Вольной философской ассоциации с докладом о новых подходах к изучению художественного слова. Развитие его положений продолжалось в течение 1923 г., что отразилось в статье «Вокруг вопроса о формалистах», с которой Эйхенбаум принял участие в дискуссии о формализме и марксизме, организованной редакцией журнала «Печать и революция» в № 5 за 1924 г. Еще через год в словесном секторе Института истории искусств Эйхенбаум прочитал доклад, который лег в основу широко известной статьи «Теория формального метода» (1926). В ней Эйхенбаум в намеренно тенденциозных формулах изложил исходные принципы нового знания о литературе и логику их изменений. «Мы должны были разрушить академические традиции и ликвидировать тенденции журнальной науки… основной пафос нашей историко-литературной работы должен был быть пафосом разрушения и отрицания… Нас интересует самый процесс эволюции, самая динамика литературных форм, насколько ее можно наблюдать на фактах прошлого. Центральной проблемой истории литературы является для нас проблема эволюции вне личности – изучение литературы как своеобразного социального явления» [Эйхенбаум, 1987, с. 402–405].
В кратком введении к этой обзорной работе Эйхенбаум диагностирует связь русского формального метода с западноевропейским искусствознанием, в частности с «историей искусства без имен» Генриха Вельфлина – одного из самых значительных теоретиков венской школы. Нетрудно заметить сходства между этим известным понятием и «эволюцией вне личности», которая является историей литературы, представляющей «не столько особый по сравнению с теорией предмет, сколько особый метод изучения литературы, особый разрез», как писал Эйхенбаум в «самоанализе» формальной школы [Там же, с. 406; курсив автора. – Я.Л.].
Вскоре Михаил Бахтин поможет Павлу Медведеву развернуть его заметку «Ученый сальеризм» (1924) в книгу «Формальный метод в литературоведении» (1928), где с раздражением обрушится на формалистов, безосновательно противопоставляющих себя европейскому оригиналу. Критика Бахтина воспроизведет общие места формалистской репутации, в частности их пресловутое равнодушие к идеологии, непростительное на фоне движения их венских предшественников «к высшей конкретности в изучении художественной конструкции» [Медведев, 2000 (b), с. 232]. Не уточняя, в чем специфика «высшей» конкретности, оппонент и конкурент формалистов выступит со своими инвективами уже после того, как члены формалистского кружка решительно обратятся к литературной социологии, а в более широком смысле – к истории идей, бытующих в формах литературы.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































