Текст книги "Другая наука. Русские формалисты в поисках биографии"
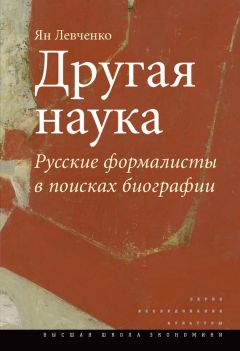
Автор книги: Ян Левченко
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 20 страниц)
Мир тесен не только в пространстве, но и во времени. Новые люди иногда взрослеют быстрее, чем состариваются те, что пришли раньше и, с точки зрения последователей, заняли «лучшие места». Наверное, это и было не научное, но поведенческое know how второго поколения – тихо пережить современность и дождаться триумфа на суде истории.
Часть четвертая
Кинематограф и его прием
XIII. Контуры ненаписанной теории. Кинематографический сюжет русских формалистов
1. Форсирование метода: от литературы к киноВклад формальной школы в русскую киноведческую традицию весом и очевиден. По сути дела, осуществляя экспансию своего литературоведческого метода в смежные и пересекающиеся культурные среды, формалисты предприняли первую попытку создания систематического языка описания кино. В преодолении их литературоцентризма формировался позже структуралистский дискурс. В середине 1970-х передовая советская семиотика видела в кино уже «некоторый образец для метаязыковых механизмов современной культуры» [Лотман, 1977, с. 148]. Этой формулировки и недостаточно, чтобы описать «пикториальный» (Уильям Митчелл), «иконический» (Еотфрид Бэм) или «визуальный» (Фредерик. Джеймсон) поворот, который в современной художественной теории диагностируется по аналогии с поворотом «лингвистическим» (Ричард Рорти). И все же для связанного литературой сознания советской интеллигенции это заявление почти революционно, поскольку констатирует превосходство визуального мышления над лингвистическим. Можно себе представить, какой внутренней работы требовало за 50 лет до этого само допущение эмансипированной визуальности. «Значение эволюции приемов кино – в этом росте его самостоятельных смысловых законов, <…> они отрываются от внешних мотивировок и приобретают “свой” смысл» [Тынянов, 1977, с. 334]. Здесь кино – еще не порождающая модель, но уже суверенное искусство, пусть и недавно родившееся. Литература здесь – главный ресурс аналогий, возбудитель теоретического интереса и в то же время помеха для идентификации. В упомянутой статье Ю.Н. Тынянов говорит об автономии кинематографического приема, но обозначает его термином «слово», быть может, на тот момент у него просто нет других слов…
Кажется, уже давно установлено, что кино вызвало интерес формалистов ровно постольку, поскольку обнаруживало тесные аналогии с литературой, в первую очередь, в плане сюжетного повествования. В общих чертах сюжет известен. Основы примитивной грамматики кино были заложены В.Б. Шкловским на пороге 1920-х годов, потом через несколько лет Тынянов написал «Проблему стихотворного языка» и спроецировал ее положения в статье «Об основах кино», наконец, Б.М. Эйхенбаум в программной работе «Проблемы киностилистики» (1927) попытался систематизировать лингвистические спекуляции вокруг кинематографа, рассуждая о синтаксисе кино и его семантике [Ханзен-Леве, 2001, с. 328]. Понятие монтажа, вполне специфичное для кинематографа и уже из него пришедшее в литературу, вводится у Эйхенбаума осторожно, но последовательно. Следствием его внедрения становится осознание многолинейности кинематографической фактуры [Эйхенбаум, 2001 (b), с. 34]. Ее адекватное восприятие актуализирует куда более сложные механизмы, чем в случае с литературой. Легкость усвоения визуальной информации обманчива, ее высочайшая плотность блокирует аналитический инструментарий словесности. Эта проблема, едва намеченная у Эйхенбаума, проливает свет на методологические амбиции формалистов. На материале кино ярче, чем на материале литературы, проявляется их тяготение к анализу сложных многоязычных систем, для которых мало одной номенклатуры приемов. Это яркий пример того, как материал бросает вызов методу. Невозможно ограничиваться литературой, провозглашая революцию выразительных средств, совпадающую с революцией в обществе. Кинематограф нужен формалистам как предельно актуальное искусство, приобщение к которому гарантирует ревизию критической теории.
2. Виктор Шкловский и маятник обновленияОбрамлением формалистского сюжета в теории кино традиционно служат работы В. Шкловского. Во-первых, это крайне сумбурный опыт обращения к теме в заметке «Кинематограф как искусство» (1919), во-вторых – письмо С.М. Эйзенштейну, символично озаглавленное «Конец барокко», открытый вариант которого был опубликован в «Литературной газете» (1932). Между этими датами продолжается формирование аксиом кинематографического метаязыка. Начало 1930-х годов – это не только наступление «темных веков» советской империи, но и появление звука в кино, требующее ревизии едва ли не всей проделанной ранее работы. Деятели формальной школы считали этот переход нежелательным, трактовали техническое несовершенство раннего кино как его конструктивную особенность [Балаш, 1925, с. 22; Гармс, 1927, с. 47][173]173
С учетом культурной ситуации, сложившейся на момент перехода, последний может быть истолкован как иллюстрация скачка от «культуры 1» к «культуре 2» (в терминах Владимира Паперного). Обретение фильмом звучащего слова существенно повысило его риторические потенции: вобрав опыт авангардного эксперимента, фильм устремился в сознание зрителя на правах тотальной, а не условной, требующей достраивания реальности (ср. тезис о «высшем» реализме звукового кино [Эйзенштейн, 2001, с. 327].
[Закрыть]Возможности продуктивного использования формалистских моделей для звукового кино стали очевидны уже после Второй мировой войны, тогда как в конце 1920-х годов прежние теоретические ресурсы казались исчерпанными.
Историю формальной теории можно представить как смену сопоставления словесного искусства с различными типами визуальной репрезентации – статической (живописью) и динамической (кинематограф) [Майланд-Хансен, 1993, с. 115]. Впрочем, в отличие от кино, с которым формализм работал непосредственно, живопись так и осталась лишь потенциальным объектом. Для ранних формалистских построений, нашедших отражение в манифестах Шкловского, абстрактная живопись выступает как удобный tertium comparationis, как доказательство того, что первичной задачей художника является «фактурный сдвиг», к которому и сводится содержание абстрактного произведения. Терминология Шкловского, возникающая на материале литературы, была следствием его юношеских увлечений изобразительными и пластическими искусствами[174]174
В ранней молодости Шкловский готовился стать скульптором и работал в мастерской у Шервуда, без устали трепеща перед экзаменом по рисунку в Академию художеств. Рисовал он Германику. На поприще этом, как известно, не преуспел (см. [Милашевский, 1989, с. 18]).
[Закрыть]. Кубофутуризм Д. Бурлюка, беспредметность К. Малевича, абстракция В. Кандинского и поэтика «зауми» А. Крученых, нашедшие органичное отражение в теоретических интуициях и поэтической практике В. Хлебникова, были для Шкловского школой построения новой литературной теории. Первоначально она основывалась на отрицании образа[175]175
Напомним, что, открыто выступая против представления об образе как об основе искусства, Шкловский обрушивался не на самого А.А. Потебню, а на его эпигонов и так называемую широкую, т. е. буржуазно просвещенную публику (подробнее см. [Laferriere, 1976]).
[Закрыть] и распознавала в искусстве комбинацию технических приемов, чье применение ведет к реализации цепочки «стимул – реакция» в духе бихевиористов (отсюда критика психофизиологического примитивизма Шкловского у М.М. Бахтина и Л.С. Выготского). С эффектом прямого воздействия произведения на читателя связано широко известное понятие «остранения» (о его применении к кино см. [Масловский, 1983])[176]176
«Целью искусства является дать ощущение вещи как видение, а не как узнавание; приемом искусства является прием “остранения” вещей и прием затрудненной формы, увеличивающий трудность и долготу восприятия, так как воспринимательный процесс в искусстве самоцелей и должен быть продлен; искусство есть способ пережить деланье вещи, а не его узнавание» [Шкловский, 1929, с. 13].
[Закрыть]. Подобно тому, как кубофутуристы революционизировали принципы изображения предмета на плоскости[177]177
Таково, например, «новое живописное миропонимание» Бурлюка и его сподвижников в изложении мемуариста: «Искусство, – говорил он <Бурлюк. – Я.Л.> (и в ту пору многим это казалось новым), – искажение действительности, а не копирование ее. Фотография тем и плоха, что никогда не ошибается. Современная живопись покоится на трех принципах: дисгармонии, дисимметрии и дисконструкции. Дисконструкция выражается в сдвиге либо линейном, либо плоскостном, либо красочном» [Лившиц, 1991, с. 74]. Обратим внимание на противопоставление фотографии заумной живописи как на оппозицию слепого копирования и преображения (как видения у Шкловского).
[Закрыть], ранний русский формализм радикально переосмыслил реализацию предмета в слове и представил последнее как вещь, чье восприятие требует постоянного обновления. Это в первую очередь материальная эстетика, предпочитающая «действие» «умозрению»: «Нужно прежде всего “расшевелить” вещь, как Иоанн Грозный перебирал людишек, нужно вырвать вещь из ряда привычных ассоциаций. Нужно повернуть вещь, как полено в огне» [Шкловский, 1923 (b), с. 12].
Нетрудно увидеть в этой агрессивной риторике черты революционного поведения, целью которого является не «нахождение истины», традиционное для научной модели Нового времени, но отмежевание от актуальных и потенциальных противников и завоевание идейного пространства. Принцип автономной новизны, постоянно устаревающей и отменяющей сам себя, рельефно демонстрирует не вполне осознанную приверженность раннего Шкловского нормативному техницизму, который очень быстро вошел в противоречие с наблюдаемыми закономерностями в истории литературных форм. В 1914–1916 гг. Шкловский еще пренебрегает явными аналогиями со значимой для него самого сферой искусства, поскольку претендует на беспримесную оригинальность своего подхода. Работая уже после революции в журналистике и с профессиональной легкостью рассуждая о самых разных вещах, он уже напрямую говорит о принципах изображения в беспредметной картине и обнаруживает при этом близость идеям Г. Вельфлина о периодической смене стилей в истории искусства задолго до знакомства с текстами немецкого теоретика [Шкловский, 1993, с. 25]. В заметке «Пространство в живописи и супрематисты» (1919) Шкловский заявляет, что «во всяком случае, геометрически-кубистический стиль периодически захватывал искусство», и, делая акцент на особых заслугах супрематизма, добавляет: «я не думаю, что живопись навсегда останется беспредметной» [Шкловский, 1990, с. 98].
Требование обновления вещей взято из книги, в которой под одной обложкой собраны статьи, посвященные литературе и кино. Проблема кино как возможного коррелята литературы обнажается здесь за счет композиционного отбора ранее опубликованных текстов[178]178
Как это часто происходит у Шкловского, книга реструктурирует готовый материал, разбросанный по более ранним статьям, и тем самым демонстрирует его новое качество (подробнее об этом приеме у Шкловского см. [Левченко, 2003. с. 75–85] и в настоящей книге в главе V]). Здесь это продиктовано стремлением осмыслить транзитное состояние формальной теории на пути от статических концепций к динамическим, имевшее место на момент выхода книги в 1923 г.
[Закрыть]. В первой части, так и озаглавленной – «Литература», Шкловский полностью воспроизводит агрессивный пафос своих ранних утверждений о самодостаточности формы, после чего переходит к рассмотрению собственно кинематографа. Свои рассуждения о сущности кино Шкловский начинает довольно неожиданно. Следует, по его мнению, навсегда оставить попытки литературы усвоить структурные признаки кинематографа. Искусство – мир континуальный, обыденность – мир дискретный. Прерывность впечатления, имманентная кинематографу, создает предпосылки не видения, но узнавания и тем самым противостоит остранению, понимаемому как синоним эстетической функции. Все еще выступая здесь в качестве теоретического адепта русской версии футуризма, Шкловский понимает искусство как средство возвращения ощутимости окружающему миру и, следовательно, его реального преобразования. В искусстве для него все реально, ибо остранено, в обыденности все, напротив, ирреально, поскольку автоматизировано и не может быть «пережито». Потому его и настораживает тот факт, что кино «не движется, а как бы движется. Чистое движение, движение как таковое никогда не будет воспроизведено кинематографом. Кинематограф может иметь дело только с движением-знаком, движением смысловым. Не просто движение, а движение-поступок – вот сфера кино» [Шкловский, 1923 (b), с. 25]. Выходит, кино не имеет отношения к искусству. Это жизнь, иначе говоря, скука автоматизма. Любопытно, как это «реакционное» отторжение сменяется у Шкловского «прогрессивным» принятием и далее многолетней работой в индустрии кино?
Витализм Бергсона, которым был увлечен Шкловский на рубеже 1910-1920-х годов, подтолкнул статическую дихотомию «материала» и «приема» к ее динамическому развертыванию в раннюю формалистскую теорию сюжета. Идеи автоматизации восприятия в потоке жизни, предотвращения автоматизации силами искусства, а также вытекающая отсюда мысль о прерывности и непрерывности как о характеристиках «практического» и «поэтического» мировосприятия напрямую восходила к трактату Бергсона «Материя и память» (1896) [Curtis, 1976, р. 111–112]. Первичное освоение этих понятий на материале литературы, приведшее Шкловского к концепции остранения, имело характер абсолютной проекции, пренебрегавшей неизбежным искажением объекта в его непрерывном становлении. Приветствуя прогресс искусства, Шкловский не мог не догадываться об этих недостатках своей теории, коль скоро стремился уловить движение и смену литературных форм, а не только их раз и навсегда заданное распределение. Ближайшей аналогией прогресса как развития оказался сюжет произведения, послуживший рабочей моделью динамики и смены. Скорее всего обращение Шкловского к кино шло по следам бергсоновской модели «чистого движения», описанной в трактате «Творческая эволюция» (1907).
Рассуждая о возможности зафиксировать динамику жизни, Бергсон приводит метафору кинематографа, позволяющую уловить природу перцепции. Кино знаменует собой отказ считать какой-то момент визуального восприятия привилегированным для фиксации (как это имеет место в живописи) и возвращает равноправную индивидуальность каждому моменту движения – абстрактного движения вообще [Бергсон, 1999 (а), с. 293]. В механизме восприятия Бергсон усматривает кинематографическую природу, поскольку сознание откладывает в памяти дискретные снимки реальности, нанизывая их на воображаемую ось внутреннего опыта. Бергсон описывает это следующим образом: «С непрерывности известного становления я сделал ряд снимков, которые и соединил между собой становлением вообще. Но, понятно, я не могу на этом остановиться. То, что не может быть определено, не может быть представлено: о “становлении вообще” я имею только словесное знание» [Там же, с. 295].
Констатация дискурсивной природы представления провоцирует интерес к кино, которое движется как бы само по себе, не требуя активности воспринимающего. В кино рассказ не требует посредничества письма, хотя осмысление киносюжета неизбежно прибегнет к помощи слов. Сюжет как принцип динамической организации материала оказывается концептуальным звеном, связывающим взгляд со словом. Более того, сюжет – это то, что остается неповрежденным при взаимном транспонировании видов искусства в силу своего универсального, архетипического характера. Когда Шкловский говорит о том, что «невозможен перевод» [Шкловский, 1923 (b), с. 19], он имеет в виду, что попытка пересказать «содержание» произведения другими словами или средствами другого искусства неизбежно обернется новым произведением. Сюжет, как организованная конструкция, имеет функциональную природу и потому служит базой типологического изучения искусств, на что ранний формализм налагал запрет. Проблематика сюжета отменяет этот запрет и ставит во главу угла (пока еще апофатическое) сравнение форм искусства [Ханзен-Леве, 2001, с. 327–328]. Кино демонстрирует литературе работу сюжета в чистом виде, а литература, в свою очередь, создает возможность дискурсивной рефлексии визуального опыта.
Идеи Шкловского о неопределенности кинематографа в отношении искусства и о возможных путях его дискурсивного освоения имплицируют любопытный полемический диалог с такими фигурами французской кинокритики, как Луи Деллюк и Жан Эпштейн[179]179
Здесь сознательно опускается более или менее известная и всесторонне проработанная близость идей Шкловского идеям Бертольда Брехта, чье влияние на так наз. «Веймарскую» теорию кино в Германии переоценить не легче, чем заслуги русских формалистов [Aitken, 2001, р. 4–26].
[Закрыть]. Первый был известен в России, в 1924 г. были переведены сразу две его книги: «Фотогения кино» и «В дебрях кинематографа». Второй никогда не переводился и был, скорее, практически неизвестен. Обоих можно назвать «формалистами наоборот».
Искусство, по Деллюку, есть способ работы человека с окружающей красотой, осознать которую мешает обыденность. Однако искусство не просто фиксирует, но преображает мир, зритель в театре и посетитель музея видят перед собой результат чьей-то творческой воли. В кино дело обстоит прямо противоположным образом. «Кино правомерно стремится к подавлению искусства, обнаруживая нечто по ту сторону искусства, а именно саму жизнь» [Delluc, 1988, р. 137]. Эта стилизация жизни представляет собой ожившую фотографию. Фотография для Деллюка – это «фрагмент жизни», который хорош именно своей случайностью. «Гораздо менее привлекательна фотография, когда хотят сделать из нее искусство. Все эти позы, все эти, словно завороженные, лица перед аппаратом – это окаменевшая жизнь, это уже больше не жизнь» [Деллюк, 1924, с. 20]. Искусство здесь смешивается с искусственностью. Однако ясно, что, наделяя фиксацию жизни положительным знаком и видя за ней будущее визуальности, Деллюк отказывает в этом будущем традиционному искусству, так как полагает его репрессивным по отношению к зрителю. Кино в представлении Деллюка возможно только как бессюжетное, строящееся на смене зрительных впечатлений, которые порождаются самой реальностью, а не ее искаженным подобием. Здесь нет места обману: «Молодая девушка в кино должна быть действительно молодой. Такова логика кино» [Там же, с. 75]. Семиотические отношения не распознаются именно в структуре сверхсемиотического, т. е. самого недоверчивого и недостоверного культурного продукта. Свойству знаковости Деллюк противопоставляет идею о внутренней энергетике самой вещи, усиливающейся при попадании в кадр. Съемка трактуется Деллюком как процесс усиления, а не
репродукции, т. е. представляет собой постижение сути видимых вещей в духе платоновской феноменологии. Если смысл фотографии сводится к механической демонстрации, то смысл кино состоит в столкновении внешнего восприятия и внутреннего опыта. На этом основана теория фотогении[180]180
Этот термин Деллюк позаимствовал из романа Эдмона де Гонкура «Фаустина» (1881), где оно означает красоту как ясность, проявленность линий предмета, о чем фотография дает наиболее полное представление.
[Закрыть], которая «возникает на пересечении некоторых свойств изображаемого на экране предмета и выразительных свойств кинематографа, проецирующих на эти предметы элементы “внутреннего видения”, ищущего истину и красоту в мире» [Ямпольский, 1993, с. 47]. Фотогения – это специфическое свойство вещи, как бы специально созданной для кино. Оно состоит не только в визуальной аттрактивности вещи, но и в некой смысловой прибавке, сводящейся к преодолению случайности фотографии и созданию эффекта творчески переосмысленного зрелища, сближающего кино с искусством. Закономерно, что первоначальное отрицание причастности кино к сфере искусства в дальнейшем[181]181
В бытность Деллюка с 1921 г. и до своей скоропостижной смерти в 1924 г. главой «Cinema», первого французского интеллектуального журнала о кино.
[Закрыть] обернулось его пропорционально усиленным утверждением именно в этом качестве, пусть и с принципиально иным пониманием задач искусства как такового. Забегая вперед, заметим, что это обстоятельство существенно сближает Деллюка со Шкловским, а именно позволяет увидеть общность теорий авангарда в России и во Франции независимо от их конкретного наполнения. Радикальность Деллюка состояла в тотальном овеществлении человеческого лица и его превращении в некий абстрактный объект самодостаточного созерцания. Лицо на экране является носителем собственного смысла, а не передатчиком информации. При этом оно не замещает самое себя, более того, вообще не может трактоваться как знак, будучи разве что иррациональной функцией «природного языка», чьи «тексты» человек может понять лишь интуитивно[182]182
Взаимная проницаемость природы и духовной жизни была чрезвычайно важна для практиков романтической живописи (Каспар Давид Фридрих) и теоретиков романтической поэзии (Новалис) в Германии. То же касается Дж. Констебля и У Вордсворта в Англии, оказавших решающее влияние на американскую натурфилософию (Г. Торо, Р.У Эмерсон). Своеобразный «минус-язык» природы, возвращающий человека в пространство иллюзорной «подлинности» составляет важную ячейку того «паззла», из которого складывалась впоследствии теория фотогении. Ее бытование в каком-то смысле перебрасывает мост к дологической, до-рефлексивной стадии развития индивида, утопию которой упрямо воспроизводит европейская мысль, тщетно пытаясь найти убедительную альтернативу дискурсивному знанию (классический очерк этих поисков см. [Иванов, 1999]).
[Закрыть].
Несмотря на сходное с Деллюком понимание искусства как автономной практики, Шкловский не ищет красоты и истинной сути вещей. Если Деллюк превращает актера в вещь и погружается в его созерцание, то Шкловский полагает, что вещь в кино превращается в актера и требует от нее осмысленного действия. Несмотря на то что оба теоретика сходятся в трактовке реальности как пространства автоматизации и стремятся к выработке универсальной модели его преодоления, их мысли о задачах кино как эффекта реальности противоположны. Любопытно, что превращение актера в вещь сообщает его лицу эффект маски. С этой же проблемой были связаны в начале 1920-х годов поиски русских теоретиков «эксцентризма» – группы ФЭКС и раннего Эйзенштейна во время постановки спектакля «Мудрец» в театре Пролеткульта. Типологически они перекликались с мыслями Жана Эпштейна, продолжателя Деллюка. Для него именно «чистая» выразительность лица, превращенного на экране в маску, оказывается презумпцией его знаковости: «Знаковость вещи на экране, согласно Эпштейну, приводит к усилению ее индивидуальности (видимого аспекта), но усиление видимого, дистиллируясь в объективе, умножает знаковость: возникает платоническая “идея идеи”, “квадратный корень идеи”» [Ямпольский, 1988, с. 114]. Другими словами, фотогения предмета оказывается следствием встречных процессов, а не подмены одного другим. Отсюда следует мысль о сочетании выразительных изображений, что в отличие от Эпштейна, последовательно отстаивавшего позиции феноменолога, приводит теоретиков «эксцентризма» и формализма к проблеме контекста[183]183
Для Шкловского физическая природа киноизображения имеет сначала чисто психологический, а затем – семантический характер. Тема фильма может быть заявлена неясно, «но, несмотря на это, мы можем уяснить ее в контексте, так как само изображение, воспроизводя ее, – ее же проясняет» [Майланд-Хансен, 1993, с. 116].
[Закрыть].
Деллюк, изначально отделявший кино от искусства, оказывается насквозь «эстетичен» в приписывании кинематографу способности раскрыть конечный имманентный смысл вещей, тогда как Шкловский с его идеей механистической смены чистых форм, пытается защищать искусство от сближения с кино, которое «есть дитя прерывного мира» [Шкловский, 1923 (b), с. 23]. Непрерывным оно становится тогда, когда в нем проступает сюжет. Ведя свое происхождение от литературы, он сообщает своему носителю свойство текстуальности. Здесь и происходит переворачивание соотношения литературы как «реального» движения и кино как движения мнимого: знаковая (по Шкловскому, недостоверная) функция кино обратно проецируется на литературу через сюжетную аналогию и, в конечном счете, имплицирует знаковость самой литературы. Памятуя о бергсоновской идее «кинематографичности» мышления, можно предположить, что здесь Шкловский сталкивается с проблемой убедительной недостоверности искусства. Размышления в этом направлении обусловливают пересмотр раннеформалистского атомизма в пользу диалектического изучения смены художественных форм, которые отсылают уже не только к себе самим, но, по крайней мере, друг к другу. Существенной здесь оказывается и констатация невозможности перевода без кардинального изменения конструкции произведения, имеющая весьма глубокие следствия. Отсюда вырастает идея принципиальной конфликтности истории искусства, в которой наследование идет «не от отца к сыну, а от дяди к племяннику» [Шкловский, 1990, с. 121]. Разность величин, их неконтактность лишь подстегивает их взаимодействие. Непосредственно к ней восходит обогащенная опытом соссюровской лингвистики мысль Тынянова о соотнесении элементов внутри текста и между текстами, легшая в основу структурно-типологического подхода.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































