Текст книги "Андрей Тарковский. Сталкер мирового кино"
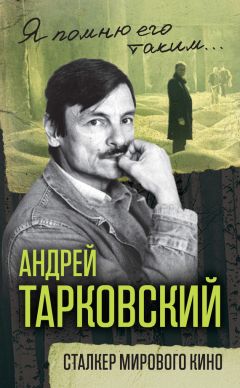
Автор книги: Ярослав Ярополов
Жанр: Кинематограф и театр, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
«Что у него главное – религиозность, избранность? Или тяготение к символам?» (Шёман Вильгот, шведский кинорежиссер, актер, писатель, критик, сценарист…) Ему вторит Северин Кусмерчик из Варшавы: «К каким символам… стремился Тарковский? В чем заключается его «религиозность»?»
«Религия играла важную роль в жизни Тарковского, он всегда стремился к встречам с религиозными людьми, с интересом обсуждал с ними вопросы веры» (Михал Лешиловский, шведский монтажер, режиссер).
Ну вот не помню я, чтобы «всегда» Андрей «стремился к встречам с религиозными людьми»! Революционных демократов даже прошлого века и Герцена не любил. Крепко. Это помню (хотя в душе не согласен с ним был, но помню. Куда денешься?) Помню, как он любил, обожал русские иконы, иконопись в полной святой убежденности: «Ну, это все любят…» (Я вовсе не разделяю этой его убежденности.)
Помню, как он, самозабвенно закатив глаза, как глухарь на току, пел под гитару почти всегда одно и то же: на мотив романса «Я встретил Вас…», «Прощай, Садовое кольцо» Г. Шпаликова.
Знаю, что безоглядно бросался в драку – за друга ли, за честь женщины… и вообще за честь и достоинство человека (и за свою в том числе), за справедливость. Вообще за все, за что стоило и стоит всегда бросаться в драку. Это все знают, но не все бросаются. А он бросался! Помню, что он обижал людей. Вольно, невольно, но обижал. Самых дорогих, самых близких, самых верных. Мужчин, женщин, близких, друзей, коллег, соратников (меня не обидел никогда, может, потому, что мы не были слишком близки?). Страшно мучился этим, страдал, переживал, но… было. Знаю. Помню. А насчет стремления к религиозным людям?.. Не знаю. Не помню. Не видел. Никогда не замечал.
Иосиф Бродский где-то заметил, что русской интеллигенции свойственно обожествление народа («обожествление народной массы, въевшееся в плоть и кровь русской интеллигенции». И. Бродский «Об Ахматовой»). Есть такая болезнь, такая беда, чего греха таить… И беда эта, с виду такая невинная, очень много вреда приносит. (Может, именно потому, что с виду кажется столь невинной?) Первым, кто мои мозги повернул в сторону этого греха нашего и осознания колоссального вреда от этого греха был Тарковский. «Андреем Рублевым», нашим общим фильмом, он это сделал. Фильм «Андрей Рублев» для меня лично является не столько моим произведением, в коллективном авторстве которого я каких-нибудь своих полтора процента имею (да нет, поменьше, полтора – многовато), сколько произведением, воспитавшим меня. И воспитывающим!! Не перестающим воспитывать! Как «Война и мир» Толстого… Как Микеланджело. Да вообще, как вся мировая классика. М. А Лифшиц, философ-марксист, где-то советует: «Читайте Монтеня, Пушкина, Толстого», – и я это понимаю не как навязывание Лифшицем своих литературных вкусов, а как совет: вот эти вот авторы более других учат мыслить. А меня (если считать, что я как-то могу мыслить) учил этому, кроме Монтеня, Пушкина и Толстого, еще и Тарковский.
И в этом тоже реализм Тарковского! Причем самый высокий, самый весомый, самый драгоценный (с моей точки зрения) реализм – реализм мысли. Не детали, не подробности, не положения, не антуража, а реализм мышления. В этом, кстати (опять же, как мне кажется), в нашем кинематографе рядом с Тарковским и поставить-то некого… Ну, разве что Эйзенштейна. С той только разницей, что Эйзенштейну не дали сказать (я имею в виду «Ивана Грозного», 3-ю серию, «Един, но один»). Тарковскому все-таки более повезло (с «Рублевым», дальше тоже не повезло…)
С моей-то колокольни «глядючи», по моему четкому суждению и убеждению, Тарковскому в «Рублеве» удались две главные гениальные вещи… Кроме всего прочего, что тоже не без печати гениальности. Кроме удивительного, феноменального двойного (!) автопортрета – Рублев и Бориска – и тот и другой – это ж духовные автопортреты самого Тарковского, пророческого предсказания собственной судьбы (Бориска «такую радость людям сделал», а его за это и копытами власть предержащие чуть не стоптали, и оставили в одиночестве рыдать у пыточного колеса…). Так, кроме всех этих и прочих «мелочей», две главные вещи: первая – это глубочайшее погружение в жестокие парадоксы российской истории, погружение, которым он – как ни странно! – не принижает ни историю, ни характер, ни судьбу России, а подымает на какую-то звенящую, пронзительную высоту и свою, и нашу (!) любовь к этой истории, судьбе, к этому характеру – к этой земле и народу, на ней живущему. И вторая – это проникновение в душу художника! Великого, гениального художника. В его великие муки и радости. Что, на мой небесспорный взгляд, не удалось сделать его западным последователям и эпигонам ни в образе Леонардо да Винчи, ни Иоганна Себастьяна Баха, ни Джузеппе Верди, ни даже Вольфганга Амадея Моцарта в очень ярком «Амадеусе». (Повторяю и подчеркиваю: на бесспорности своих суждений не настаиваю – это только частное мое, приватное ощущение, взгляд с «моей колокольни»). А удалось все это Тарковскому по одной простой причине: потому что он сам был великим художником! Не великому художнику к судьбам великих людей, по-моему, лучше не прикасаться – толку не будет… Тарковский сам был великим художником. С бесстрашным, открытым взглядом на окружающее, на мир. С глубочайшими нравственными и философскими поисками, муками и страданиями. С величайшей мудростью, человеколюбием, правдолюбием, милосердием и самоотречением. С беспощадной требовательностью к самому себе, к своему труду, к своему искусству. Мне кажется, во все это ни перевоплотиться, ни «проникнуть» нельзя, таким надо просто быть. А он был.
Не великий повествователь, рассказывая о великом человеке, проникает как бы через замочную скважину в интимно-бытовые подробности жизни великого человека (и нас за собой в эти подробности втягивает!). В то, как у Баха глаза болели, как Моцарт весело и жизнерадостно хамил всем окружающим, потому что он-де гений, а окружающие – еле-еле барахло, а Верди очень как-то противно и недостойно самого себя ревновал к славе молодого и талантливого Бойто. Великий рассказчик проникает в душу того, о ком рассказывает. В муки творчества – не в спор о том, покупать ли новый загородный дом, как его отстраивать и на какие деньги, а в высокий спор двух гениев, двух гордостей русской и мировой культуры. В высочайший спор метафизика Феофана Грека, скорбного, трагического метафизика, который все видит и верно обо всем судит, только не верит в возможность развития для человека вообще, а для русского – в особенности, и светлейшего диалектика Андрея Рублева, свято верящего, ощущающего, чувствующего всеми клеточками, всем существом своим, что Любовью, Милосердием, Просвещением может и должна, обязана преобразиться, да, темная сегодня, да, грешная, но небезнадежная для духовного преображения душа русского человека. И не оголтело, не зажмурившись и не реагируя на вокруг происходящее, верит в это Рублев. А верит, как живой и зрячий человек. Со всеми взлетами и падениями. С провалами в черное отчаяние, но и с новыми солнечными взлетами! Вспомните, вспомните все пронзительные сцены и с Феофаном и с Даниилом Черным, учителем.
Споры чуть не до остервенения, до горького разочарования и непонимания, неприятия, не прекратившиеся даже со смертью Феофана, который и мертвым является Андрею в минуту жутчайшего душевного потрясения в разрушенном храме…А «Молчание»?.. А покаяние Кирилла? Не слюнявое, показушное покаяние: «Ах, какой я был плохой и как я в этом раскаиваюсь…» – а покаяние действенное, подвигнувшее гений Рублева на творчество, на новый взлет, на создание величайшей и бессмертной «Троицы»! Созданной во имя и на благо Человека, для и ради его просвещения и спасения, во имя светлой веры… чуть не сказал: «Создателя»…, а для меня, атеиста, Рублев и является создателем, Создателем, созидателем, одним из первых, кто созидал душу русского человека.
И становится тогда нам понятно, как, откуда и почему получил такое нетрадиционное решение «Страшный суд» на фреске Успенского собора во Владимире. Не традиционное: подгоняемые вилами чертей, в ужасе и безнадежности валящиеся в огонь и смрад, в кипящее, пузырящееся гноище преисподней скорбные души грешников, а… торжественное шествие жен-мироносиц! – «Праздник, Даниила, праздник!! Какие же они грешницы? Нашли грешниц…» Кстати, еще пример «христианского смирения», покорности догматам и канонам Священного Писания и у Рублева, и у Тарковского… Становится понятно, с чего, откуда и почему явились людям «Троица» с идеей согласия и гармонии и милосердный, а не карающий «Спас» из Звенигорода… И кому какое дело, какие были, гнусные или очаровательные, привычки, отвратительные или прелестные черты характера у Цицерона или у Петрарки? У Чайковского или у Рафаэля? У Шопена, Рабле, Моцарта, Шекспира или Достоевского? У Тарковского или Рублева, или у безвестного мастера, отлившего чудо-колокол?
А в нескончаемых западных телесериалах все замечательно и правдоподобно: и портреты, и эпоха, и интерьер, и актеры вроде здорово играют, только непонятно, откуда взялись-родились «Джоконда», си-минорная Mecca, «Реквием» или «Аида»… Пусть обвинят меня в квасном патриотизме, но, ей-богу, западному искусству такое не по зубам… Такое доступно только русскому искусству. Скажу больше – социалистическому. Хотя на бесспорности этой мысли не настаиваю, но мне абсолютно серьезно, искренне и убежденно так кажется: такое доступно только нашему и именно социалистическому искусству, художнику, рожденному в нашей стране, а возможно, и в нашей поруганной системе. Я отдаю себе отчет, что с этой мыслью прежде всего был бы не согласен сам Тарковский, и тем не менее мне так кажется… пусть это будет моим психозом. Сам-то про себя я твердо знаю, что никакой это не психоз, а самая что ни на есть правда истинная. Западное искусство всегда было более индивидуалистическим. Хотя в лучших своих образцах поднималось до уровня общественного, т. е. социалистического («Песнь о Роланде», «Дон Кихот» и пр.), а русское искусство, русская классика всегда, начиная со «Слова о полку Игореве»… да раньше! С летописей и «Поучения Владимира Мономаха» всегда было общественным, стало быть, социалистическим. Только после 1917 года махровым цветом расцвело массовое псевдосоциалистическое псевдо же искусство. Чем дискредитировало и опаскудило и самый термин. А в лучших образцах было, есть и всегда пребудет социалистическим, т. е. общественным. И «Тихий Дон», и «Белая гвардия», и Платонов… И Тарковский! До «Ностальгии» и «Жертвоприношения» – там, мне кажется, и его свернуло в западную сторону, от общественного ближе к индивидуалистическому.
Несколько лет назад моя тогда 17-летняя дочь, собиравшаяся посвятить себя искусствоведению (и вроде посвятившая, пока – учится), посмотрела «Зеркало». И пришла в ужас. Не от картины. От себя. Бестолковой, неполноценной, ничего не понявшей, ничем в фильме (знаменитом, признанном уже тогда всеми!) не тронутой. Я не пришел в такой ужас от ее «неполноценности». Я понимал, что, несмотря на заявление Тарковского, в прологе фильма устами вылечившегося от заикания юноши: «Я могу говорить», – я понимал, что сам Тарковский в «Зеркале» без «заикания» говорить все-таки еще не мог: ведь снималось «Зеркало» лет за 10–15 до «Покаяния», во времена самого глухого и могучего застоя. И я стал пытаться расшифровывать дочери все или какие-то ключевые, как мне казалось, «заикания» фильма. В частности, историю с «опечаткой». Где, намой взгляд, гениально сказано, когда нельзя было говорить, – через чушь, ерунду (приснилось, показалось женщине, что она пропустила в самом «высоком» издании какую-то смешную опечатку, которую обязательно расценили бы как «вредительскую»!) обо всей эпохе «культа личности». Я пытался объяснить молодой современной девице, в какой обстановке страха жила тогда вся страна, все мы, наши родители… И вдруг жена добавляет: «И ответственности» …Да! И ответственности! И это жутко важно. Это – правда! Это положительная сторона того времени. Как страх – отрицательная. И одного без другого быть не могло. И в этом гениальность Тарковского-художника: в маленьком глупом эпизоде суметь показать время! Со всеми его ужасами, сложностями, достоинствами и недостатками.
Опять – где символизм? Какая религиозность? Высочайший реализм! На уровне всех мировых классических стандартов! А может, и повыше!

Кадр из фильма «Зеркало»
А как он работал! Наш брат-актер любит посмаковать всевозможные физические «страсти» и «ужасы», которые ему якобы приходилось выносить на съемочной площадке: как зимой лето снимают да по сколько дублей и т. п. Конечно, и у Тарковского на площадке всего этого хватало. Мою сцену скачки и рубки в «Рублеве» (когда мой Малый князь зарубил монаха-богомаза, мальчишку, которого играл не профессиональный актер, а студент какого-то московского техникума, по фамилии Матысик, как сейчас помню… и тот, перевернувшись от удара, падал рядом с жалобно вызванивающей пилой, а из разрубленной шеи била фонтанчиками алая артериальная кровь)… Все это было придумано, сочинено, оставалось воплотить. Как? Придумано было и сделано устройство для фонтанирования артериальной крови, найдена пила, которая, как требовалось режиссеру, покачивалась и повизгивала. Только моя спортивная лошадь никак не желала скакать вровень с операторской машиной (машина должна была останавливаться на заданной точке и дать возможность оператору В. И. Юсову, выпустив меня с лошадью из кадра, «наехать» на крупный план умирающего и фонтанирующего разрубленной шеей Матысика). Ну, не привыкла лошадь к этому! Всю ее жизнь она приучалась к обратному: не терпеть никого вровень с собой: можешь – обгоняй, не можешь… Только не вровень! Больше недели мы бились над этим кадром. Двумя руками я проводил ее вровень с камерой, а сабля? А рубить? А Андрею нужно было, чтоб сцена была снята только так, как он задумал, и никак иначе.
И вот каждое утро (по солнцу снимать можно было только часов до десяти утра, спасибо, не целый день), каждое утро, нацепив на себя сорок килограммов железа… ну пусть двадцать, но не меньше – тоже неплохо, не хило – взгромождался я на своего Лира, отдохнувшего, успокоившегося за ночь, и мы выезжали на «точку». При первом же звуке мегафона, через который нам подавали команду, моего Лира сотрясала нервная дрожь, и он, еще не сделав ни единого шага, вмиг покрывался пеной, от одного звука мегафона, именуемого у нас «матюкальником». Мое «княжеское» седло почему-то было обито жестью, как бабушкин сундук, и, как на сундуке, эта жесть лопалась и торчала в разные стороны, так что руки у меня были изодраны в клочья. И – все никак. Уже пошли разговоры: а не заменить ли лошадь? (А может, и артиста, подумал я сейчас. До меня, естественно, тогда доходили разговоры только о замене лошади, но могли ведь быть и другие разговоры, которые до меня не доходили…) Ну, вторую неделю бьемся – и все никак! Пока наконец не приехал опытный конник, прежний хозяин моего Лира, поставил какой-то «шпрунт», чтоб конь не мог голову задирать, – и сцена была снята. Еду я после этой съемки вдоль декорации, еле живой, истерзанный, измочаленный, на взмыленном, задерганном коне, а навстречу нам – Андрей. Я поднял саблю и направил на него, нашего «мучителя», коня. Не думаю, чтоб Андрей не понял, что это было обыкновенное дурачество, – хотя и не без доли истины, которая есть в каждой шутке, – но на всякий случай нырнул от нас под сруб какого-то амбара или сарая…

Малый князь (слева – Юрий Назаров)
Ну и что?!
Ну и что, что нас, вчера только впервые севших на лошадей, да еще на пугливых, нервных спортивных лошадей, – а нас гоняли по болоту! Да не по одному, по разным (болотам)! Да не по одному разу!! Хотя рядом была торная, твердая тропа, а нас – по болоту! А в болоте лошади вязли. Некоторые по пах. Вырывались оттуда обезумевшие, ошалелые, как ядро из пушки, шарахались и бросались со страху, сами не соображая куда (а «лошадь – животное очень сильное, но неразумное», – объясняют на первом же уроке всем, кто собирается заняться верховой ездой), – попробуй-ка тут усиди на ней!.. И опытный-то конник не всегда удержится, а уж мы… Особенно свита Великого князя в новелле «Колокол».
У Малого в «Набеге» в свите все-таки профессиональные конники были (кроме самого князя), а у Великого – актеры, игравшие вельмож, послов, стало быть, солидные, пожилые люди, давно пережившие свою молодость и молодечество, когда силы и здоровье кажутся безграничными и навечными, когда их (сил) действительно во много раз больше, и ты даже представить, вообразить себе не можешь, что их возможно когда-нибудь лишиться или потерять совсем. И некоторые у нас просто и откровенно боялись за свою жизнь.
Ну и что?
Это было счастье! И когда я смотрю фильм и вижу, что ни единой капли нашего ни пота, ни крови не пролито зря! Все было нужно. Необходимо! Все играет! А одну нашу шикарную проскачку с ханом (Болот Бейшеналиев) Андрей не удержался и через перебивку повторил!
Использовал оба дубля!! Да, тогда все трудности, все «страсти и ужасти» только усиливают ощущение и без того безграничного счастья. Счастья – участия в добром, нужном, праведном, славном деле. А что дело именно такое, почему-то сейчас кажется, – уверенность и убежденность в этом была прямо с самого начала. Да и как ей, этой уверенности, было не быть? Если везде и во всем, с первых же дней знакомства и работы, серьезнейшее отношение, глубочайшее проникновение в материал, высочайшая ответственность за все, что он делал.
Помнил Андрей своего контуженого военрука из школы, над которым они, школьники первых послевоенных лет, глупые и жестокие, как и положено в том их возрасте, измывались и издевались, потешаясь над его примитивизмом. И который спас их, идиотов, накрыв собой боевую (!) гранату, подкинутую кем-то из них в тире, где у них проходили уроки военного дела. Ценой собственной жизни спас их, своих мучителей. Только в фильме «Зеркало» Андрею не захотелось взрывать военрука, показалось, что так еще страшнее, еще пронзительнее прозвучит тема и их детской бездумной жестокости, и верности солдат Великой Отечественной своему долгу, делу спасения жизни на земле, делу спасения их, детей, глупых, жестоких, но своих же!
А не так же ли мы, наше общество, инфантильное, необразованное, недоразвитое и жестокое, гнало и отторгало в свое время самого Тарковского? А ведь он спасал нас! Спасал, пробуждая в нас мысль, любовь, милосердие, то есть человеческое, то, чем человек отличается, должен отличаться от животного, вытаскивал нас из мрака животной темноты к человечности, к свету, к милосердию, а мы… Вот Тарковский парадоксы наши уважал, не проходил мимо них!..
Помнил Андрей, что была у военрука травма черепа (попросту сказать, отсутствовал раздробленный кусок черепа) и носил он на голове какую-тот странную «чеплашку». Какую? Как это все могло быть? И могло ли? Андрей со мной и художником-гримером Верой Федоровной Рудиной едет в Институт имени Бурденко на консультацию. Да, вспоминают старые специалисты, теперь впаивают пластмассовые пластинки в череп, закрывая мозг при таких травмах, а тогда были вот такие «чеплашки», пластмассовые с дырочками, очень похожие на дуршлаги. Теперь как сделать пульсацию на голове с отсутствующим куском черепа? С меня снимают гипсовую маску, по слепку черепа делают резиновую основу с полостью внутри, сверху – парик с дырой там, где рана. (Под мышкой у меня была резиновая груша, от нее шел шланг к полости в резиновой основе парика.)
Такая подготовка к эпизоду, который снимался всего два или три дня! И почему я подчеркиваю реалистичность творчества Тарковского, когда в Японии его все знают, как великого мастера символического кино? Все! Кроме меня…
К истории меня всегда тянуло, еще с первого класса. Но в школе мне с историей не повезло, почему-то я ее не учил. Не знаю уж, кто здесь был виноватее: учителя, не сумевшие меня достаточным образом заинтересовать, или собственная могучая лень… И вот после «Рублева», наконец, я до истории добрался! Окунулся в нее, влез с наслаждением, с не иссякающим, не убывающим, а все возрастающим и возрастающим интересом и любопытством! Одно мне только непонятно: почему сегодня нашим детям так бедно, так непростительно мало и пресно преподают нашу героическую и трагическую историю?.. «Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости», – считал А. С. Пушкин. Можем мы что-нибудь ему на это возразить? Но мы возражаем! Постоянно. Всей нашей практикой, всем нашим упрямым, занудным, каким-то прямо-таки бараньим повторением и повторением собственных же ошибок!.. Какового ни унять, ни остановить не можем! А может, даже и не желаем… Не желаем! Ни знать, ни уважать прошедшего. Ни детей учить на его горьких и высоких примерах… Тысячу раз прав Пушкин, что только «дикость, подлость и невежество не уважает прошедшего, пресмыкаясь пред одним настоящим». Да мы же сами себя обкрадываем! Их уж всех давным-давно нет, тех героев наших, страдальцев, великих путаников, великомучеников… Им давным-давно ничегошеньки не надо. Это нам надо! Детям нашим. Внукам. Чтоб людьми быть, цивилизованной нацией. С историей. С памятью. С гордостью, с самосознанием…
Но и зато какая же перспектива у нас! Только бери, только копай! Тут тебе и неотразимая, прямо-таки коммерческая завлекательность, и углубляющее ум и расширяющее кругозор знание, и воспитание и души, и тела, и чести, и совести!.. «Эх ты, недотепа…» – давно хочется сказать всему нашему кинематографу, как ворчал когда-то в «Вишневом саде» у Чехова старый слуга Фирс…
Если бы не метаться нам в безумных подражаниях и копированиях из одной крайности в другую, если бы с душой да с головой окунуться в собственную историю, не закрывая, конечно же, глаз и на опыт других народов, но собственную-то поглубже, поосновательнее узнать! И ведь примеры есть у нас: как вон Тарковский проник во времена Андрея Рублева! И для нашего времени кое-что открыл, глубоко и с умом проникнув в XV-то век. Весь цивилизованный Запад, которому мы сейчас иззавидовались и исподражались, кинулся тогда подражать Тарковскому (!). Вспоминать собственную славу и гордость. Ну и что? Вышло у них что-нибудь?.. Не подражать надо. А думать. Искать.
И нам – тоже. А материал у нас – вон он, под ногами – наше золото, наше богатство неиссякаемое, наша история! Из которого Тарковский-то и копнул. Да как удачно!
После «Зеркала» мы как-то сидели, что-то отмечали в Доме литераторов. И вот там Андрей в том тосте за меня, о котором я упоминал вначале, сказал: «Юра, я тебе обещаю снимать тебя у себя всегда! – и тут же, слегка запнувшись, добавил: – Но я не могу обещать, что всегда буду снимать…»
На мой взгляд, по моему ощущению, весь Тарковский вышел из реалистической и демократической традиции русской классики. Но и вобрал в себя, не закрывая глаза, все достижения современного мирового кинематографа. То, что его волновали самые глобальные, самые насущные проблемы жизни общества, русского, родного, не какого-то человека вообще, а нашего, в нашей стране, в наше время – все это от русской классической традиции. Другое дело, что ему не дали в эту сторону развиваться. И все равно он успел высказаться! По самым больным современным вопросам. В XX веке у нас отмирала одна идеология (прежняя, многовековая, христианская). Правда, не столько сама отмирала, сколько ей помогали «отмереть» силой. Благодаря этой мудрой «помощи» сейчас наметилась временная «реанимация» этой «отмирающей». Но все это, по-моему, дела не меняет, только несколько удлиняет процесс. На смену отмирающей шла другая, но шла, как выяснилось, особенно в последнее время, не триумфальным, всепобеждающим шествием, а оступаясь, срываясь, отступая и дискредитируя себя в, казалось бы, самые благополучные и спокойные свои моменты – и о чем же фильмы Тарковского, русского художника, русского страдальца, мученика и грешника в это время – о совести! Это когда ему уже не дали развивать свою общественно-историческую, исследовательскую линию, так блестяще продемонстрированную в «Рублеве». После «Рублева» он не сидел сложа руки, он нес руководству студией сценарий за сценарием – и все они отвергались! (Один даже нас с Лапиковым касался.) Всего их было отвергнуто не меньше четырех, а то и больше. Не дали. Не дали!.. Тогда пошли фильмы о совести: «Солярис», «Зеркало», «Сталкер»…
В общем-то судьба Тарковского не уникальна, а тоже в традиции русского отношения к своей гордости, к своим мастерам…
В. И. Баженов (1737 или 1738–1799) был академиком шести европейских академий. Перед его гением преклонялась Европа эпохи Просвещения. Ему предлагали перестройку Лувра! Он предпочел вернуться в «любезное отечество»… И «любезное отечество» ни-че-го не дало ему сделать. В век просвещеннейшей русской императрицы Екатерины Великой! (А что давали сделать, то тут же по завершении ломали!) И это ему, академику шести европейских академий! И это – Екатерина Великая, одна из самых просвещеннейших правительниц во всей мировой истории!.. Все, что он сделал, что ему дали сделать, дало не отечество (официальное), а отставной генерал-аншеф Пашков! Назло царствующей императрице заказал Баженову дом, которым мы сейчас радуемся и гордимся и который у нас едва не рухнул и не потонул в тоннелях Московского метрополитена…
Была у меня думка предложить Андрею эту тему, про В. И. Баженова. Кто его знает, может, и не тронула бы она его, а может… Хорошая тема, мне кажется. Ну, да теперь уж…
В фильме «Сибирский дед» (в создании его сценария принимал участие друг Тарковского А. С. Макаров) был у меня, «поручика Тихомирова», с моим партнером такой диалог: мой товарищ по фильму, молодой князь, которого играл ныне видный американский художник Толя Иванов, в каком-то извечном российском споре на бесконечную российскую тему не то «что делать», не то «кто виноват» спрашивал в раздражении моего поручика:
– Да при чем тут Россия?
– Да при всем она, милый мой Сережа, – ласково и мудро отвечал мой бывалый и трагический поручик.
Вот и у моего Тарковского – при всем она. Да! При всем. И теперь уж их не разделить: Россию и Тарковского… Хотя будут еще стараться. И японские «товарищи»… И шведские, и польские… И наши (вот только не знаю «головы» или «руки»?). Но будут, будут и наши стараться, чтоб перед японцами или шведами глупыми не показаться, и символизм, и религиозность в нем находить… Я как-то без японцев и шведов его люблю, по-своему. Не совсем уютно, конечно, себя чувствуешь, когда ты не в русле всеобщего просвещенного мнения. Ну да память, верная моя память похлопывает меня сзади по плечу и успокаивает: «Не дрейфь! Прав! Ты прав! Я с тобой! Не дрейфь!» А может, я прибедняюсь? Может, я не так уж и одинок в этом своем упрямстве?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































