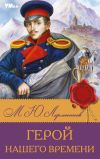Текст книги "Стален"
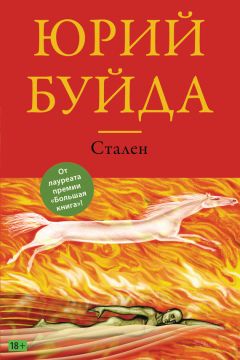
Автор книги: Юрий Буйда
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Замок в ее двери был давно сломан, и если Лариске хотелось выспаться, она запиралась на чайную ложечку. Вбила в дверь и дверной косяк петли – в них и засовывала чайную ложечку. Но если надо было открыть дверь, достаточно было навалиться на нее плечом, и ложечка из дешевого алюминиевого сплава с хрустом ломалась пополам. Под кроватью у Лариски стояла трехлитровая банка с алюминиевыми обломками. Сколько таких банок она вынесла на помойку, никто сосчитать не брался.
Я получал стипендию, кое-какие деньги от отца и еще зарплату в качестве санитара в больнице – денег у меня было достаточно, чтобы пригласить Лариску в кафе. Она выделяла меня из толпы кобелей, пожалуй, только потому, что они стеснялись или боялись появляться с нею на людях, а я – нет.
Ее отец умер в тюрьме, куда попал за убийство сыновей, втроем трахавших четырнадцатилетнюю сестру в бане, а мать сошла с ума и бросилась в глубокий колодец, откуда ее не могли достать два дня, и все это время она там стонала, плакала и просила воды.
Лариска смеялась, рассказывая о матери, умиравшей на дне узкого колодца, и передразнивала ее, прикладывая ко рту руки и крича гулким голосом: «Воды! Воды!» После похорон матери девочка попала в семью дяди, который приставал к ней, пока она – тут Лариска опять начинала хохотать – не пырнула его ножом в задницу.
– Что ж тут смешного, Лариска? – сказал я. – Кровосмешение, убийства, безумие, мрак, чувство вины, травма на всю жизнь и все такое, а ты – ты смеешься! Братья убиты, отец и мать умерли – и все, в общем-то, из-за тебя… если бы у нас был возможен фрейдистский роман, ты была бы главной героиней…
– Это ж баня, в бане все так делают… а отец у нас нервный был, болел часто, вот и сорвался…
– Да ведь я не об этом…
Лариска вздохнула.
– У моей бабушки отца убили, моего прадеда, он был священником, и его колхозные активисты топорами зарубили, а его жену, мою прабабушку, изнасиловали на глазах у детей. Потом этих убийц закатали на Колыму, но не за убийство, убийство им простили, конечно, а за какое-то вредительство в колхозе – тогда любой мог стать вредителем. И бабушка с их женами и детьми горе горевала, хлеб делила и чай с сушеной морковкой пила. Детей вместе растили, голод вместе голодали… Отец мой как-то спросил, почему она всех простила, а бабушка и говорит: «Если у нас все зло помнить, придется всем всех убивать». Либо жить, либо помнить – вот тебе и вся Россия, Игруев, – старушечьим нравоучительным тоном сказала она. – А ты все – Достоевский, Фрейд, Сталин, Россия, загадка русской души… – Зашептала, шаря по мне руками: – Давай-ка сюда своего сталина – у меня уже вся россия пожаром горит…
Весной вернулся из армии ее муж. Он напился и часа два таскал голую жену за волосы по коридорам общежития, потом они помирились, защитили свои дипломы и по распределению уехали в деревню на границе с Казахстаном, где у них вскоре родился второй ребенок.
А я подал заявление о переводе на заочное отделение.
В заявлении была указана причина – «по семейным обстоятельствам»: отец перенес сложную нейрохирургическую операцию и нуждался в уходе.
На самом-то деле мне просто все надоело – университет, алюминиевые ложечки, жизнь, казавшаяся бессмысленной и невыносимой…
Глава 8,
в которой говорится о красивых бедрах, духовности и русских новаторах
Мать окончила библиотечный техникум, но в библиотеке любила не книги, а чистоту, фикусы и универсальную систему классификации.
Она чувствовала себя одинокой рядом с больными детьми и не находила понимания у мужа, который только смеялся над ее страхами. Мне было жаль ее, но какое ж это было облегчение, когда после развода с отцом она исчезла из нашей жизни: наконец-то я мог спокойно мочиться в туалете, не думая о том, что мать подслушивает за дверью, подозревая, что я занимаюсь онанизмом.
Мать говорила, что я пошел «не в нее». Но уж точно и не в отца.
Он был командиром авиационного полка, летчиком-снайпером, красавцем, веселым выпивохой, любимцем женщин, повелителем судьбы. В центре его мира находились, конечно же, самолеты и летчики, власть и воля, потом друзья и жена, а где-то по дальней орбите, среди мощных мотоциклов и красивых женских ножек, летел я, иногда скрываясь в полутьме этого космоса, но никогда не теряясь в его ледяных просторах. Отец бывал веселым и сердитым, трезвым и пьяным, справедливым и несправедливым, но никогда не забывал, что я принадлежу его миру, а не чуждому и опасному, как считала мать.
После смерти дочери, тяжелого ранения и контузии, после развода с женой, после увольнения из армии по состоянию здоровья его космос рухнул.
Армия была формой и смыслом его жизни, а в новой жизни он был инвалидом, терялся, все его раздражало – необходимость регулярно ходить в сберкассу, чтоб заплатить за квартиру, следить за показаниями электросчетчика, заниматься уборкой квартиры, покупать продукты, гладить белье. Оживал, когда в его жизни появлялись женщины, которые брали на себя заботы о его доме и его эрекции, но вскоре снова впадал в депрессию, начинал кричать по ночам, терял сознание на улице…
Мое возвращение домой совпало с днем рождения отца.
Он был в соломенной шляпе, натянутой до ушей на обритую голову. Потягивая коньяк, он курил одну за другой, стряхивая пепел в чашку, которую ему подносила пышная женщина, сидевшая рядом, и всякий раз церемонно благодарил: «Спасибо, Австралия моей души». Она смущенно улыбалась и краснела, поправляя то прическу, то браслеты на пухлой руке, сползавшие к локтю, то бусы, привлекавшие внимание к содержательному декольте.
Вторая женщина, Жанна, похожая на девочку-подростка, худенькая, рыжеватая, с зеленоватыми красивыми глазами и тонкими губами, хрипло хохотала и ехидно щурилась, поглядывая на меня.
В конце вечера она вдруг попросила проводить ее до дома.
Жанна оказалась ответственным секретарем городской газеты и готова была рекомендовать меня главному редактору: «Но сначала надо посмотреть, на что вы способны».
Мы заговорили о Германе Гессе – она обожала «Игру в бисер», а я «Степного волка», потом Жанна сказала, что Бахтин, конечно, и предположить не мог, что с его помощью Достоевский может быть так эффективно обеззаражен, лишен религиозного, нравственного смысла и сведен, по сути, к набору приемов, к карнавальности, полифонии и прочей чепухе. Еще я узнал, что она давно разведена, сыновья учатся в военных училищах, дома у нее припасен коньяк, а в прихожей, глядя мне в глаза, сказала, что груди у нее острые, маленькие, торчащие в разные стороны, как у истерички, но зато – ткнула пальцем в мою грудь – жопа хоть куда, и она умеет держать себя в чужих руках, но только чур соски не кусать…
Весь следующий день – было воскресенье – мы занимались любовью.
Жанна рассказывала о бывшем муже, с которым прожила всего три года.
Он был политработником, но считал себя художником, спился, едва дослужившись до капитана, был выгнан из армии с позором и исчез из Кумского Острога. По словам Жанны, он был клиническим жидоедом. Считал, что евреи придумали Христа для порабощения простодушных русских людей. На память о нем у Жанны осталась огромная менора, которую ее муж вырезал из дерева. Каждая из семи свечей была увенчана одним из символов – топором, виселицей, золотой монетой, бутылкой водки, кнутом, головой Ленина, голой бабой, при помощи которых злокозненные евреи растлевали, угнетали и убивали русский народ. Голая баба была вылитой Жанной.
Поздно вечером она выставила меня за дверь, велев с утра пораньше явиться в редакцию.
Мы встречались много лет, весь городок знал о наших отношениях, но поскольку за все это время мы ни разу не появлялись вместе ни в кино, ни в ресторане, ни в каком-либо еще общественном месте, считалось, что никакой связи у нас как бы нет.
Первое редакционное задание я выполнил с блеском и провалил с грохотом.
Жанна отправила меня в деревню Семеновку, чтобы я привез оттуда «теплую лирическую зарисовку» об Анне Дерюгиной, которая воспитывала семерых детей.
Ехидно щурясь, Жанна объяснила, что сегодняшняя советская героиня – не космонавт, доярка или секретарь парткома, а мать, жена, хозяйка: «Киндер, кюхе, кирхе по-советски, только вместо кирхе – телевизор или партсобрание. Задача ясна?»
Мы с фотокорреспондентом по имени Ревокат с утра пораньше отправились в Семеновку, встретились с матерью-героиней и ее мужем, поговорили с соседями, директором совхоза, председателем профкома и к вечеру вернулись домой.
Анна Дерюгина мне понравилась. Это была крупная женщина, сохранившая прекрасную фигуру. Простоватая, чистая, улыбчивая, легкая на ногу, с ясными серыми глазами и красивыми губами, она была снова беременна, но успевала ухаживать за детьми, скотиной, огородом да еще выполняла обязанности почтальонки. Ее муж Николай был под стать ей: огромный мужчина в чистой спецовке, один из лучших трактористов в совхозе. Соседи считали Дерюгиных хорошей семьей, но при этом с двумсысленной улыбочкой добавляли: «Только больно шумные, особенно по ночам. Аж дом ходуном ходит».
Николай весело пояснил: «Любим мы поорать, это да».
Его жена – весила она не меньше ста двадцати кило – смутилась и вышла из комнаты, покачивая красивыми широкими бедрами.
На следующее утро я принес в редакцию «теплую лирическую зарисовку» о многодетной семье, умолчав, разумеется, о ночных забавах Дерюгиных.
Машинистка перепечатала текст за полчаса.
Мне потребовалось еще полчаса, чтобы перечитать зарисовку и кое-где ее поправить.
Жанна заменила несколько слов, кивнула и подписала текст в набор.
Корректор вычитала текст в гранках и в полосе.
Главный редактор и дежурный по номеру внимательно прочитали зарисовку в полосе и поставили визу «в печать».
Утром разразился скандал.
Возмущенные читатели звонили в горком партии, главного редактора срочно вызвали к первому секретарю «на ковер», Жанна глотала таблетки, запивая их чем-то темным из чайного стакана, сотрудники газеты в своих кабинетах ждали конца света, а я сидел в скверике напротив редакции, пытался читать «Иностранную литературу» и курил сигарету за сигаретой, уже почти смирившись с тем, что штатной должности в редакции мне не видать, и снова дивился тому, как я мог сморозить такую глупость.
Никто не мог понять, как эта глупость могла дойти до читателя.
Перед публикацией текст читали, кроме меня, пять человек – и никто не заметил этой ошибки, никто. Это нельзя было объяснить ничем, кроме как внезапным помрачением сознания, случившегося у всех, кто был причастен к выходу в свет текста, в котором черным по белому было написано «покачивая красивыми бедрами».
Покачивая красивыми бедрами!
Три слова, три ужасных, три недопустимых слова!
Эти три слова, разошедшиеся по городу и району двенадцатитысячным тиражом, поставили под сомнение репутацию партийной газеты, горкома партии и Совета народных депутатов, от имени которых газета вела разговор с читателями, эти три слова подрывали доверие читателей к партийному слову, к советской печати, ко всем советским китам и слонам, на которых держался советский мир.
Женщина в газетной публикации могла быть умной, стойкой, сильной, заботливой, умелой, опытной или, напротив, – неряшливой, пьяной, равнодушной, ленивой, безответственной, но о том, чтобы она ходила, покачивая красивыми бедрами, не могло быть и речи, потому что не могло быть ни за что. Ни груди, ни глаз, ни бедер, ни ягодиц, ни каких либо других половых признаков у женщины быть не могло.
Покачивая красивыми бедрами…
Разверзлась советская преисподняя, и все ужаснулись, увидев «жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами…»
Наконец появился главный редактор Николай Иванович Головин.
Он издали поманил меня пальцем.
Мы поднялись в его кабинет.
Головин закурил, кивнул, разрешая закурить и мне, и спросил:
– Кто ваш любимый писатель, Игруев?
– Свифт, наверное, – сказал я. – Джонатан Свифт.
– Что ж, только мизантроп мог написать такое о женщине, не задумываясь о последствиях… – Главный вздохнул. – Этой Дерюгиной, вашей героине, теперь в деревне всю жизнь будут поминать ее бедра. Из соседних деревень будут приезжать, чтоб посмотреть, что за бедра у нее такие. Муж ее напился, по улице бегал с топором – грозился вас в лапшу порубить. Еле-еле его милиция успокоила. В общем… – Он ткнул сигарету в пепельницу. – Где ваше заявление?
Я не понял, о чем он спрашивает, потому что заявление о приеме на работу я не писал, а значит, не мог написать и заявление «по собственному».
– Я еще не писал, – растерянно проговорил я.
– Как дурь какую-нибудь, так пожалуйста, а как заявление о приеме на работу, так он не писал! – Придвинул ко мне пачку писчей бумаги, протянул ручку с золотым пером и стал диктовать: – Прошу принять меня на работу в редакцию газеты «Знамя коммунизма» в качестве корреспондента…
Выйдя из его кабинета, я заглянул к Жанне.
– Закрой дверь, – сказала она. – Что?
– Принят корреспондентом с окладом согласно штатному расписанию. Сто двадцать пять рэ в месяц.
Она протянула мне ключ:
– Иди ко мне – скоро буду.
Я пришел к ней домой, сел в кресло и проспал до вечера, скорчившись в неудобной позе.
Проснулся вовремя – Жанна заканчивала готовить ужин.
Всю ночь мы отмечали мое поступление в редакцию.
Жанна рассказывала о Головине, который пообещал секретарям горкома «присматривать за этим парнем», и дефилировала голышом по гостиной со стаканом коньяка на голове, пытаясь изобразить ту самую походку, скандализировавшую целомудренную общественность, и при этом не расплескать напиток.
На следующее утро главный редактор представил меня сотрудникам, собравшимся в его кабинете:
– Итак, перед вами Стален Станиславович Игруев, который сегодня вливается в наш дружный коллектив, покачивая красивыми бедрами…
Это выражение преследовало меня много лет, до самого отъезда в Москву.
Мне хотелось написать великую книгу, и меня раздражали люди, обсуждающие похождения Аллы Пугачевой, спорящие о целебных свойствах пчелиного говна и мечтающие о дешевом мясе. Одномерные люди, плоскостопый юмор, травоядная жизнь. Казалось, на сто, на двести, на тысячу верст вокруг не было ни одного Ивана Карамазова, ни одного Пьера Безухова, даже ни одного, черт бы его взял, Базарова – никого, кто был готов и способен обсуждать жизнь духа, «русскую идею» и будущее России, спорить о Боге, дьяволе и предназначении человека, мечтать о любви и свободе…
– Жизнь духа… – Жанна покачала головой. – К сожалению, тут все просто. За семьдесят лет Россия только в войнах потеряла больше тридцати миллионов человек. Страх перед физическим уничтожением – а он у нас стал генетическим – убивает жизнь духа, вызывает необратимые изменения в душе нации…
– Приятно, конечно, думать, что во всем виновата история…
– А еще твоя близорукость и, прямо скажем, тугоумие, – подхватила Жанна. – Ты плохо видишь, поэтому не сразу можешь понять, кто и что перед тобой, а потом долго решаешь, не ошибся ли ты, боишься, что тебя не поймут, пытаешься выразиться точнее, яснее, короче и зачеркиваешь, зачеркиваешь, зачеркиваешь…
– И получается так, как получается, – мрачно резюмировал я.
– Черт возьми, я уже полчаса лежу перед тобой голая, как яблоко, а ты этого, кажется, даже не замечаешь! А ведь завтра рано вставать…
Неподалеку от горкома партии, на соседней улице, стояло приземистое здание с колоннами, фронтон которого был украшен лепными профилями Пушкина, Толстого и Горького, обрамленными лавровыми венками из гипса. Это была городская библиотека.
Главной ее достопримечательностью была зигзагообразная трещина на потолке вестибюля. Говорили, что она появилась в начале шестидесятых, в тот день, когда на одном из близлежащих полигонов испытали мощный термоядерный заряд, взорванный глубоко под землей.
Мой отец и его друзья-офицеры считали эту историю легендой, но многие старожилы уверяли, что после того взрыва в городе стали рождаться дети, которые не умели плакать.
В будние дни библиотека пустовала, но и по выходным народу здесь бывало немного. Библиотекари вспоминали пятидесятые-шестидесятые годы, когда к их конторкам выстраивались длинные очереди, а в читальных залах было не продохнуть от запаха гуталина и духов «Красная Москва». Сейчас же если и случались очереди, так разве что за фантастикой, которая уносила читателей подальше от вечной «битвы за урожай» и «нерушимого единства партии и народа».
А самым запойным читателем Лема, Азимова, Брэдбери, Стругацких, Кобо Абэ и Саймака был главный редактор газеты «Знамя коммунизма» Николай Иванович Головин, член бюро горкома КПСС и депутат городского Совета народных депутатов.
Дома подвыпивший отец включал телевизор на полную громкость и перекрикивался с Австралией, которая возилась в кухне, а у Жанны я только ночевал. Поэтому читальный зал городской библиотеки стал чем-то вроде моего рабочего кабинета.
Я строчил текст, который утром должен был сдать в редакцию, а Николай Иванович делал выписки из Антонио Грамши, Дьердя Лукача или «Экономическо-философских рукописей 1844 года».
В девять раздавался звонок – библиотека закрывалась.
Однажды, провожая Головина до дома, я заговорил о Свифте, которого принято считать великим человеконенавистником, с чем я был не согласен, считая, что его мизантропия – лишь одно из проявлений его едкой иронии.
Николай Иванович заметил, что мизантропия вообще свойственна всякой глубокой мысли о человеке, и процитировал Альберти: «Есть ли животное более злобное и настолько же ненавидимое всеми остальными, как человек?»
Для меня Альберти был гуманистом и архитектором эпохи Возрождения, упомянутым среди прочих имен в университетском учебнике, а для Николая Ивановича – фигурой трагической, мыслителем, скептически относившимся к попыткам обожествления человека, которые предпринимались его современниками: «По мнению Альберти, мысль о том, что homines hominum causa natos esse – люди сотворены для людей, привела бы в восторг самого дьявола».
Потом он с грустью заговорил о том, что невозможно построить рай на земле, в непреображенном мире, и предположил, что Хрущев руководствовался именно этой пессимистической логикой, когда убирал из программных документов КПСС идею мировой революции и диктатуры пролетариата.
По словам Головина, именно тогда, в конце пятидесятых – начале шестидесятых, стало окончательно ясно, что у Советского Союза не хватит сил, чтобы построить коммунизм во всем мире. А в отдельно взятой стране это невозможно, с горечью резюмировал Николай Иванович. Коммунизм с божественным ликом пал до социализма с человеческим лицом, утверждающим все ту же дьявольскую идею – homines hominum causa natos esse. И заметьте, продолжал Головин, именно тогда, в начале шестидесятых, из литературной фантастики ушло будущее, ушла мечта – остались монстры да фига в кармане. Русские новаторы смирились с правдой простого человека, с правдой обывателя, и что ж, эта правда в самом деле заслуживает уважения: чтобы жить и воспроизводить жизнь изо дня в день, обывателю нужна опора, а революционный порыв, революционный пожар и поток, понятно, опорой служить не могут, да и потока-то давно нет – так, болото, реализм без берегов. Мы должны понять этого самого обывателя в том, в чем он сам себя не понимает, но что осуществляет на практике, воспроизводя условия общественного бытия, а не разрушая их. Обыватель не может смириться с тем, что сущность общественного бытия сводится к некоей объективной силе, складывающейся из произвольных актов людей и безразличной к требованиям ума и сердца простого человека. Обыватель не может смириться с роковой свободой в духе Ницше, он не может смириться с бездомностью…
– Но мы заболтались, – вдруг спохватился Николай Иванович.
Я взглянул на часы – было два часа ночи.
Вернувшись домой, я первым делом записал все, что запомнилось из разговора с Головиным, точнее, из его монолога, и только после этого перевел дух.
Боже ж ты мой, думал я, как же он одинок!
Боже ж ты мой, думал я, как ему, оказывается, хотелось выговориться, поговорить с человеком, который хотя бы понаслышке знает об Альберти, Колюччо Салютати или Пико делла Мирандоле!
Боже ж ты мой, думал я, какая огромная, постоянная и неустанная интеллектуальная работа, эти часы, проведенные над Лениным, Роже Гароди и Михаилом Лифшицем, с которым, как признался Головин, он состоял в переписке!
Боже ж ты мой, состоял в переписке!
А завтра на утренней планерке он потребует срочно составить редакционный план освещения социалистического соревнования трудящихся города и района под девизом «Двадцать седьмому съезду КПСС – двадцать семь ударных недель!»
Боже ж ты мой…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?