Текст книги "Март"
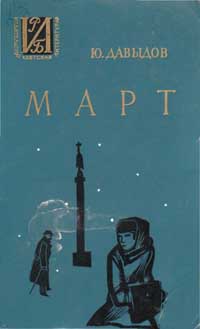
Автор книги: Юрий Давыдов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 23 страниц)
Глава 12 «СРОКОВ УЖЕ НЕ ДАНО…»
Адрес желябовской квартиры решили установить нехитрым, хотя и громоздким способом, которым нередко пользовалась полиция. По этой вот причине и возили Желябова из крепости в градоначальство, на Гороховую улицу. Возили днем. Желябов припадал к жидким миткалевым шторкам каретного оконца.
Раньше Петербург был Желябову большим, людным городом, и только. Он, конечно, сознавал значение Петербурга, но не испытывал к нему никакой приязни. В иных обстоятельствах Желябов предпочел бы деревню любому городу, исключая, быть может, Одессу, которую любил с юности, и любил несколько сентиментально… Но теперь он глядел на Петербург иными глазами. Теперь это были улицы, перекрестки, мосты и площади, на которых вдруг могла мелькнуть Сонюшка. Теперь это был его город: он прожил здесь самые страшные и самые счастливые месяцы своей жизни. Но было еще нечто в облике Петербурга, проносившегося за шторкой тюремной кареты; Желябов чувствовал тяжеловесное, сумрачное упорство града на топях, где многое сошлось лбами, стиснулось и перепуталось.
На Гороховую, в градоначальство, сгоняли дворников. «Злодея» сажали в зале. Дворники чередою, как на похоронах, шли через зал, и уж кто-нибудь да и узнавал «своего жильца».
Опознаватели наносили запах прелых мётел, смазных сапог. На булыжных лицах было испуганное любопытство и старание не оплошать.
Андрей озоровал: то многозначительно подмигнет, то приятельски улыбнется. У дворников твердели скулы, дворники шмыгали носами, убыстряли шаг, а один из них, опешив, брякнул:
– А ты это, знаешь, брось, я тебя впервой вижу.
– Вот те раз! – будто приобиделся Желябов. – Нешто не помнишь, а?
– Ваше благородь, – залопотал дворник, озираясь. – Ну чего он? А? Истинный господь, впервой вижу, провалиться мне на этом месте…
– Иди, иди, – сдерживая улыбку, проводили его офицеры, понимая, что Желябов валяет дурака, и уже намеревался сделать ему внушение, как вошли дворники из Теплого переулка. Вошли, обомлели:
– Царица небесная, господин Слатвинский…
* * *
В дом на углу Первой роты и Теплого переулка вломился околоточный с полицейскими.
Квартирка номер двадцать три оказалась такой, каких в Петербурге тьма. Ну ничем не примечательная квартирка с кисейными, в мелкий цветочек занавесками и дешевенькой мебелишкой. У медного самовара, давно не чищенного, ручка отломана. Тарелки щербатые, фаянсовый умывальник в рыжих трещинах. На полочке – мыло, зубной порошок, бутылка с уксусом.
После обыска опять погнали дворников на Гороховую. Харитон Петушков самолично отправился, а младший, Гришка Афанасьев, тот – с супружницей. Арина – баба умная, оборотливая, лавку держит, потребуется Арина-то при солидном разговоре.
Офицер секретного отделения сразу и говорит:
– Как же это, братцы? Такой, можно сказать, атаман жил, а вы и глазом не моргнули?
Но дворники не сробели – офицер, видать, обходительный, веселый.
– Ну ладно. – Офицер закуривает, перышко берет. – Вы вот что, по всей правде, по совести отвечайте.
– Мы завсегда, ваше благородь, – поспешает Петушков, потому как он, значит, старшой.
– Жилец-то ваш, Слатвинский, один ли жил?
– Зачем один, ваше благородь? Оне с сестрицей проживанье имели, с госпожой Войновой. А она, ваше благородь, Войнова-то, приписалась у нас прежде братца.
– Войнова? Очень интересно… Тэк-с. Ну, а кто ж из вас и когда эту самую Войнову в последний раз видел?
Петушков с Гришкой перешепнулся, Гришка – с Ариной. Решено было, что вот она, Арина, последней госпожу-то Войнову и видела. В субботу, аккурат посля обеда. Забегла эта самая Войнова в Аринину лавку, коленкору купила, а после уж ни слуху ни духу.
Офицер перебросил папироску в губах, почеркал перышком и предложил:
– Опишите внешность.
– Чего?
– Внешность, говорю опишите. Наружность.
Петушков с ноги на ногу переступил.
– К примеру, меня взять, ваше благородь, не обучен писать. Вот, может, она…
Арина закраснелась:
– Писать, господин ахвицер способная. А как вы это изволите? Внешность…
– Писать не надо, – улыбнулся офицер. – На словах надо. Из себя какая?
– Маленькая, – ободрился Петушков, – не в теле.
– Не в теле, – поддакнул Гришка. – Это точно. Маленькая.
– Глазастая, – добавила лавочница, – и на барыню вовсе не похожие.
И заладили: «маленькая» да «не в теле», «глазастая» да «обходительная». Офицер усмехался, хмыкал, а потом и осерчал.
– Да мы их, ваше благородь, – замигал Петушков, – мы их, что господина Слатвинского, что сестрицу евоную, можно сказать, которых и вовсе мало видели. Люди, можно сказать, тихие, неприметные. Ну, жили и жили…
– А в мою-то заведению, – ввязалась Арина, – эт-та Воинова, господин ахвицер, раза два всего-то и заглядывала. Они все больше к Луизке. Прислуги не держали, потому, видать, господишки так себе, вот, значит, прислуги не держали, так она сама все за харчами шнырь-шнырь. И все к Луизке, к Луизке. А Луизка, крест святой, что твой ворон. У ей что? У ей, ваше благородь, может, и чисто, да так чисто, что с души воротит. Верите ли…
– Погоди трещать, – оборвал офицер. – Что за Луизка? Где живет?
Но Арина, быструха языкатая, не гляди, что офицер серчает, знай свое: Луизка такая, Луизка сякая. Гришки уж смекает, что сейчас гром грянет, офицер сейчас по мордасам съездит, ну и защемил жену за бок. Арина охнула и онемела.
Расспросив про «Луизку» и выяснив, что оная Луиза Сундберг – хозяйка мелочной лавки на той же улице, офицер секретного отделения отпустил свидетелей.
В градоначальство потребовали Луизку.
Да, она, Сундберг, действительно почти каждый день виделась с Войновой: Войнова у нее покупала провизию.
– О, конечно, – рассуждала девица Сундберг, взмахивая белесыми ресницами, – у них в доме тоже есть лавочка, но, помилуйте, кто же рискнет в этакую-то грязищу?
– Простите, – галантно затормозил офицер, – простите, это, разумеется, прискорбно, коли грязь. Живи я рядом, счел бы удовольствием посылать только к вам. (Луиза признательно улыбнулась.) Но скажите, пожалуйста, смогли бы вы оказать нам услугу? Благодарю вас… Итак, встретив Войнову, вы узнали бы ее? Да? Великолепно, мадемуазель. О-о, мы в долгу не останемся. Вам придется на некоторое время покинуть ваш прелестный магазин. Что-с? Сейчас объясню, сейчас…
Они расстались приятельски.
На следующее утро пролетка с околоточным дожидалась девицу Сундберг.
* * *
Впереди мерно двигался конвой его величества и эскадрон гусар. За гусарами тупо сургучили шаг павловцы и гренадеры. Сорок дворцовых лакеев траурно вышагивали по четыре в ряд. Восьмерка слепых лошадей влекла огромную колесницу. По обеим сторонам катафалка шестьдесят отроков-пажей воздевали зажженные факелы.
За мертвым Александром шел живой Александр. За живым Александром – великие князья и великие княгини. Шли герцог и герцогиня Эдинбургские; кронпринц германский Фридрих-Вильгельм; наследный принц Мекленбург-Шверинский; эрцгерцог австрийский Карл-Людвиг; наследный принц английский Альберт-Эдуард; наследный принц датский Христиан-Фридрих-Вильгельм…
Петербургское небо как замерзшее болото. Петербургская жижа под ногами. Барабанщики деревянно и грозно отбивают войсковые сигналы – «поход» и «молитву». Глухо, как во сне, палят пушки, черным гулом гудят колокола.
Войска брали «на караул». Но за шпалерами войск никто не снимал шапки – за шпалерами не было публики. В пустых улицах текли катафалк, герцоги, генералы, пажи, а публики не было, публика не допускалась. Ведь только вчера открыли на Малой Садовой подземную галерею, извлекли из нее динамитную мину. Но злодеи исчезли, сырный магазин был пуст. Не надо публики, не надо толп. Пусть тонкий отблеск штыков, пусть рокот «похода» и «молитвы».
За мертвым Александром шел живой Александр. Он не обрушил на преступников мгновенного возмездия. Он отменил немедленный суд над злодеями. Следует изловить всю шайку? Да, это так. Но по чести, главное – в ином: в ответ на казни соумышленники могли совершить второе покушение. Они могли, впрочем, швырнуть бомбу и до казни однобрашников. Вот хоть на пути похоронной процессии. Вот хоть сейчас на этой улице, с той крыши, из ближайшей подворотни. Шлепнется бомба, как мяч, разнесет в клочья.
Толстый, бородатый, тяжелый человек, еще не коронованный в кремлевском соборе, но уже царствующий, изнемогал от страха, от ожидания, от этой глухой прощальной пушечной пальбы.
Изнемогая, он, лишенный воображения и юмора, вдруг вообразил картину нелепую и жуткую: как нигилистская бомба ухнет… в гроб. И полетят вверх тормашками останки, плюмажи, вся эта парчовая, золототканая трень-брень… Его толстые щеки подрагивали, глаза были утуплены, широкие плечи опущены. Он слышал барабанный бой, строевой отчетливый шаг, слышал смолистый запах факелов, надушенных телес и конского навоза. А видел мысленно, как ухает нигилистская бомба в гроб, и эта жуткая нелепица отвлекала его, успокаивала.
Но юмор требует известного мужества. У Александра Третьего если оно и было, то, право, не в избытке. И страх ожидания опять и опять настигал императора. Проклятый город, подумал он, какие огромные расстояния. Семнадцать мин, подумал он, семнадцать мин.
Новый градоначальник, из моряков, капитан первого ранга, не отличавшийся на водах, отличался на суше: велел рыть траншеи у Зимнего и уверял, что уже перерезаны проволоки от семнадцати мин.
Семнадцать, думал Александр, – его особенно ужасало число. Почему же именно семнадцать? Тотлебен, севастопольский Тотлебен, утверждает, что злодей, взорвавший малую столовую, имел техническую возможность поднять на воздух весь Зимний, не сделал этого лишь из сострадания к челяди… Нет, в Зимнем не житье, не житье, не житье… И Аничков дворец небезопасен, весь Петербург небезопасен. Проклятый город, какие огромные расстояния… Надо укрыться в Гатчине, в надежном гатчинском замке. Похоже на бегство несчастного Людовика Шестнадцатого из Парижа в Варенн? Пусть! В Гатчину, в Гатчину… Только поскорее бы развязаться со всем, что требует непременного присутствия в этом ненавистном городе.
Шестьдесят пажей воздевали факелы. Пламя металось и трещало. Белые лошади влекли катафалк. Павловцы и гренадеры отбивали шаг. Как хорошо, что публика не допущена. Ах, скорее бы крепость, собор…
* * *
…На звоннице, что рядом с Крюковым каналом, плясали, как полотеры, пономари Никольского собора. И вскидывали, и разбрасывали руки, будто в огне горели.
С моря, из-за кронштадтских фортов, наваливал тяжелый властный ветер, душил колокольный звон, гнал воздух, волглый и тусклый.
У Софьи стыли ноги, плечи, спина. Она сжалась на скамейке близ Никольского собора. Серое перо на шапочке дрожало. Придет Рита и скажет. А тогда… Софья не знала, что будет тогда. Не знала и не думала об этом «тогда». Придет Рита и скажет. Рита, где же ты? Рита придет и скажет… И назойливо, до тошноты лезла в глаза вывеска казенного дома: «Финляндская паспортная экспедиция».
Глухо, как во сне, палили пушки. Ветер мрачно наваливал с Балтики, душил колокольный звон, а пономари все поплясывали на звоннице, вскидывали, вскидывали черные руки.
Денис видел Софью. Он видел, как коченеет она, недвижная, съежившаяся, на скамейке близ Никольского собора. Нет, нельзя ему, никак нельзя подойти к ней, взять ее за руку. Почему нельзя – Денис не знал. Знал: она должна в одиночестве дождаться этой Риты и, дождавшись, один на один выслушать Риту.
Позавчера на Малой Пушкарской Денис встретил солдата крепостной команды, и Платон Вишняков сказал, что бородатый арестант Екатерининской куртины объявил начальству о своем участии в деле первого марта.
Зачем это сделал Андрей?.. «Как не понять? – говорила Софья, в голосе ее слышалась горестная гордость. – Как не понять? Процесс против Рысакова вышел бы слишком бледным». Денис заглянул в ее глаза. Увидел не горестную гордость, нет, слабую, слабую лучину надежды: «А может, это не так? Может, Андрей не подал заявления?»
Теперь она ждет Риту. Рита – ее давняя подруга. У Риты множество знакомых, среди прочих – генерал, связанный с прокуратурой. И Рита обещала все нынче узнать. Теперь она ждет Риту, съежившись на скамейке, и серое перо на круглой шапочке дрожит мелкой дрожью.
И он тоже ждет. Он должен ждать Соню, должен быть рядом с ней, когда она услышит то, что ей скажет Рита. А он, Денис, знает, что́ скажет Рита.
Ему вдруг сделалось нехорошо. Он вошел в подъезд и сел на ступеньку. Холодное злобное отчаяние владело Денисом после убийства царя. Что осталось? Листовки? Письмо Исполнительного комитета к новому императору – Россия-де ждет перемен?.. Многие надеются – правительство пойдет на уступки. Разве ради уступок сделано то, что сделано? А Петербург затаился мертвым штилем, и этот штиль не предвещает бури. И вспомнилось желябовское: «Мы затерроризировались». Есть рабочие дружины, есть сухановские кронштадтцы… Но посчитали тех, кто готов выступить оружною рукою… Он елозил ладонями по холодной ступеньке. «У тебя осталось только одно, Денис, и ты это сделаешь».
Глухо били пушки. Ветер душил колокольный звон. Где-то там, за Невой, в сумрак собора вплыл гроб.
Софьи не было на скамье. Софья была у Риты.
Денис ждал долго. Вдруг увидел Софью, метнулся к ней.
Софья смотрела ему в лицо, как слепая. Он протянул ей руки, и она схватила его руки и молча сжала.
Сжимала все сильнее, все судорожнее, смотрела в лицо ему сухими, сумасшедшими глазами.
* * *
Она дочитала прокламацию Исполнительного комитета; первым вскочил паренек, чубатый, русый Вася Ярцев: «Веди нас куда хочешь!» И все они, семянниковские мастеровые, собравшиеся у Матвея Ивановича, повторили: «Куда хочешь!» Но куда, куда она могла вести их? В сенях, провожая, старый спорщик Иваныч шепнул: «Дай, барышня, срок – придумаем…» Нет, Иваныч, нет, милый, сроков уже не дано.
Софья миновала Аничков мост, кони матово лоснились. Экипажи буднично маячили в ватном воздухе.
Нынче вторник, десятое марта, на Сенной надо увидеть Дениса. Милый Денисушка, ну что у тебя за дело, что это за дело, которое не терпит отлагательства?
Неподалеку, направо, была Малая Садовая, но Софья не вспомнила про опустевший сырный магазин. Она замедлила шаг: еще немного – и угол Большой Садовой. Там, у стены библиотеки, в последний раз видела Андрея.
Со встречной пролетки, вытянув шею, смотрела на Софью белесая девица в огромной шляпе: Луиза Сундберг могла узнать Войнову даже ночью.
Околоточного как пружиной выбросило из пролетки. Софья отшатнулась, но он уже закогтил ее руки.
Глава 13 ПРОРУБЬ
Чугунные решетки роняли изморозь. Гнилые туманы шатались над грязным льдом. Таяло. И чудилось: под домами и проспектами очнулась вековечная топь, перемесь глины, человечьих костей. Кто жив в этом заколдованном Петрополе, среди теней его и манекенов? Кто? Отзовись… Нет у Дениса адресов, умолкли для Дениса голоса. Нет Саши Михайлова, нет Андрея и Геси. И нет Софьи.
Он допоздна ждал ее на Сенной. Торговцы громыхнули засовами, заперли лавки. Из харчевен несло жаревом. Ночь он провел на улицах. Кружил, кружил… Шпика заметил не потому, что был осторожен, а потому, что верзила нагло потребовал закурить. Денис полез за папиросами; верзила, всхрапнув, больно ухватил его за грудки. В то же мгновение Денис с бешеной силой саданул головой – снизу в челюсть… Что-то хрустнуло, филер кувыркнулся навзничь, ошеломленно зашарил по снегу. А Денис нагнулся и выстрелил. Шпик коротко провыл: «Ааа!» – захлебнулся, затих.
Мысли юлили, как мальки, и вовсе не об этом шпике, что распростерся на панели, а бог весть о чем, не поймешь. Он не побежал, уходил медленно, как с ядром на ногах.
* * *
– Я готов, – сказал Суханов. – Это все же не подкоп, там было противно… То, что вы предлагаете, – это по мне. Но летом можно было бы подойти на шлюпках. То есть не летом, когда белые ночи, а раньше, как река вскроется. А теперь придется в темноте, по льду. Я однажды ковылял из Ораниенбаума в Кронштадт в сумерках, вот об эту пору. Знаю: колдобины, воды по колено, полыньи…
– Дожить до лета? – горько сказал Волошин.
Суханов промолчал.
Действительно, дожить до лета… Корабль потерял плавучесть. «Мы все сойдем под вечны своды, и чей-нибудь уж близок час…» Говорят, Нахимов искал смерти на редутах, сознавая участь Севастополя.
– Значит, шинель? – спросил Суханов.
– И деньги.
– Гм…
– Очень нужны. И солдатам, и нашим, как выйдут.
– Понимаю. Но в Кронштадте как? От жалованья до жалованья. Впрочем, поеду в Кронштадт – шапку по кругу. Однако вы уверены: они уж там?
– Два каземата подготовлены. Кого именно переведут в равелин – не знаю. Но двоих – точно. А третий – Нечаев.
Суханов поднялся. Высокий, тонкий в поясе. Тужурка сидела ладно, галстук повязан свободно. В задумчивости постучал он ногтем по стеклу барометра. Барометр показывал «пасмурно».
– А не лучше ли, Денис Петрович… Объясните, пожалуйста, почему бы и вам вместе с нами не дожидаться с внешней стороны? Солдаты свое сделают, мы – свое. А? Для чего, собственно, вам-то в берлогу?
– Думал об этом. Не ради пустого риска. Какое там… Но поймите, не за тем, чтобы обадривать. Нет, не за тем. Тут есть долг, и я не могу не исполнить. Солдаты рискуют больше нашего. И вот… Думаю, надо честно, поровну… Значит, в понедельник? Условились?
* * *
Денис встречался с солдатами Алексеевского равелина, как и прежде, на Малой Пушкарской, у сапожников, отставных служилых Кузнецова и Штырлова. После первого марта Денис опасался, как бы равелинцы не раздумали. Оказалось – ничуть. Нечаев гнул свое: не бойся, ребята, теперь грянет буря.
И солдат Платон Вишняков решился исполнить обещанное Денису. Все одно – скоро такое заварится, ого-го! Да к тому ж панихиды, поклонения «в бозе усопшему», сутолока всяческих господ – все это несколько смешало порядок, доселе недвижный, как сама крепость. И вот однажды вечерком Платон привел Волошина.
– Не пужайся, братики, землячок мой, – объявил он, входя с Денисом в длинную полутемную казарму крепостной караульной команды.
Многие «землячка» признали. Но одно дело видеть его на Малой Пушкарской, на вольной «фатере», а совсем другое – в казарме, куда, понятно, посторонним воспрещено.
Сели это Волошин с Вишняковым за дощатый стол. Угощались водочкой, кто подойдет – тому и поднесут. А разговор пошел хоть и намеками, но и дурак смекнет. Разговор пошел такой: есть, дескать, некое повеление от самого государя, чтоб, значит, выпустить из Алексеевского равелина. Да только, замечай, генералы и сановники, которые наперсники-то убитого царя, решительно супротив. Нет, говорят, и нет. Вот молодой-то царь и доверил другим, чтобы тайком, вроде бы ненароком, побег получился.
Денис сознавал, что сам нынче впадает в ненавистное ему «нечаевское самозванство», но все это теперь как-то мимо скользило.
В равелин, однако, Денису тогда не довелось заглянуть. Платон разведал: опять начальство там. Зачастил в равелин смотритель с помощником своим, поручиком Андреевым. Тревога, видать, обуяла начальство. Роились неясные подозрения: то ли чуяли переписку Нечаева с волей, то ли еще что. Солдаты же по-своему объяснили Денису суетливость старика смотрителя: в куртины-то понасажали тех, кто с убийством государя связан, а таким, не сумневайся, равелин уготован, вот благородия и трясут задами. Не зря ведь намедни велено было приготовить два каземата. И один, как для дикого зверя, – в самом глухом углу.
В воскресенье на Малой Пушкарской Денис дознался, кого ж это перевели из крепости в Алексеевский. И понял, кого замкнули в глухом углу. Ради этого «нумера» он готов был на все. Провал, гибель? Ни черта не случится! И никаких «стечений обстоятельств», ничего рокового, ни черта лысого!
В понедельник приехал из Кронштадта Суханов, привез деньги, шинель штабс-капитанскую, со всем управился. Прощаясь до ночи, попросил у Дениса револьвер. Разобрал, подул, собрал. «Оружие, – говорит, – у вас в хорошем состоянии. – И улыбнулся. – В настоящем, знаете ли, флотском порядке». Флотском? Хо-хо, черногорцы тоже доки: командир отряда, бывало, так придирался, что твой кондуктор1414
Унтер-офицерский чин в царском флоте.
[Закрыть]… Оружие в порядке, все в порядке. Без барабанов, без развернутых знамен – тишком, как случалось на турецкий лагерь. Вот она, жизнь на вершинах! А Суханов с кронштадтскими обождут беглецов на той стороне Кронверкского пролива. У Суханова родственники в Риге, из Риги – марш за кордон, други мои милые.
О черт, веко на правом глазу трепещет, не уймешь… В равелине, у самой стены, – водосток. Широкая каменная труба. Пролезут, упираясь ногами и спиною, пролезут один за другим. Прямехонько к невскому льду. Там сажень-полторы прыгнуть. Водосток прикрыт массивным рундуком. Ежели на него встать, писал Нечаев, увидишь шпиц собора, архангела с трубой. Бог даст, архангел смолчит. Да и не заметит: за полночь, говорят, и архангелы спят… Ящик-рундук солдаты сдвинут. Проверка минет, смотритель пойдет рапортовать коменданту: «Ваше превосходительство! Честь имею доложить, в Алексеевской равелине караулы его императорского величества стоят спокойно!» Поверка минет – солдаты своротят на сторону массивный ящик, откроют водосток. А караулы будут стоять спокойно, ваше превосходительство. Покойной ночи, генерал. Вам также-с, смотритель, старость не радость. И господину поручику Андрееву, чтоб в горле не першило, опрокинуть на доброе здравие полную чарку…
В крепость надо было попасть перед вечерней поверкой, прежде чем затворят до утра Иоанновские ворота.
На дворе поигрывала метель. Ветер гнал бухлые снеговые завесы. «Только версты полосаты попадаются одне», – вспомнилось Денису.
Сквозь слепящий снег крепостные стены казались ниже. Двоились тени, сливались тени, шел шорох, опасливый, вкрадчивый; и в этом шорохе, в этих тенях скользил Денис, и казалось ему, будто сильно убавил он в весе.
Казарма была в потемках. Солдаты курили, не зажигая огня. Платон уложил Дениса на койке в углу казармы, прикрыл одеялом. Колкое одеяло пахло поташным мылом.
Ударили куранты. Отзвонили куранты. Денис услышал шорох. Снег? Нет, тараканы. Он подумал: «У Саши в камере тоже тараканы». Позавчера перевели в Алексеевский равелин Михайлова и Клеточникова. Сашу заточили в самом глухом нумере.
Вишняков тронул Дениса за плечо:
– Пора.
Метель уже гуляла густо. Мгла носилась и высоко в небе, и низко, под ногами, по всему крепостному двору.
Платон шел впереди. Славный мужик Платон Вишняков. Все будет поровну, все поровну… А-а, вот они, железом обитые Васильевские воротца. За ними – пустырь, за пустырем – Алексеевский равелин.
Платон тихонько стукнул в калитку. Калитка приотворилась. На кронштейне качался фонарь. Денис различил часового, одного из своих знакомцев по Малой Пушкарской. Тот повел штыком: двигай, дескать.
На пустыре ветер рванул полы шинелей.
* * *
Лизонька билась в кашле, потненькая, красная… Казалось, давно бы привыкнуть – дети без хворостей не растут. Давно бы. Слава те, ни много ни мало, а дал бог одиннадцать душ. И привык. Но вот Лизонька, меньшая, поскребыш, заболеет – трясешься.
Смотритель Алексеевского равелина подполковник Филиппов не спал. В квартире его – жил он в крепости, в Никольской куртине, – горел свет.
Смотрителю было за шестьдесят. Он похаживал в мягких, на толстом войлоке домашних туфлях. Подойдет к дверям, прислушается. Лизоньку ударит кашель – у него в груди болью отзовется.
Ах ты господи, господи… Ему бы в отставку. А беда! Пойди-ка прокорми на пенсию всю ораву. Тут, в крепости, приличное жалованье, а едва концы с концами…
Похаживал смотритель в мягких своих туфлях, думал, не послать ли за доктором Вильмсом. Послать, что ли? Да только ведь лекарь-то лекарю рознь: Гаврила Иванович – действительный статский, в генеральском, стало быть, чине-с. Квартирует рядом с комендантом бароном Майделем, весь первый этаж занимает. Ну, придешь к нему, он выслушает вполуха, засмеется, будто давится, да и отрежет: «Кашель, жар – эка, брат, невидаль. Жива будет».
В комнатах было натоплено, а все-таки «к погоде» грыз смотрителя ревматизм. Послужи в крепости годов двадцать, не ревматизм, так чирья доймут.
Вошла Верочка, блеклая, маленькая, в морщинках, смотрителева супруга. Когда дети хворали, подполковник чувствовал себя виноватым.
– За Вильмсом, может? – спросил он робко.
– Что он, твой-то? – зашипела Верочка. – Старая кочережка.
Бог разберет, кто у нее кочережка – муж ли, доктор ли. Смотритель грустно вздохнул.
– Ты вот что, Федорыч, – сухо сказала жена, доставая из шкапа склянку с микстурой. – Оглох, что ли? Тебе он сколь раз наказывал?
– Да-да, – покорно согласился смотритель.
Генерал Майдель, комендант крепости, напоминал не единожды: «Иметь бдительность». Добрый человек барон, за здорово живешь никогда не потяготит, но в последнее время, особливо как злодейское-то покушение произошло, все страшится, все напоминает, чтоб почаще караулы поверять.
– Ну? Лень вперед нас родилась? – зудела жена, отмеряя капли. – Все равно уж не спать.
Филиппов опять вздохнул. Метель на дворе, ветер воет, сыростью проймет, как ни кутайся. Да и чего там такое приключится? Мышь не проскочит. «Нумер пятый» смирный. Новенький тоже, кажись, не из буйных, а тот, изменщик, что в Третьем отделении чиновничал, совсем тихоня… И караулы стоят спокойно. Правда, не в пример временам Николая Павловича солдат пошел. У, тогда: десять убей – одного выучи. А нынче прежней чистоты в службе не увидишь… Да-с. Метель на дворе, сырость. Смотритель зашаркал в сени, где разметался, похрапывая, денщик.
Ну подлец, прямо-таки муха цеце… Смотрителя восхищала Игнашкина способность дрыхнуть где ни попало, когда ни попало.
– Встать, дикарь эдакий!
«Дикарь» вскочил, вытаращился:
– Точно так, ваше высокородь!
– «Точно так, точно так»… Сейчас жа марш к господину поручику. Скажи: пусть в равелин.
– Слушаю, ваше высокородь. – Денщик прикрыл ладонью зевок. Зевая, он всегда конфузился. – Точно так, Да только, осмелюсь заметить, они, должно, нездоровы-с.
«Нездоровы-с»! Поручику Андрееву по такой пакостной погоде как не выкушать? Очень даже понятно, ежели выпил.
– Ладно. Ступай,
Денщик натянул шинельку, уже взялся за дверную ручку, как вдруг брякнул звонок.
– Вот они сами-с, – сказал Игнат, отворяя дверь.
И верно, пришел поручик Андреев, помощник смотрителя Алексеевского равелина. Ростом верста коломенская, лицо испитое, усищи преогромные. Смотритель относился к Андрееву по-отцовски, по-домашнему и, признаться, малость его побаивался.
– Что такое, Женечка?
Поручик зыркнул на денщика, тот мигом исчез.
– Был у меня сейчас комендантский писарь, – вполголоса сообщил поручик, – ну шепнул по дружбе: генерал намерен смотр бдительности…
У Филиппова челюсть дрогнула. Захлопотал, туда-сюда.
– Игнашка! Игнашка!
Верочка выглянула, руками всплеснула:
– Тише! Тише ты! – И к поручику: – Верите ли, вот сию секунду: возьми, говорю, дирекцию в равелин.
Поручик аккуратно улыбнулся в усищи: смотрительша, полковая дама, направление по-военному «дирекцией» зовет.
– Не беспокойтесь, Вера Семеновна, у нас в равелине-с… – Он помахал пальцем.
– Знаю, знаю, батюшка, а все ж береженого бог бережет.
– Это уж точно-с.
Смотритель и поручик вышли из дому.
На дворе дожидались унтеры с фонарями в руках.
* * *
– Беги, – дыхнул Вишняков.
Денис рванул его за рукав, они ударились наискось к Неве.
– Сто-о-ой! Сто-ой! – орал поручик Андреев, вымахивая от Васильевских ворот.
Сворачивая на речной лед, Денис обернулся и выстрелил. И тотчас с Зотова бастиона наобум шарахнули из ружей, пули вжикнули остро и весело, как косы по росной траве.
«А, черт, убьют…» Поручик скрючился, однако не остановился, только загреб рукой, крикнул унтерам:
– Давай!
Невский лед стоял в торосах, в рыхлых снеговых перекатах; беглецы и преследователи вязли в колком, как битое стекло, снегу.
Метель взыграла пуще прежнего, должно быть, напоследок перед весною, крутилась, неслась, то по загривку нахлестывая, то наотмашь – по скулам.
Денис с маху грянулся об лед, расшиб лицо, вскочил, выхаркнул зубы. Вода из колдобины залилась в сапоги.
– Шинель… – хрипел Вишняков. – Скидай шинель!
Оба сорвали с себя шинели, наскочили на сугроб, перевалились кулями и опять побежали, согнувшись, как под клинком.
Поручик саданул из револьвера.
«А-а, так… так», – не то вскрикнул, не то подумал Денис и, забросив руку назад, не целясь, выстрелил.
За Кронверкской протокой дожидались Суханов, кронштадтцы. Протока была неподалеку, неширокая протока, но Денис в метели, в ночи сбился, потерял направление, взял к стрелке Васильевского острова.
Ему показалось, что уже означилась ростральная колонна, где-то тут был пологий спуск с набережной.
И точно, он был тут, рядом, этот пологий спуск.
Извозчики съезжали по нему к проруби – поить лошадей. Будочку тут инвалид содержал, всегда это у него самовар кипел: за копейку балуйся чайком на доброе здоровье.
В метельной ночи невидимая, неразличимая прорубь ждала беглецов, и они с последнего отчаянного маха ухнули в черную огненную воду. Захлебнувшись, намертво обнялись, толкнулись кверху, но течение уже волокло их под лед, как под поезд.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































