Текст книги "Россия и современный мир №4 / 2013"
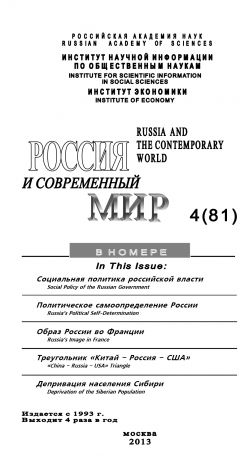
Автор книги: Юрий Игрицкий
Жанр: Журналы, Периодические издания
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц)
Уже в условиях военного коммунизма начинает воспроизводиться конфигурация прежней политической системы четырех блоков и медиатора. Полицеистский блок замещается системой «демократического централизма». Вотчинный – воспроизводится в виде безусловного и персонального господства полностью контролирующих свои «уделы» комиссаров и личной ответственности пред вождями различных масштабов всех, попавших в сферу их контроля. Православный блок замещается в потенции коммунистической идеократией, представленной пока весьма размытым революционным этосом. Наконец, дружинно-деспотический блок представлен режимом чрезвычайщины и господством «революционной законности».
Воспроизведение самодержавной по сути конфигурации власти, замаскированной квазимарксистским идеологическим антуражем, было спровоцировано модернизационными вызовами, однако получало архаические ответы. Результатом стало превращение новой российской версии абсолютного, тотального самодержавия «вождя пролетариата и всего прогрессивного человечества» в один из вариантов тоталитарной диктатуры, эволюционно связанной с дисфункциональными срывами форсированных модернизаций в XX столетии.
«Реальный социализм» как разновидность политической организации является коммунистическим самодержавием. Оно пронизано глубоким противоречием, связанным с проблематикой модернизации. Его исходной целью является утверждение любой ценой максимальной политической, социальной, экономической, идеологической, культурной и прочей однородности ради форсирования модернизации. Однако рациональный смысл модернизации как раз и заключается в осуществлении постоянной инновации, а значит порождения все большего разнообразия, гетерогенности политической организации.
В условиях экзогенной модернизации утверждение мощных начал гомогенности служит своего рода противовесом для сдерживания, уравновешивания инновационных тенденций повышения гетерогенности, не дает им выйти из-под контроля и разнести систему в клочья. Кроме того создается необходимая среда для испытания новаций. Иное дело тоталитаризм с его форсированной и деформированной модернизацией. Экстремизм установок как на гомогенизацию, так и на модернизацию создает чудовищное противоречие: бескомпромиссная гомогенизация делает всякую инновацию невозможной, последовательная инновация несовместима со всеобщей усредненностью, стандартизацией и т.п.
Создание заповедников инновации (неординарности) эффективно, когда туда загоняется небольшое творческое меньшинство, которому вполне по силам решение тех или иных задач модернизации. Однако почти сразу, а чем дальше тем больше, возникает проблема трансляции, переноса достижений из заповедников в массы. Порожденные же модернизацией массы не готовы к восприятию инноваций, элиты из заповедников не могут и не хотят снижать качественную планку инноваций. Приходится мобилизовывать идеологию, административный и даже репрессивный аппарат, чтобы заставлять массы «усваивать» новшества – результатом становится массовое производство и воспроизводство симулякров модерности.
Одновременно приходится внедрять в заповедники очажки усредненности, чтобы редуцировать образцы инноваций до приемлемого массами уровня. Вновь производятся симулякры модерности. Система тратит все больше сил, получая относительно все меньший и, главное, качественно сомнительный реальный выход. Это, собственно, и порождает действительный застой.
Годы и десятилетия после смерти Сталина можно рассматривать как постепенный процесс десталинизации или как ряд структурных и существенных изменений, влияние которых оказалось чрезвычайно большим, несмотря на заявления радикально настроенных критиков 80-х годов о том, что система нереформируема. Тем не менее советская система развивалась. Во время правления Хрущёва была выдвинута идея «всенародного государства». Заявлялось о восстановлении ленинских норм демократического централизма в партии и государстве. Партия стремилась сохранить единство народа и власти. Распространенным лозунгом в то время был «Народ и Партия – едины».
Вопреки распространенному предубеждению, будто «система нереформируема», за годы советской власти удалось не только добиться определенных политических, военных и экономических успехов в течение нескольких десятилетий, выступая в роли сверхдержавы, но и существенно реформировать политический строй в череде переходов – сначала в сталинский тоталитаризм, затем в его более сложную послевоенную версию, после этого в его хрущёвскую квазитоталитарную версию – «десталинизованную» и мультиплицированную, наконец в неоквазитоталитаризм так называемого «застоя» и в лихорадку посттоталитарного ремонта начиная с андроповских времен.
Все эти превращения самодержавного по сути правления сопровождались как созданием разного рода симулякров, так и имитацией модернизационных процедур. В целом можно признать, например, что СССР фактически консолидировал свой суверенитет, создав достаточно однородный политический режим внутри четко очерченных территориальных границ и обеспечив его внутреннее и внешнее признание. Хуже обстояло дело с формированием гражданского общества. Официально насаждавшиеся структуры были малоэффективны и малоубедительны. Хотя они и позволяли немалому числу людей проявлять инициативу – достаточно вспомнить студенческие строительные отряды, коммунарское движение, МЖК и т.п. – собственно контрактные отношения оставались неразвитыми. Что касается такого важного аспекта политической модернизации, как формирование гражданской нации (nation-building), то отчасти удалось эти процессы проимитировать, получив в качестве результата «новую историческую общность». В то же время все советские конституции оставались симулякрами, что позволяет говорить о системе «номинального конституционализма» [5, с. 482–563].
Современные дилеммы самоопределения России
Посткоммунистическое развитие началось отнюдь не с запретом КПСС, а значительно раньше. Можно начинать отсчет с ХХ съезда КПСС или с иных дат, однако посткоммунизм «самоопределился», как это ни покажется парадоксальным, включением в брежневскую конституцию знаменитой 6-й статьи. Пока руководящая роль КПСС как ядра политической системы не подвергалась сомнению, а самодержавный характер власти был бесспорен, в такой статье не было надобности. Все и так знали действительную самодержавную «конституцию» (при всей условности использования термина) и действовали по ее правилам, а не по букве конституции писанной – декоративного фасада отечественной политической системы.
Включение в брежневскую конституцию 6-й статьи как раз подтвердило, что КПСС начинает утрачивать роль универсального медиатора, все в большей мере становится выражением цивилизационной вертикали (коммунизм как идея-правительница, выражаясь языком евразийцев). Поэтому как раз и понадобилось формальное закрепление ее «всеохватной» роли в политической системе, равнозначной роли вселенской церкви (universal church по Тойнби). Это предполагало начало фактического внедрения системы, аналогичной византийской симфонии, или западноевропейской модели двух мечей, или токугавского «двоевластия» сёгуна / тенно и т.п. Горизонтальная же медиация переместилась в тень. Официальный центр становился все более декоративным. Он в основном санкционировал или обозначал санкционирование фактической медиации (и перераспределения ресурсов), осуществлявшейся «под ковром». Ее опорой стали клики и их формализованные (ВПК, отраслевые отделы ЦК, межведомственные комиссии и комитеты и т.п.) и неформализованные («бани», «охоты» и т.п.) структуры состязания, сговора и реализации соглашений.
Таким образом, в целом накануне перестройки многоблочное и хронополитически разнородное политическое образование (идеократия-деспотия-патриархия-полицеизм), скрепленное медиатором в виде КПСС, вступило в полосу развития, характеризуемую конфликтом детоталитаризации и ретоталитаризации в системном плане, некомпенсируемой или слабокомпенсируемой децентрализацией государственности и либерализацией стиля властвования («режима») геронтократического «Центра».
К началу 80-х годов в советском обществе сформировался запрос на реформы. Здесь не место обсуждать, каковы были альтернативы, как они могли быть использованы. Признание Ю.В. Андропова, что мы не знаем общества, в котором живем, могло указывать, что подготовка к серьезному реформированию была возможна и даже началась. Вновь, как и во времена Великих реформ в публичный дискурс были внесены понятия перестройки и гласности. Соответствующие идеи были сформулированы и обнародованы на XXVII съезде КПССС в феврале 1986 г. Предполагалось, что основным инструментом реализации этих двух новых концептов будет закон о трудовых коллективых, который разрешал и даже обязывал избирать руководителей государственных предприятий. Это несколько наивно мыслилось как первый шаг к демократизации страны. Такое решение отвечало ленинской логике демократии советов и популярным на Западе в то время идеям демократии участия, демократии на рабочем месте и т.п. При этом упускались из виду резонные постулаты классиков демократической теории, что демократия имеет пределы применения и не работает в рамках предприятий.
Перестройка в целом продолжила и интенсифицировала уже сложившиеся тенденции развития и в этом отношении напоминала эпоху «великих реформ». Различие состояло в том, что реформы Александра Освободителя были тщательно продуманными, постепенными, а главное, аккуратно дозируемыми и контролируемыми из самого средоточия самодержавной власти, тогда как перестройка акцентировала стихийность (упование на то, что «процесс пошел») и инициативу снизу. Это спровоцировало кризис, в ходе которого прежние коммунистические структуры с медиатором как «ядром» всей системы коммунистического самодержавия рухнули, а на их месте спонтанно стали воспроизводиться аналогичные им образования.
Полицеистский блок «государевой службы» срастающийся с репрессивно-деспотической чрезвычайкой при помощи симулякра «исполнительной власти» (обманчивая подгонка под западный категориальный стандарт), берет на себя явно невыполнимые обязательства, претендует на полномочия, которые не только не в состоянии эффективно осуществлять, но даже с толком использовать. Отсюда постоянное провоцирование кризисов и обращение к принудительному насилию от указов «по борьбе с организованной преступностью» до расстрела Белого дома в Москве и чеченской войны.
Вотчинный блок через так называемые «региональные элиты» и «неокорпоративные структуры» (такая же подгонка под «западный» стандарт типично автохтонных, далеких от иноземных образцов явлений) пытается определить, и не без успеха, динамику политического процесса. По инерции воспроизводится тенденция передела ресурсов и соперничества патримоний и их вождей (региональных и корпоративных центров власти, включая как официальные, так и теневые, нередко криминальные).
Идеократический блок пострадал более других. Вакуум, образованный уничтожением коммунистической идеократии, явно неудачно попытались заполнить идеократией «демократической», подкрепленной «цивилизационной» риторикой, за которой легко угадывались привычные схемы «научного коммунизма», рисующие автоматическое (неизбежное и материально детерминированное) достижение всеобщей благости, но только в результате не классовой борьбы, а приватизации. Это прогрессирующее интеллектуальное упрощение школьнического истмата до более чем примитивных схемок немедленного счастья в результате введения «рынка» было обречено на быстрый и бесславный крах. Что же касается религии, то шансы на восстановление православной идеократии выглядят призрачными. Попытки создать новую обязательную для всех национальную идею, откуда бы они ни исходили – из Кремля, от неодержавников, от КПРФ, от ЛДПР или от крайних «патриотов» – также бесперспективны.
Главная же проблема, однако, заключается в трудности, а скорее всего в невозможности, воспроизведения медиатора, чья простота в «нематериализованном» виде воспринимается (и справедливо) как полностью неадекватная современным условиям крайне усложнившихся взаимодействий. Материализация же медиатора безусловно проблематична. Во всяком случае, явно нереальна и превышает субъективные и объективные возможности нового «Центра» заявленная в ельцинской конституции претензия заполнить освободившееся после краха старого «Центра» (КПСС) пространство за счет того, что президент с его пресловутой вертикалью соединят остатки всех блоков, прежде всего полицеистский («исполнительная власть») и деспотический (непосредственное руководство силовыми структурами), а также выступят в роли самодержца. Возникающие при этом структуры администрации президента удивительно напоминают аппарат ЦК, а пресловутая «семья» его политбюро.
Таким образом, Россия вновь политически самоопределилась как ориентированное на модернизацию самодержавие, замаскированное на этот раз уже квазидемократическим риторическим антуражем. В третий раз на протяжении нашего столетия воспроизводится сходная конфигурация власти. Можно, вероятно, согласиться с мнением Ю.С. Пивоварова и А.И. Фурсова: «Россия, по сути интуитивно, ищет формы и рамки политико-правового бытия. Причем усваивает формы и рамки, весьма схожие с теми, что были до 1917 г. Так, в Конституции 17 декабря 1993 г. несложно обнаружить черты, характерные для политико-правового устройства нашей страны в период 1906–1917 гг., которое, в свою очередь, формировалось начиная с реформ М.М. Сперанского… Разумеется, это не случайные совпадения. Здесь “дышит почва и судьба”, здесь культура пытается обрести ту конфигурацию и тот порядок, к которым стремилась на протяжении столетий» [6, с. 76]. Уточняя мысль авторитетных исследователей, добавлю, что контуры всех модификаций самодержавной власти, включая советскую, и их действительных культурных образцов, а не идеологических «обманок» – православных, коммунистических или «демократических» – в целом близки или совпадают.
Литература
1. Ильин М.В. Слова и смыслы: Опыт описания ключевых политических понятий. – М., 1997. – 431 с.
2. Ильин М.В. Jedem das seine. – Кентавр перед сфинксом (германо-российские диалоги). – М., 1995.
3. Ильин М.В. Призвание России. – Национальная идея: История, идеология, миф. – М., 2004.
4. Кавелин К.Д. Наш умственный строй. – М., 1989. – 654 с.
5. Медушевский А.Н. Теория конституционных циклов. – М., 2005. – 575 с.
6. Пивоваров Ю.С., Фурсов А.И. Русская система: Генезис, структура, функционирование // Русский исторический журнал. – 1998. – Т. 1. – № 3.
7. Пивоваров Ю.С. Русская политика в ее историческом и культурном отношениях. – М., 2006. – 167 с.
8. Саква Р. Конец эпохи революций: Антиреволюционные революции 1989–1991 гг. – «Полис», 1998. – № 5. – С. 23–38.
9. Трубачев О.Н. Этногенез и культура древнейших славян. – М., 1991. – 269 с.
10. Цымбурский В.Л. Земля за Великим Лимитрофом: От «России–Евразии» к «России в Евразию». – Бизнес и политика. – 1995. – № 9.
11. Цымбурский В.Л. Народы между цивилизациями. – Pro et contra. – 1997. – № 3.
Ментальные образы и сущность России
А.В. Готнога
Готнога Александр Васильевич – кандидат философских наук, доцент кафедры философии и социально-политических дисциплин Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета.
В социальных науках нет аксиом. Тем не менее некоторые понятия и положения обществоведы используют, не задумываясь над их подлинным содержанием и смыслом. В частности, это касается понятия «Россия» и многочисленных утверждений относительно ее прошлого, настоящего и будущего. Слово «Россия» свободно циркулирует не только в пространстве научного дискурса, но и политического (например, в названиях партий, стратегий, программ и т.д.), не говоря уже о воспевании «России» деятелями искусства, представителями богемы и церковнослужителями. Возникает подозрение, что оно несет на себе изрядную идеологическую нагрузку, обеспечивающую легитимность существующей политической власти.
Прежде всего обратим внимание на следующее обстоятельство: слово «Россия» многозначно. Это может быть и государство, и страна, и общество, и культура, и цивилизация.
Для политика и ученого-правоведа Россия, скорее всего, есть государство с таким названием. Проблема решается чисто юридически: определение дается через указание формальных признаков современного российского государства. Однако такой формально-логический метод представляет собой палку о двух концах: если Россия есть современное российское государство, то существовала ли она лет 30 назад, когда еще современного российского государства не было по определению? Россия, конечно, существовала, но не в качестве современного государства или государства вообще, а как республика в составе СССР. Как видим, формальная логика спотыкается об исторические апории, перед лицом которых она бессильна.
«Широка страна моя родная…», – поется в «Песне о Родине». Россия – это страна, в которой живут россияне, россияне – это жители России. Такова примерно обывательская логика рассуждений, содержащая ошибку в круге. Впрочем, можно добавить, что Россия – это еще и страна, где жили предки современных россиян. Но такое добавление не только не размыкает круг, но еще больше осложняет проблему: у многих современных россиян предки жили не на территории сегодняшней России. Как бы то ни было, страна является лишь географической оболочкой, которая сама по себе не может быть историческим субъектом.
Другое дело – общество. Социологи и тем более философы обычно широко интерпретируют данное понятие, включая в его объем политику, экономику, культуру и собственно социальные отношения (этнические, классовые, семейные и т.д.). Но что такое российское общество? Если социальное есть надорганическая или надприродная реальность, то предикат «российское» связывает общество и российское государство. Точнее говоря, содержание понятия «российское общество» ограничивается рамками российского государства. Это обусловлено давней интеллектуальной традицией, довлеющей над социальными науками с момента их возникновения и пытающейся вместить любой социально-исторический процесс в прокрустово ложе национально-государственного «контейнера» [3, c. 48–49]. Но это означает, что социологи и философы попадают в ту же самую методологическую ловушку, куда, как показано выше, угодили правоведы и политики (правда, не осознав этого), освободиться из которой возможно, лишь отказавшись от идеи наличия у российского общества какой-либо истории до 1991 г.
Заметим, что так нужно поступить не только в отношении России, но и почти всех незападных обществ, якобы имеющих уходящую в глубокую древность тысячелетнюю историю. В частности, И. Валлерстайн в статье «Существует ли в действительности Индия?» [7] – уже название которой приводит в замешательство любого, кто ни разу не усомнился в истинности «контейнерных» стереотипов, – убедительно показал, что современная Индия как общество образовалась в Новое время, причем сам процесс в большей мере носил экзогенный, а не эндогенный характер. Иначе говоря, по отношению к внутренним процессам, протекавшим на полуострове Индостан, формирование современной Индии было явлением случайным, а не закономерным.
А как же быть с культурой? Несмотря на кажущуюся очевидность существования российской, индийской и других великих и древних культур, вопрос этот еще гораздо сложнее и запутаннее. Действительно, что такое российская культура? Это культура русских? Но как же тогда быть с татарами, нанайцами, чеченцами и т.д.? А кто такие русские? Это люди, говорящие на русском языке? А если человек иностранец или говорит на двух или более языках? Или, напротив, не говорит по-русски, но идентифицирует себя таким образом? Список вопросов можно продолжить, но и так понятно, что язык не является достаточным признаком культуры. Да и сам язык социально обусловлен. Например, А. Миллер, иллюстрируя мысль о том, что «разрыв между крестьянами и дворянами был очень большим», напоминает, что у Пушкина родным языком был не русский, а французский [20]. Если же речь идет о национальном языке, то его природа сугубо политическая: именно государство решает, каким быть национальному языку. Инструменты общеизвестны – стандартизация и унификация, чему способствуют образование, государственная служба и другие бюрократические институты и практики [21].
Распространение национального языка создает видимость внутреннего единства культуры, общества в целом. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что на месте одной единой культуры существует множество контрастирующих субкультур и никакого внутреннего единства в обществе не обнаруживается. Его не было изначально в силу совершенно разных социально-экономических условий воспроизводства высших и низших социальных слоев и классов, составляющих общество. Например, по словам того же А. Миллера, «в XVIII веке польская шляхта очень четко знала, что она иного этнического происхождения, чем польские крестьяне. У них был такой сарматский миф. Они считали, что они господствуют над этими польскими крестьянами по праву завоевателей. Так, кстати, делали очень многие элиты в разных государствах» [20]. И оттого, что теперь все социальные группы стали говорить на одном (ставшем для всех них «родным») языке, классовые и статусные различия никуда не исчезли. В подтверждение сказанного можно упомянуть Бенджамина Дизраэли, сетовавшего в своем социальном романе «Сибилла, или Две нации» на то, что в Англии есть две нации – «богачи» и «бедняки» [6, c. 130–131]. Позднее он стал премьер-министром, но ни ему в XIX в., ни остальным его последователям в ХХ–XXI вв. культурно ассимилировать одну из этих «наций» так и не удалось. Собственно политика мультикультурализма, проводимая британским правительством в конце ХХ – начале ХХI в., демонстрирует не только отсутствие некоего единого культурного пространства на туманном Альбионе, но и нежелание господствующего класса нести социально-экономические издержки, связанные с его созданием и поддержанием. Правда, как показали недавние беспорядки в Англии, это оборачивается падением уровня безопасности для ее высших слоев и ростом социальной напряженности [9].
Если так дела обстоят на передовом Западе, то что уж тут говорить об архаичной России с ее многоукладной жизнью на огромной территории, простирающейся от Атлантики до Тихого океана. Однако против данного суждения могут категорически возразить «почвенники», подчеркнув, что Россия – это иная цивилизация, а потому архаичной по отношению к Западу она быть не может. Цивилизационный подход сегодня для многих российских обществоведов стал некой новой путеводной звездой, помогающей им в безмерном океане социального познания обогнуть «континент Истории», открытый Марксом [1, c. 87], и в то же время не напороться на острые рифы Просвещения с его опасными идеями об универсальных законах исторического развития человечества. Вот только твердой «почвы» под ногами им так и не удалось обрести. Не будем касаться проблемы многозначности понятия «цивилизация», хотя, конечно, этот факт уже сам по себе красноречиво говорит о незрелости подхода, если не о его научной несостоятельности. Приведем лишь один аргумент, сформулированный А.В. Бузгалиным: «Если мы сравним Францию эпохи позднего феодализма, с одной стороны, с Россией конца XIX – начала ХХ в. (а это период, к которому принадлежит большая часть тех мыслителей, которых цитируют “русофилы”), а с другой – с современной Францией, то мы найдем гораздо больше общего между Францией XVII в. и Россией конца XIX в., чем между Францией XVII в. и Францией XXI в.» [4, c. 5].
Итак, Россия не есть государство, не есть общество, наглухо запертое в национально-государственном «контейнере», не есть страна как голая пространственная форма, не есть единая культура, не есть локальная цивилизация, жизнь которой подчиняется только своим собственным историческим ритмам. Тогда существует ли в действительности Россия? Наш ответ утвердительный, поскольку Россия есть и государство, и общество, и страна, и культура, и, в конце концов, цивилизация (если понимать под последней своеобразие российского государства, общества и культуры), но только все это вместе взятое как органическое целое с его особой и глубоко противоречивой сущностью. Проникнуть в эту сущность, раскрыть и понять ее нельзя без помощи диалектики, что обязывает нас рассматривать Россию как исторически развивающийся субъект, причем в категориях всеобщего, особенного и единичного, тождества и различия и т.д.
Россия есть исторический процесс, но развертывающийся в спиралевидном потоке глобально-исторического процесса. Последний представляет собой то общее, что выделяет человечество из мира природы, формируя надорганическую реальность, называемую социальной. Социальная реальность как таковая тождественна сама себе, без чего она просто утрачивает качество надорганической реальности. Однако тождество предполагает и различия. Социальная реальность неоднородна, а потому в едином общем и однонаправленном течении всемирной истории обнаруживаются и попятные движения, и относительный покой. Таким образом, социальная реальность имеет не только общие, но и особенные черты. По разному протекающий синтез общего и особенного порождает то единичное, которое делает историческое бытие общества, в частности России, уникальным.
В сегодняшнем обществознании принято оперировать понятием Современности, или Модернити, для описания того типа общества, который возник в Западной Европе в результате тектонических культурных сдвигов под воздействием Возрождения, Реформации и, наконец, Просвещения, став моделью социального развития для всех незападных обществ. Такой тип общества называется современным и противопоставляется так называемому традиционному обществу, а переход от последнего к первому именуется модернизацией. Разделяющие этот подход исследователи хотя и остерегаются указывать на какую-то определяющую или главную причину модернизации, но, по-видимому, имплицитно склоняются к культурологическому объяснению. Во всяком случае, с идеологической точки зрения это будет выглядеть более благонадежно и политкорректно, чем пытаться выводить этот процесс из экономического фактора, противоречий общественного способа производства. Между тем «Современность / Модернити» представляет собой лишь один из «псевдонимов» в ряду таких, как «современная эпоха», «индустриальное общество», «Запад», которые, как заметил Т. Иглтон, «стыдливо скрывают» слово «капитализм» [13, c. 25]. Но вся эта «благопристойность» осыпается подобно штукатурке, как только очередной экономический кризис начинает сотрясать основы системы, лишая экспертов последней надежды на его сугубо «финансовый» характер. И кто же в этот трудный период думает о протестантской этике, правах человека, демократии и других атрибутах Современности, а не о банальных вещах – труде и капитале?
Итак, сущность современной эпохи – капиталистический способ производства. Его принципиальное отличие от предыдущих способов производства (рабовладения, феодализма, «азиатского способа производства») состоит в том, что его общественный характер определяется отношениями вещной, а не личной зависимости [19, c. 100–101]. Тот процесс, который обычно называют модернизацией, по существу означает переход от личной зависимости к вещной. Впервые в общественном масштабе это произошло в Западной Европе. В незападных странах, в частности в России, данный процесс начался позже и, на наш взгляд, не завершился до сих пор. Все трудности так называемой модернизации обусловлены в конечном счете этим обстоятельством.
Та удивительная преемственность в российской истории, выявленная в многочисленных работах западных и отечественных исследователей, заставляющая их говорить о России, как о «застрявшей цивилизации» [2, c. 672], цивилизации с «институциональной матрицей Х-типа» [16], обществе, увязшем в «колее» исторических циклов, всегда заканчивающихся «авторитарными откатами» [24, c. 144–145], имеет экономическую природу. Отношения личной зависимости в экономической сфере воспроизводились в советский период истории так же, как и в царский, но с гораздо большей интенсивностью и в грандиозных масштабах, чему способствовали индустриализация и снятие сословных ограничений. Последний фактор способствовал беспрецедентной концентрации и централизации экономической власти и, как следствие, формированию пресловутого «культа личности» вождя. Каждый руководитель на своем уровне, выполняя функцию проводника или ретранслятора данного культа, становился его частью.
Единство качества и количества образует меру. В позднесоветский период истории в силу роста экономического благосостояния общества в целом мера была нарушена: качество системы перестало соответствовать ее количественным параметрам. Поддерживать экономическую централизацию и концентрацию на прежнем уровне в условиях, когда производственные мощности в разы превышали потенциал сталинской экономики, уже было невозможно. Прогресс производительных сил был неумолим, а потому нарастали противоречия между ними и утвердившимися десятилетия назад производственными отношениями. Формирование номенклатуры, рост хронического дефицита и блата как способа внесистемного регулирования общественных отношений сигнализировали о том, что система вошла в фазу упадка и стремительно деградирует. Наконец, рост «национального самосознания» был верным признаком того, что в советских республиках возникли автономные иерархические структуры со своими собственными элитами-номенклатурами, установившими региональный контроль над экономическими ресурсами и блокирующими доступ к последним со стороны союзного центра.
Глубоким заблуждением представляется нам точка зрения, согласно которой в СССР существовал социализм, поскольку якобы разрыв в доходах между высшими и низшими слоями был минимален. Дело даже не в надежности советской статистики и используемой методологии, хотя и тут есть вопросы. Главное заключается в другом: кому принадлежала собственность? Конечно, собственность не была общенародной. Она принадлежала государству. Отождествлять же общественную и государственную собственность никак нельзя – такова позиция и настоящих марксистов, и последовательных либералов. И вряд ли кто-то сегодня серьезно отнесется к утверждению, что советское государство было пролетарским.
Здесь мы вплотную подходим к проблеме определения формационного статуса советского общества. Как доказывает Ю.И. Семенов, в СССР существовал тот же общественный способ производства, что и в азиатских деспотиях. При таком способе производства частная собственность существует, но принадлежит господствующему классу в целом. К. Маркс называл такой способ производства «азиатским», а Ю.И. Семенов предлагает именовать его «политарным». Вместе с тем общественный способ производства в СССР имел индустриальную специфику, что находит выражение в понятии «индустрополитарный способ производства» [26, c. 501]. Как бы то ни было, в формационном отношении СССР стоял на ступеньку ниже, чем капиталистические страны: отношения личной зависимости и внеэкономического принуждения суть основа устройства советского общества, тогда как вещная зависимость и экономическое принуждение лежат в основе общества капиталистического.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































