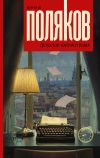Текст книги "Совдетство 2. Пионерская ночь"

Автор книги: Юрий Поляков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 26 страниц)
10. Родительский день
Сутки, оставшиеся до приезда родителей, мы прожили как в тумане, с тоской бродили по территории, прощались с любимыми местам и друг с другом, гладили Альму, смотревшую на нас безутешными и все понимающими карими, совершенно человеческими глазами. Мы с горечью сознавали: на будущий год в «Дружбу» нас просто не примут, и судьба жестоко разбросает нас по разным пионерским лагерям, где все придется начинать с начала. Где не будет больше неразлучной троицы – Лемешев, Шаляпин, Козловский…
Но это еще полбеды. После досрочного возвращения домой каждого из нас ждало суровое возмездие. Отец Лемешева, майор, служил заместителем по строевой подготовке в военном училище. Всегда имея под рукой широкий офицерский ремень, Пашку он никогда не порол, используя другие методы воспитания. Поймав сына на нарушении дисциплины, майор ласково говорил: «Ну пойдем, сынок, позанимаемся!» – и вел на плац, видневшийся из окон служебной квартиры. Там Лемешев ходил строевым шагом до изнеможения, когда кажется, что пятки вот-вот отвалятся.
– Устал, сынок?
– Устал, папа…
– Ну отдохни чуток… – и разрешал сыну повисеть минут десять на турнике.
В результате невысокий, узкоплечий от природы Лемешев был крепок и охотно напрягал перед девчонками бицепс, твердый, как молодой баклажан.
Майор Захаров регулярно приезжал в лагерь на родительский день и всегда оставался крайне недоволен построением дружины на линейку.
– Мне бы вас, салаги, на недельку! Как кремлевские курсанты у меня потом ходили бы! Разве так ногу тянут! А ты, Павел, почему ленишься! Ведь умеешь! На плац захотел?
– Митя, это же дети! Зачем им твоя муштра? – мягко возражала Пашкина мать Ирина Аркадьевна, святая женщина, работавшая в библиотеке Макаронной фабрики.
– Сегодня дети – завтра солдаты! – сурово возражал строевик.
Козловский тоже пощады не ждал. Нет, своего отца он не боялся. Добрый толстяк Лещинский служил на «Клейтуке» технологом, но душой был далек от процесса вываривания из костей разных полезных веществ. Он любил петь под гитару романсы. Как-то, приехав на родительский день, Вовкин предок во время концерта художественной самодеятельности пробрался к сцене, попросил у Юры-артиста гитару и жалобным голосом пропел романс «Мой костер в тумане светит…». Когда, душевно раскланявшись, технолог сошел в зал и вернулся на свое место, жена, наклонившись к нему, прошипела: «Идиот, ты бы еще детям “Шумел камыш…” спел!» Мамаша Козловского, Антонина Петровна, служила в милиции, в паспортном отделе, и привыкла покрикивать на неорганизованных граждан из очереди, мол, еще звук, и вообще без документа останетесь – мыкайтесь потом!
В их семье именно она приводила приговоры в исполнение и могла отвесить сыну или мужу такую затрещину, что в башке потом, как уверял Вовка, неделю звенело. В юности она носила фамилию Густомясова и занималась толканием ядра, чуть-чуть не попав в большой спорт, но вышла замуж и произвела на свет Козловского, в чем постоянно упрекала бедного технолога. Нет, не в том, что родила Вовку, а в том, что не дотянула до звания мастер спорта, при этом она смотрела на мужа такими глазами, точно он когда-то обманул ее, совершив непростительный поступок, не имеющий срока давности.
Я же боялся не отцовского ремня, который он выдергивал из брюк, как Чапай саблю из ножен, но редко пускал в ход. Хотя, конечно, за отчисление из лагеря, уверен, Тимофеич меня все-таки выпорол бы со свистом, и не ради воспитания, а скорее от злости, ведь на будущий год уже ему пришлось бы просить для меня путевку у себя в завкоме, а одалживаться у начальства отец страшно не любит. Он у нас из породы непримиримых молчунов. Больше порки я боялся Лидиного отчаянья. Мне открывалась страшная картина неотвратимого будущего: вот маман счастливыми глазами выискивает меня в строю, находит, ободряюще улыбается, а через минуту, после рокового известия, ее лицо становится сначала испуганным, потом беспомощным, затем безутешным, наконец, слезы катятся по ее щекам, оставляя промоины в слое пудры, которую, оказывается, делают из растолченного в пыль риса.
– Сынок… – шепчет она. – Как же я теперь людям в глаза смотреть буду?! При всех… Такой позор… А что скажут в райкоме?
Под впечатлением этой воображаемой сцены я начинал тихо поскуливать. Надвигающийся кошмар усугублялся тем, что Гарик и Полпотовна делали вид, будто ничего не знают о нашем скором изгнании. Полине Потаповне было вообще не до нас, она, в очередной раз недосчитавшись пионера, а потом найдя его, бежала в медпункт мерить давление. А Гарик безмятежно расспрашивал, каким образом мы собираемся превратить мальчиков четвертого отряда в ватагу разбойников, и не услышав определенного ответа, заставил нас репетировать до одури куплеты налетчиков из мультфильма «Бременские музыканты»:
А кто увидит нас, тот сразу ахнет,
И для кого-то жареным запахнет…
И вот настал страшный день. Полпотовна как ни в чем не бывало отпустила нас к воротам – встречать предков, предварительно проверив чистоту рук и шей, а также свежесть рубашек. Лемешева заставили надеть новую майку взамен грязной. Приговоренных к казни тоже переодевают во все чистое. И вот мы, как смертники, стояли и смотрели сквозь прорези в бетонном заборе на бугристую, пыльную дорогу, рассекающую ржаное поле. По ней от платформы «Востряково» к лагерю уже тянулись, постепенно увеличиваясь в размерах, фигурки родителей: недавно прошла электричка из Москвы.
– Вон мои! – судорожно вздохнул Лемешев.
– И мои! – всхлипнул Козловский.
– А ко мне почему-то только отец приехал… – с сердечным облегчением сообщил я, заметив одиноко шагающего Тимофеича.
– Хе-хе, – засмеялся Семафорыч. – Ох, и обломится вам, ребята, нонче!
Мы, бодрясь, встретили ничего не подозревающих родителей у ворот, раскрытых сегодня настежь, покорно приняли их поцелуи, дружеские потрепывания и разные там нежные слова, которые так любят произносить предки дрогнувшим голосом после двухнедельной разлуки:
– Ой, сыночек, осунулся ты что-то!
– Да тебя не узнать, эка вымахал, верста коломенская!
И мы побрели с ними в лагерь, как на Голгофу. Наша соседка по общежитию Алексевна, старорежимная старушка, лично видевшая царя, так зовет гору, на которой евреи прибили Христа к кресту гвоздями, а он перед смертью подружился с разбойником, распятым по соседству, и захватил его с собой на небо. Скоро мы тоже погибнем, но в рай нас никто не возьмет, так как его в природе не существует, да и сам Иисус – это просто сказка для пенсионеров, измученных ревматизмом.
– Что за выправка, бойцы! – пророкотал майор Захаров, он был в форменной, защитного цвета рубахе с уставными лямками на плечах. – Выше голову, пехота!
Сердобольная Ирина Аркадьевна, как специально, вынула из сумки литровую банку с засахаренной клубникой и начала нас угощать, а мы решительно отказывались, ссылаясь на отсутствие аппетита.
– В чем дело, Павлуша, ты же так любишь клубнику!
– Это в прошлом… – загадочно ответил Лемешев.
– Что случилось? – гулко спросила мадам Лещинская, положив на плечо сына тяжелую руку. – Ты почему без панамы? Напечет.
– Все хорошо, мамочка! – отозвался Вова с замогильной бодростью. – Не напечет.
– Потерял панаму?
– Нет-нет-нет…
– Все отлично! – подтвердили мы с Пашкой. – 22 градуса в тени, переменная облачность. Обещали кратковременный дождь. Не напечет…
Вовкина панама, сколько мы ее ни терли хозяйственным мылом, так и осталась вся в пятнах, которые от стирки из красных превратились в синие.
– Но вы-то сами в головных уборах? – подозрительно поглядела на нас толкательница ядра.
– Не напечет, – испуганно повторили мы и моментально сняли: Вовка пилотку-нопасаранку, а я – картуз из мелкой соломки.
На родительский день, я заметил, почему-то всегда выпадает хорошая погода. Лишь однажды шел такой проливной дождь, что из корпуса не выйти. Так и просидели с родителями целый день в палатах, играя в лото, домино и шашки. Технолог Лещинский оказался гроссмейстером и каждый раз выходил в дамки, попутно съедая и собирая в столбик шашки противника.
– Грибы пошли? – спросил Тимофеич, заметив лужу.
– Сыроежки, – кротко доложил я, соображая: отлупит он меня еще по пути на станцию или дотерпит до дома?
Лучше бы дотерпел: маман после двух-трех хороших вытяжек ремнем обычно виснет у него на руке с воплем: «Хватит! Это же ребенок! Бить детей непедагогично!»
– Сыроежки? Ну какие это грибы! – усмехнулся отец.
– Павлик, а что у тебя с ухом? – вдруг заметила Лемешева мамаша последствия мертвой хватки дачника.
– В пионербол играли, – не моргнув, ответил мой находчивый друг.
– А концерт будет? – застенчиво поинтересовался Лещинский-старший.
– И не мечтай! – сурово предупредила жена, поведя правой, толчковой рукой.
И тут судьба меня окончательно добила: нас догнала запыхавшаяся Лида. Она тут же, позоря перед друзьями, страстно обцеловала меня с ног до головы. Ее лицо светилось летним восторгом, на голове был венок из синих васильков, собирая их во ржи, она, судя по всему, и отстала от своих, как когда-то в детстве от эшелона с эвакуированными.
– Подтянуться! – скомандовал майор. – Прибавить шаг!
По пути мы отвечали на разные дурацкие вопросы, стараясь выглядеть беззаботными, хотя понимали: правильнее сказать правду прямо сейчас, не дожидаясь прилюдного позора, поскорей забрать со склада чемоданчики, взять в приемной у Галяквы волчьи характеристики и тихо, через заднюю калитку навсегда покинуть лагерь. Но никто не решился на это. Напротив, мы зачем-то пытались шутить, рассказывали о проделках Альмы и скорой «Зарнице», а прибыв к нашему корпусу, сначала зашли в палату, сверкавшую небывалой чистотой, и майор неодобрительно спросил:
– А разве койки у вас не «отбивают»?
– Хорошая мысль! – кивнул Гарик. – Добро пожаловать в четвертый отряд!
– А как вообще наши бойцы? – не унимался строевик.
– Очень инициативные и дисциплинированные мальчики, – лицемерно ответила Полпотовна, отлично зная о грядущем нашем позоре.
Оставив взрослых любоваться идеально подметенной территорией, мы встали в общий строй, чтобы с громкой отрядной песней выйти на лагерную линейку и занять наше законное место – между третьим и пятым отрядами. Там, равняясь на флагшток, мы и ждали бесславного конца. А солнце светило, птицы пели, бабочки, капустницы и лимонницы, безбоязненно садились на анютины глазки, самолеты, раскинув стальные крылья, летели в дальние страны. Мир был жизнерадостно-равнодушен к нашему горю. Еле сдерживая слезы, мы ждали развязки.
Но хуже всех было, конечно, мне: Лиду, как секретаря партбюро Маргаринового завода, пригласили на трибуну – квадратную бетонную площадку, обнесенную железным заборчиком. Маман, отдав сумки Тимофеичу и сняв, слава богу, дурацкий васильковый венок, стояла теперь среди начальства, сосредоточенно соображая, что бы такое умное сказать детворе, если дадут слово. Мое сердце изнывало от безысходности. Я заметил в толпе суровое лицо мадам Лещинской, и мне стало страшно за друга.
И вот началось… Сначала Виталдон старательным шагом, вызвав кривую усмешку майора, подошел к трибуне, вскинул руку в пионерском салюте и отрапортовал, что дружина лагеря «Дружба» на торжественную линейку, посвященную родительскому дню, построена. Затем Анаконда о том же самом доложила председателю профкома Макаронной фабрики – пузатому дядьке в темном жарком пиджаке с красным флажком на лацкане. Тот кивнул, принимая рапорт, а потом говорил так долго и нудно, что даже на неподвижном лице директрисы появилась улыбчивая тоска. Наконец профорг призвал нас достойно встретить приближающееся 50-летие Великого Октября и замолк. В родительской толпе раздались подхалимские хлопки.
Следом дали слово Лиде, она, немного волнуясь, но довольно складно, а главное – коротко, объяснила, что без партии никакого счастливого детства, а уж тем более летнего отдыха, нам бы не видать как своих ушей, и в качестве отрицательного примера сослалась на плачевную судьбу подрастающего поколения за рубежом, где сама, как я знаю, никогда не была. После нее комсорг «Клейтука» Дима Карасев, который был старшим вожатым до Виталдона, призвал нас неустанно готовиться к вступлению в ряды Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи, что является главной целью каждого пионера. И в заключение воскликнул:
– Юные пионеры, к борьбе за дело великого Ленина будьте готовы!
– Всегда готовы! – уныло отозвалась наша несчастная троица.
Наконец, подошла очередь Анаконды. Мы обреченно переглянулись. Тут как раз на солнце наползла свинцовая туча, и природа траурно потемнела. А директриса бодро, лишь изредка заглядывая в бумажку, доложила, сколько пионеров на сегодняшний день отдыхает в лагере (на 7 процентов больше, чем в прошлом году), сколько человеко-часов мы отработали на подшефном колхозном поле, какие провели соревнования, конкурсы, сколько у нас кружков и сколько пионеров их посещает. Рассказала она и о подготовке к «Зарнице». Отдельно была объявлено про музыкальную сказку «Бременские музыканты», премьера которой состоится сегодня вместо заурядного концерта художественной самодеятельности.
«Что ж, если вместо десяти разбойников песенку споют всего семь, никто даже не заметит… – скорбно подумал я. – А может, лучше скоропостижно умереть?»
Пиф-паф – и вы покойники,
Покойники, покойники…
От долгого ожидания неизбежной гибели меня замутило. Ну, что она тянет?! Скорей бы! На моих сообщников было больно смотреть…
– …Теперь о самом неприятном… – трудным голосом проговорила Анаконда и посуровела.
Я почему-то вспомнил фильм «Мы из Кронштадта», там красные матросы, которым контра привязала к шеям огромные камни, перед тем как исчезнуть навек в пучине, прощаются, обнимаясь, друг с другом…
– …Так вот, о неприятном. К сожалению, в этом году из-за разногласий между пайщиками мы так и не смогли продолжить строительство бассейна. Котлован, думаю, все видели! А река Рожайка от нас далековато, да и купаться в ней небезопасно. Быстрое течение и плотина, с которой всем хочется прыгнуть. Ребенок из лагеря «Солнышко» получил увечье. Вторая нерадостная информация – это количество койко-часов в изоляторе. Оно увеличилось по сравнению с июнем на 15 процентов. Ну, и самое теперь неприятное, я бы даже сказала, безобразное явление, мешающее нам жить и отдыхать! – Анаконда внимательно посмотрела в нашу сторону…
Лемешев беззвучно заплакал. Козловский до крови закусил губу, а я чуть не крикнул, как в кинофильме «Юность Максима»: «Прощайте, товарищи!»
– …участились случаи самовольного оставления отдельными нарушителями территории лагеря, что в принципе недопустимо и создает угрозу для жизни и здоровья детей. Прошу вас, дорогие родители, прежде чем запичкать ваших чад клубникой и прочими сладостями, серьезно поговорить с ними об этом! Имейте в виду, при повторном нарушении будем безжалостно отчислять из лагеря! Думаю, пайщики нас поддержат!
В ответ председатель профкома Макаронной фабрики нахмурился и важно кивнул:
– Поддержим и родителей привлечем!
– Но не хочется заканчивать на грустной ноте, – посветлела Анаконда. – Сейчас в нашем новом клубе состоится премьера, а потом все свободны до семи часов. К ужину попрошу детей вернуть! Добро пожаловать в счастливый мир детства!
Все захлопали от радости, что официальная часть закончилась, а я испытал такое ощущение, будто с моих плеч упал тяжеленный мешок. Тут как раз выглянуло солнце, золотя мир прекрасными лучами. Мы посмотрели друг на друга, не веря своему счастью, и обнялись.
…В клубе, после триумфального исполнения песни разбойников, я, еще не успев снять драную тельняшку и стереть с лица усы, нарисованные жженой пробкой, попался на глаза Анаконде. Вероятно, от переживаний у меня начались галлюцинации, мне померещилось, будто директриса, как обычная озорная девчонка, показала мне язык… Невероятно! Лещинский-старший все-таки добыл гитару и спел пионерам жалостливое произведение «Не жалею, не зову не плачу…». Но Антонина Петровна на этот раз почему-то не ругалась, наоборот, погладила его по редким волосам тяжелой и нежной рукой. А Лемешев от избытка чувств шепнул мне, что у него, судя по всему, будет братик или сестричка.
– Сынок, ты был самым лучшим разбойником! – восхитилась Лида. – Может, тебе в артисты пойти?
– Бездельников нам в семье не хватало… – пробурчал Тимофеич.
11. Мальчик с фантазиями
Слева показалась старая знакомая – большая раздвоенная осина, похожая на увеличенную до неимоверных размеров рогатку. Я вдруг подумал: если привязать к ней в несколько слоев хорошую бинтовую резину, натянуть вдвоем или втроем, вложить футбольный мяч и жахнуть, то можно, наверное, дострельнуть до «Вострякова». Стоит себе человек на платформе, ждет электричку, никого не трогает – и вдруг ему с неба бабах в голову. Кто? Что? Откуда? Неизвестно… Моток резины в аптеке стоит 67 копеек, а таких надо штуки четыре. Кожаный мяч в «Спорттоварах» обойдется в восемь рублей. Итого: 10.68. Целое состояние! Можно, конечно, использовать лагерный мяч, но он со шнуровкой, которая дубеет, если намокла, а это опасно: Губарев из второго отряда сыграл головой – потом на лоб шесть швов наложили. К тому же на казенном инвентаре нацарапано: «пл Дружба». Если докопаются – можно запросто на учет в детскую комнату милиции угодить. Какая же иногда чепуха в голову лезет! Точно в мозгах сидит озорной чертик и подбивает на разные пакости.
И тут мне страшно захотелось оглянуться на Ирму. Просто невтерпеж! Пишется, кстати, без мягкого знака, а «настежь», наоборот, – с мягким. Но я удержался, решил воспитывать в себе силу воли. Кто знает, возможно, в армии я буду разведчиком и, если попаду в плен к поджигателям войны, должен держаться мужественно, как Зоя Космодемьянская. Но мне после пыток, конечно, удастся бежать, да еще прихватив с собой очень секретные документы. За это я получу медаль, как горнист Кудряшин, а еще лучше – орден. Тогда Ирма будет смотреть на меня так же, как Маргарита смотрела на Кудряшина, когда он вдруг приехал к нам в лагерь на побывку. Мне нравится Красная Звезда, солидная награда, но она крепится к одежде с помощью нарезного штыря и закручивающегося «барашка», поэтому пиджак надо протыкать насквозь, после чего остается заметная дырка. Лида такой порчи гардероба просто не переживет, она и брошку-то к новому платью с ужасом прикалывает. Поэтому пусть лучше – медаль «За отвагу», колодка держится на булавке и заметных следов не оставляет.
Наша колонна растянулась по ночному лесу. Луна снова вынырнула из-за облаков, и в бредущих тенях можно было различить знакомые силуэты. Впереди шагали, взявшись за руки и живо переговариваясь, Борька Пфердман и Сонька Поступальская. Когда я впервые увидел их в позапрошлом году, подумал: брат и сестра, очень уж похожи, да и ухватки, словечки, жесты – одинаковые. Оказалось, даже не родственники. Но когда к Борьке приезжает мамаша – толстая, усатая дама с черносливовыми глазами, она первым делом квохчет: «А где же наша Сонечка?!» И, обнаружив, обнимает ее, как дочь. А когда появляется папаша Поступальский, жутко похожий на молодого Аркадия Райкина из кинофильма «Мы с вами где-то встречались», он тут же вопрошает: «Где же наш Боренька?» и, найдя Пферда, долго, с уважением жмет ему руку. Дружный все-таки народ – евреи! Лида говорит, они везде и всюду держатся друг за друга, и я почему-то представляю себе веселую «Летку-енку», обвившую весь земной шар!
Приглядевшись, я увидел и моего друга Лемешева, он размахивал руками и смешил, как обычно Ленку Бокову – жуткую хохотушку, ей только палец покажи – она уже заливается. С ней любой тупица будет чувствовать себя остряком вроде Бориса Брунова. Башашкин с ним знаком и уверяет, что в обычной жизни знаменитый конферансье хмурый и немногословный, а любимая его поговорка: «Шутки денег стоят».
Я все-таки не выдержал, оглянулся и с радостью обнаружил, что Ирма идет теперь рядом с Аркой Тевекелян. Отверженный Аркашка вместе с Голубем замыкают строй, пинками подгоняя отстающих – Засухина и Жиртреста, особенно старается, конечно, наш тираннозавр. Жаль, я не видел, как Несмеяна дала ему от ворот поворот. А Коля по своему обыкновению делает вид, будто не замечает произвола взбешенного отставкой Жаринова, наш вожатый шарит по темной чаще дальнобойным фонарем, выхватывая замысловатые сплетения ветвей, похожие на чудовищ.
Когда колонна изогнулась на повороте, я увидел Эмаль, она шла впереди, пытаясь своим слабым фонариком освещать дорогу, но блеклый пучок света терялся во мраке. Неугомонный Голуб решил созорничать и направил мощный луч на воспитательницу, причем на нижнюю, выпуклую часть ее фигуры. Она, конечно, заметила это хулиганство и полусердито погрозила напарнику пальцем. Странно все-таки: Эмма Львовна намного старше, а позволяет ему разные глупые штучки, будто они ровесники…
– Смотри, снова эти глаза! – взвизгнула Нинка и испуганно прижалась ко мне.
– Где? – уточнил я, отстраняясь.
– Пропали. Только что были. Ты спишь на ходу, что ли?
– Нет, я думаю.
– О чем же ты думаешь? – спросила Краснова.
– Так, вообще…
– И часто ты думаешь?
– Всегда. А ты?
– Я? Иногда…
– А когда не думаешь, что у тебя в голове? – поинтересовался я.
– Не знаю… Так, воспоминания какие-нибудь. Если я не думаю, я вспоминаю.
– О чем?
– Обо всем. Пред тем как появились глаза, я вспоминала, как мы с мамой ходили в цирк. А еще раньше про мамины новые туфли, которые мне еще велики, но совсем немножко. У меня большая нога. Видно, в отца.
– А вот скажи, твой отец ругается, если мать покупает себе что-нибудь без спросу?
– Никогда.
– Он добрый?
– Понятия не имею. У меня его нет.
– А был?
– Конечно. Дети на грядках не растут. Но я его не помню…
– Совсем?
– Абсолютно.
– Но может, фотографии остались?
– Нет, мама все порвала и выбросила. Остался какой-то клочок: щека с ухом… Но, знаешь, отец мне иногда снится, только я наутро всегда забываю, как он выглядел…
– Щека с ухом?
– Самый остроумный, да?
– Извини… А знаешь… ты в следующий раз постарайся запомнить, на какого актера он похож… Так легче потом вспомнить! Все люди смахивают на каких-нибудь артистов. Вот мой отец в молодости был вылитый пятнадцатилетний капитан… Забыл фамилию…
– Всеволод Ларионов!
– Точно!
– Ну ты и фантазер, Шаляпин! Новый подвиг придумал?
– Почти… – соврал я и снова оглянулся на Несмеяну.
Мне вдруг показалось, что наш оживленный разговор с Нинкой ей не очень-то нравится. Заметив мой взгляд, Комолова тут же сделала вид, будто она страшно увлечена беседой с Аркой, и даже положила ей руку на плечо. Нет, конечно, мне померещилось. С чего бы это гордой Ирме переживать, что я оказался в паре с этой болтуньей?
– Ну, скажи, скажи: Ыня победит Фантомаса? – снова пристала ко мне Нинка.
– Они подружатся.
– Врешь!
– Посмотрим. У вас много зубной пасты осталось?
– Есть кое-что… А ты будешь в почту играть?
– Наверное. Что еще остается делать? Спать-то нельзя.
– Хочешь, я тебе напишу?
– Уже спрашивала.
– Если не хочешь – так и скажи! – надулась Нинка. – А твои сказки про Ыню мне вообще по барабану! Понял?
– Понял.
С тех пор как я напугал всех жуткой историей про непослушную девочку-сиротку, покоя мне не стало. После отбоя и даже иногда во время тихого часа от меня требовали все новых и новых страшных рассказов. Первое время я попросту переиначивал, добавляя красочные подробности и леденящие детали, известные всем пионерам страшилки про черную ленту, красное пятно, зеленую пластинку, фиолетовые занавески, синее пианино, стеклянную куклу, желтые глаза, пирожки с человечиной, черные тюльпаны, бабушку с копытом, трамвай с красными шторками, белые туфли с ядовитыми гвоздями, оживающий ночью портрет, ядовитое голубое печенье…
Удивительное дело: чем страшнее получалась у меня небылица, чем сильнее дрожали слушатели, чем ужаснее монстры мерещились за темным окном, тем безмятежнее засыпала палата, чтобы утром счастливой улыбкой встретить радостное утро и солнечных зайчиков на стене…
Честно говоря, заранее я сюжет не придумывал, он как-то сам собой всплывал в голове, едва я начинал рассказывать, спросив предварительно:
– А на чем мы вчера остановились?
– На плотоядном платье…
О, это была классная байка – про то, как один портной, завербованный чертями, сшил платье, которое незаметно буквально до скелета съедало того, кто его надевал: сначала маму, потом бабушку, а потом и девочку, ей, горемыке, обновка досталась в наследство.
– Ладно, Нинка, не злись! – попросил я.
– Вот еще! С какой стати? Я и не злюсь. А скажи, откуда ты узнал про кольцо с перламутром? У моей мамы есть такое кольцо.
– Я и не знал. Придумал. Из головы. А ты и эту мою страшилку знаешь?
– Конечно! Лемешев все твои истории пересказывает Ленке Боковой, а она потом нам.
– Так вот почему она к нему все время бегает!
– Конечно! Мы ей поручили. Она у нас как связная в партизанском отряде. А ты что подумал?
– Ничего я не подумал.
– Но Комоловой, между прочим, твои истории совсем даже не нравятся…
– Почему?
– Можешь сам у нее спросить.
– И про колечко с перламутром тоже не понравилось?
– Нет! Она сказала, что ты мальчик с болезненной фантазией… – фыркнула Нинка и отвернулась.
Странно, я-то считал историю про то, как две одноклассницы пошли гулять в Сокольники и попали в жуткую переделку, вершиной своего творчества. Даже самые выдержанные пацаны из нашего отряда, слушая эту мою страшилку, тряслись, как осиновые листы.
– Шаляпин, ты просто новый Хичкок! – похвалил Лемешев, который благодаря своей библиотечной мамаше, знает гораздо больше меня.
– До Хичкока Шляпе еще как до Луны! – ревниво возразил осведомленный Пферд.
– Посмотрим, посмотрим… – солидно отозвался я, понятия не имея, кто такой Хичкок.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.