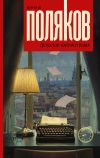Текст книги "Совдетство 2. Пионерская ночь"

Автор книги: Юрий Поляков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 26 страниц)
18. Скверная история
Гвоздя вскоре поймали в Домодедове. Если верить рассказу Голуба (мы слышали через стенку), бандит сначала залег на дно и затаился, но как-то раз, страдая похмельем, он выбрался чуть свет с хазы и пошел на первый сеанс – утром пиво можно достать только в бане или кинотеатре. Подлечившись «рижским», злодей собрался уходить, но тут выяснилось, что перед фильмом прокрутят не занудно-бодрые «Новости дня», а смешной «Фитиль», и Гвоздь задержался, чтобы вместе со всеми позубоскалить над бюрократами, жуликами, взяточниками, прогульщиками, бракоделами, нарушителями общественного порядка, мешающими нам жить. Однако в буфете его кто-то опознал и позвонил в милицию, те примчались и взяли рецидивиста прямо в зале, попросив зрителей сохранять спокойствие.
Но и после ареста Гвоздя строгий режим в лагере не отменили. Наоборот, вскоре с треском отправили домой, опозорив на линейке, еще двух парней, которые отлучались тайком на Рожайку, чтобы нырнуть с плотины. Ну, сбегали и сбегали – на здоровье! Зачем же об этом во всеуслышанье хвалиться перед девчонками? Кто-то сразу заложил, у Анаконды везде свои люди. Вожатый первого отряда Федор на педсовете пытался за ребят заступиться, намекнув, что, мол, ситуация до смешного напоминает кинокомедию «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», где Костю Иночкина изгоняют из лагеря за самовольное плаванье в реке, хотя он спортсмен-разрядник. Лучше бы Федя, по прозвищу Амбал, помалкивал!
– А я, значит, по-твоему, товарищ Дынин? – зловеще спросила Анаконда.
И началось: здесь вам не кино, а детское оздоровительное учреждение! Это в кино пионеры не тонут, а в жизни еще как тонут! Это в комедиях педагогов не сажают за погибель детей в тюрьму, а в жизни еще как сажают! В общем, Федор схлопотал выговор с предупреждением за развал дисциплины в отряде.
А наш друг Козловский продолжал, не чуя опасности, якшаться с местными. Однажды, вернувшись из отлучки, он сообщил, что в деревне объявился пижонистый дачник из Москвы: ходит в красных шортах, яркой рубахе с пальмами, на голове – клетчатая кепка, как у Олега Попова, на носу – темные шпионские очки, а в зубах – вонючая сигара. Чистый Мистер Твистер! Его крашеная рыжая жена с наклеенными ресницами бессовестно загорает в палисаднике без всякого лифчика, и уже все окрестные пацаны через забор налюбовались ее буферами. Мало того, по несколько раз в день они, как буржуи, прогуливают вдоль по деревне огромного пятнистого дога с налитыми кровью глазами. И местные, чтобы городские не очень задавались, решили проучить дачников – натравить на столичного пса местных собак. С этой целью они до озверения, до пены на клыках, дразнят и злобят Бяшиного Рекса, лютую сторожевую дворнягу размером с «запорожец».
Вскоре я обратил внимание, что Вовка с ожесточением чешет волосы над ухом, и в этом месте уже появилась маленькая красная проплешина.
– Что это у тебя?
– Не знаю, зудит… Наверное, комар укусил.
– Вряд ли…
Я посоветовал другу на всякий случай носить «нопасаранку», сдвинув на ухо. Но он меня не послушал, и вскоре Эмаль тоже заметила его почесывания. Забили тревогу, показали медсестре Зинаиде Николаевне, та схватилась за голову: «Стригущий лишай!» От страшной перспективы поголовного облысения лагеря «Дружба» запаниковали, доложили Анаконде, она учинила строгое следствие: с какими животными был в контакте заболевший?
– В глаза смотреть и не юлить! Ты источник инфекции! Говори правду!
Козловский попал в трудное положение. Сказать правду, мол, натаскивал местного Рекса для схватки со столичным догом, значит, сознаться в злостном нарушении дисциплины и мгновенно вылететь из лагеря с волчьей характеристикой. А дома мама – кандидат в мастера по толканию ядра. Отмалчиваться еще опаснее: вообразят вообще бог знает что! И Вовка не нашел ничего лучшего, как все свалить на несчастную Альму, которую не гладил, наверное, только Юра-артист, у которого аллергия на шерсть и волосы. Он даже с первой женой развелся, так как от запаха ее кудрей у него раздувался флюс, а на коже выступали трупные пятна.
Анаконда от услышанного пришла в неистовство, приказав Семафорычу немедленно изловить и усыпить Альму.
– Удавить, что ли? – не понял сторож.
– Не задавайте дурацких вопросов, Семен Афанасьевич! За дело! И чтобы дети не видели…
А Козловского приказали срочно везти в Домодедовскую больницу на обследование. Медсестра и Лысый Блондин взяли ошалевшего Вовку под руки и повели к машине как тяжелобольного. После обеда прибежала Нинка Краснова и, путаясь от ужаса в словах, протараторила, что Ленка Устинова из второго отряда собственными глазами видела, как сторож, взяв ружье, повел скулящую Альму в лес.
– А почему же выстрела никто не слышал? – усомнился Пашка.
– Не знаю…
– Он, видно, специально пальнул, когда электричка проезжала… – догадался Пферд. – Я фильм видел, там нарочно стреляют во время пароходного гудка, чтобы никто не услышал.
Вскоре кто-то наябедничал про свежий холмик в лесу. И тогда все сомнения рассеялись. Это конец! Так погибла наша любимица… А Козловский и Зинаида Николаевна вернулись из больницы с диагнозом, который звучал примерно так: «Воспаление кожного покрова головы с частичным выпадением волос из-за расчесывания места укуса кровососущего насекомого». Никакого стригущего лишая. Но Альму-то не вернешь! Мотя, возивший их в город, сострил:
– Эх, жаль! Я-то думал у нас еще и Лысый Брюнет появится – мне в компанию…
Но это была единственная шутка, потому что дело приняло серьезный оборот: Козла возненавидел весь лагерь, на него показывали пальцами, дразнили живодером, доносчиком, симулянтом, лишайником. Даже из младших отрядов приходили посмотреть на подлого погубителя Альмы. На тайном заседании совета отряда решили объявить Вовке бойкот, девчонки фыркали ему в лицо, считая трусом, на построении никто не хотел становиться с ним рядом. Даже Арка, дружившая с Вовкой, обозвала его подлецом и потребовала, чтобы он к ней больше не приближался. Мы, конечно, прикрывали друга с флангов, общались с ним, старались приободрить, чтобы он не чувствовал себя брошенным и совсем одиноким, ведь его местные дружки пропали, как не было.
Тут вот какая история. Побесив Рекса, Бяша все-таки натравил его на московского дога, который, несмотря на свой баскервильский вид, оказался жутким трусом, сразу же поджал хвост и заскулил, как щенок. Рыжая хозяйка заслонила робкого пса своей грудью, известной всей округе. В результате дворняга так покусала дачницу, что зашивать раны возили в Домодедово, где пострадавшей прописали вдобавок пятьдесят уколов в живот от бешенства. Мистер Твистер оказался сутягой и журналистом, он написал заявление в милицию, там сначала хотели замять дело, но им позвонили из Москвы. Тогда началось: следствие, допросы, очные ставки. Бяшина мать все отрицала, мол, никакой сторожевой псины у них отродясь не водилось, а за то, что по улицам бегают беспризорные волкодавы, у нас отвечает советская власть – к ней и претензии. «Так и запишем…» – покивали милиционеры, а на следующий день нашли у них на чердаке самогонный аппарат в рабочем состоянии. Тут Бяше стало не до Козловского…
Чтобы поговорить с попавшим в беду другом без свидетелей, мы уходили на край Поля. Вовка страшно переживал бойкот и был в отчаянье оттого, что Арка Тевекелян его теперь презирает.
– Что вы на меня так смотрите? – чуть не плача, вопрошал он. – Что мне оставалось делать? А как бы вы поступили на моем месте?
– Во-первых, не надо было с Бяшей связываться! Мы тебя предупреждали! – отвечал я. – Во-вторых, зачем ты все свалил на Альму?
– А на кого еще? На морских свинок? Я думал, ее просто ветеринару покажут, полечат… Я не знал, что вот так сразу…
– Не знал он! – передразнил Пашка. – Сказал бы, что погладил пробегавшую мимо кошку… Незнакомую… Безымянную… Их около кухни полным-полно! Кто бы стал их ловить?
– Кошку? Точно – кошку! Как же я не догадался! – Лицо нашего друга сморщилось от отчаянья, и слезы брызнули из глаз. – Какой же я дурак! Кошка, конечно, кошка… Что ж ты мне раньше не подсказал?
– А ты не спрашивал. Ты с Бяшей скорешился, с ним советовался, табачком баловался, голубей жрал… – припомнил ревнивый Лемешев.
– Ладно, хорошо быть мудрым на следующее утро, – повторил я любимую поговорку бабушки Мани. – Надо что-то сегодня делать.
– Если мне устроят темную, заступитесь? – с надеждой спросил Вовка.
– Конечно! – неуверенно ответили мы.
Темная – высшая мера наказания в пионерском лагере, что-то вроде расстрела. Приговоренного внезапно накрывают одеялом, гасят свет, набрасываются со всех сторон и лупят кулаками и ногами, стараясь угадать под вздымающейся байкой места побольней, а каждый вопль или стон наказуемого лишь прибавляет злости и азарта тем, кто бьет. Потом все, как по команде, прыгают в койки и принимают умиротворенный вид. Если на шум прибегает вожатый и зажигает свет, кажется, будто ничего и не было. А на избитом нет живого места.
На моей памяти темную устраивали два раза. В прошлом году вороватого Замшева, постоянно шарившего по тумбочкам после воскресного привоза гостинцев, сначала по-хорошему предупредили, а потом уже наказали. Он побежал жаловаться, но когда Гарик предложил назвать, кто именно на него напал, Замшев ничего не мог ответить, и вожатый, знавший о вороватости избитого, посоветовал ему «не противопоставлять себя коллективу». В позапрошлом году точно так же наказали ябедника Серикова, он выдал ребят, они собрались тайком сбегать на Рожайку и отказались взять его с собой. Он даже жаловаться не стал, поняв: будет еще хуже.
Теперь же наказать Козловского за Альму подбивал Аркашка, сам известный живодер. Завидев кошку, он просто не мог не швырнуть в нее камень или еловую шишку. Бедный Вовка понимал: по всем законам пионерского лагеря за гибель Альмы ему полагается темная, но боялся он не побоев, а унижения и позора. Вскоре, ночью, мы проснулись от странного шевеления в палате. Я, вскочив, включил свет, но это Засухин, снова описавшись, переворачивал мокрый матрас сухой стороной вверх.
Аркашка, щурясь от света, процедил:
– Все равно мы тебя, Козел, отмутузим! И заступничкам тоже обломится! – Тираннозавр испытывал злобную радость от того, что кого-то можно избить, да еще вроде как по справедливости.
Через день за Козловским приехал папаша. Растерянный и огорченный технолог написал заявление, что забирает ребенка до окончания смены по семейным обстоятельствам и никаких претензий к дирекции не имеет. Мы пошли провожать друга до ворот, он шел, понурив голову, неся в руках потертый чемодан с бумажной наклейкой «Володя Лещинский, III отряд». Губитель Альмы молчал и только сшибал ногой розовые головки клевера. Толстяк-отец отдувался, вытирал пот со лба и вздыхал:
– Какие погоды стоят! «Июльская роскошь цветущего лета»! Сам бы в пионеры записался! Что ты в московской пылищи делать будешь, Вова?
– Не знаю…
– Вы хоть мне, ребята, скажите! – взмолился родитель. – Что случилось? Какая беда? Володя написал, если не заберем, убежит и сам на электричке приедет домой. Что он тут натворил, паршивец?
– Ничего… – Мы пожали плечами. – Надоело, наверное. Две смены – это слишком…
– Но вам-то не надоело!
– Нам тоже надоело.
– Но вы-то домой не проситесь!
– Не просимся…
– Владимир, где твоя сила воли?
– В Караганде.
– Ах, так! Ладно, мне не хочешь говорить, матери скажешь, – произнес отец с такой уверенностью, что нам стало искренне жаль друга.
Похоже, дома его ждала расправа пострашней темной. Мы обнялись на прощанье. Что бы хоть как-то утешить страдальца, я дал ему с собой нитку сушеных подберезовиков, а Лемешев – перочинный ножик, найденный на Большой поляне после воскресного пикника.
– Спасибо… Спасибо… Я же не хотел, не хотел… – шептал Козловский сквозь слезы. – Простите, ребята…
Семафорыч, отпирая ворота, вздохнул и покачал головой:
– Из-за сучки, что ли? Вот уж зря… Ну совсем зря…
Мы долго смотрели, как Лещинские шли через поле, уже налившееся спелой желтизной. Отец несколько раз пытался положить руку на плечо сыну, но тот уворачивался, убегая вперед. А я вдруг подумал, что в шестой раз приезжаю в «Дружбу», но никогда еще не видел, как эту рожь убирают, потому что не оставался на третью смену. Может, в этом году… Лида сообщила, что тете Вале не дают отпуск в августе, как обещали, а если Батурины не поедут в Новый Афон, я, скорее всего, останусь в «Дружбе». Ну и ладно! Я знаю за просеками одно место, где растут белые, а в августе их там, наверное, будет видимо-невидимо. Грибы надо порезать на мелкие кусочки, нанизать на нитки или длинные травяные стебли и повесить под козырьком крыльца. Они быстро вялятся на солнечном ветру, испуская дивный аромат, а зимой из сушеных белых можно сварить восхитительный суп.
…Козловский в последний раз оглянулся, махнул нам рукой и навсегда исчез за лесополосой.
19. Третий корпус
От «белого домика» по серой асфальтовой дорожке мы двинулись к нашему корпусу. Ярко-оранжевые окна светились между матовыми стволами берез. Ненадежная лунная темнота дразнила своими ночными секретами, шуршала черной травой, качала странными ветками, стучала дальней электричкой, пугала мечущейся ночной бабочкой размером с воробья. По небу, среди звездного мерцания, плыли мигающие огоньки самолетов, из-за леса доносился скребущий гул – в Домодедовском аэропорту заходил на посадку пассажирский ТУ-104. Раньше ревущие громадины снижались прямо над лагерем, и можно было даже прочитать буквы на скошенных алюминиевых крыльях. Наверное, если в этот момент пассажир глядел в иллюминатор, он видел весь наш лагерь, как на ладони, возможно, различал даже пионеров, задравших головы. Если шла линейка, то Анаконда замолкала, так как все равно ничего не слышно, и с досадой дожидалась, когда стальная птица Рух скроется за лесом. Но потом пришли к выводу, что рев и дребезжание стекол отрицательно сказываются на здоровье детей, и, как сказал Юра-артист, «глиссаду сместили».
– Вот видишь, как у нас заботятся о детях! – заметила по этому поводу Лида.
Слева, за деревьями, остался первый корпус. Из открытых освещенных окон доносилось:
Есть паста в кармане
И надо успеть
Мальчишек измазать
И шваброй огреть…
– В отрыв пошли! – усмехнулся Лемешев.
– В последнюю ночь все можно, – кивнул я.
А пение продолжалось:
Вожатый заходит,
Как будто все спят.
Вожатый выходит —
Подушки летят.
И нет нам покоя
Ни ночью, ни днем.
Погоня, погоня, погоня…
Вожатый с ремнем!
Спать никто не собирался, все ждали, когда старшие уйдут на свой сабантуй, и тогда начнется катавасия последней лагерной ночи! Справа во втором корпусе девчонки тоже пели.
Звени, бубенчик мой, звени!
Гитара, пой шута напевы!
Я расскажу вам о любви
Шута и гордой королевы…
– Тебе не жалко уезжать? – спросил Лемешев.
– И да, и нет…
– А если бы Ирма осталась? – Он искоса глянул на меня.
– При чем тут Комолова? Я на море хочу… Но если сорвется, тогда приеду на третью. А ты?
– Я в Крым! Любишь море?
Я не ответил, потому что в этот момент вообразил, как мы с Ирмой ныряем в прозрачной соленой воде, будто Ихтиандр с Гутттиэре, и я достаю ей со дна самые большие рапаны. Жаль, в Черном море нет жемчужных раковин…
Зашипел висящий на столбе алюминиевый громкоговоритель, и следом послышался хриплый звук горна. Мы с Пашкой по привычке подпели:
Спать, спать по палатам
Пионерам и вожатым…
– Ага, особенно – вожатым, – проворчал Лемешев.
– Главное, чтобы снова не подрались, – ответил я, вспомнив конец прошлой смены.
– Бежим! – крикнул Пашка.
И мы пустились во весь дух, чтобы не попасться на глаза Голубу.
…После прошлого сабантуя Юра-артист появился с запудренным синяком и рукой на перевязи, он ходил прихрамывая, всем объясняя: хорошо, что получил увечья летом, когда сезон закрыт, иначе Театру оперетты пришлось бы отменять спектакли, где он исполняет главные роли, а это почти весь репертуар, вместо него на сцену выпустить некого. Талант – явление штучное! Все кивали, воображая картину: на двери висит большое объявление:
Театр оперетты закрыт в связи с болезнью народного артиста Юрия Зайцева
Иногда взрослые врут с таким размахом, какой нам, подрастающему поколению, даже не снится. Зимой Лида принесла из завкома два горящих билета на «Фиалку Монмартра», отец наотрез отказался идти – ждал трансляцию футбола, и маман взяла меня, я обрадовался, однако для вида, нахмурившись, стал отнекиваться, ссылаясь на не сделанные еще уроки, но она пообещала угостить «картошкой» с лимонадом. Внутренне ликуя, я нехотя согласился. Всю дорогу Лида радостно повторяла:
– Сегодня поет Шмыга! Ты понимаешь, сынок, Шмыга!
Я почему-то решил, что Шмыга – мощный пузатый мужик с тяжелым густым голосом, как у Шаляпина. Оказалось, это вертлявая и писклявая дама с большим красным пером, воткнутым в прическу. Она танцевала и пела, юля перед целой шеренгой длинноногих расхлябанных щеголей, одетых в черные фраки и цилиндры. Тимофеич, кстати, терпеть не может «балерунов», он говорит, нахмурившись: «Тоже мне работа – ногами дрыгать! Их бы на недельку к станку, жеребцов!»
Сидели мы далеко, но маман взяла в гардеробе за 30 копеек маленький бинокль, светло-кремовый с золотыми ободками. Она переживала, что мы не успели заехать к Батуриным, чтобы позаимствовать их старинный, перламутровый бинокль, принадлежавший покойной Елизавете Михайлове. Но я успокаивал Лиду, что за тридцать копеек мы не только можем смотреть спектакль сквозь увеличительные стекла, но и получим по окончании одежду без всякой очереди, а она там длиннющая.
Итак, я внимательно обозревал сквозь линзы сцену, и вдруг облик одного из «ногозадирал», дрыгающегося с самого краю, показался мне знакомым, я покрутил рифленое колесико, добиваясь абсолютной четкости изображения… Не может быть! Невероятно! В антракте я взял у маман программку, долго ее изучал и в самом конце длинного списка «обитателей Монмартра» нашел знакомое имя – Юрий Зайцев. Да это же наш Юрпалзай! Да уж, кроме него, спеть хором: «Без женщин жить нельзя на свете, нет!» – в Театре оперетты больше некому. Ну и «вралиссимус», как говорит в таких случаях Башашкин!
– Посмотри! – Лемешев на бегу показал рукой на окна нашего, третьего, корпуса.
В обеих половинах горел свет, но у девчонок он был лимонно-желтый, а у нас – апельсиновый. Почему? Ведь абажуров нет, одни голые лампочки.
– Из-за обоев, – догадался я.
– Точно! – подтвердил Пашка. – Котелок у тебя варит!
Мы, тяжело дыша, взлетели на крыльцо. Теперь надо было оценить обстановку, чтобы не нарваться на Голуба. Если он уже пошел по палатам, проверяя «наличие отсутствия», – наши дела плохи…
Третий корпус похож на остальные лагерные постройки: одноэтажный, длинный домик, обшитый досками, выкрашенными в зеленый цвет, и крытый старым шифером, который порос бархатным мхом, а местами потрескался. Под окнами кусты отцветшей сирени с ржавыми метелками на верхушках. Посредине – крыльцо, напоминающее скворечник. Одна ступенька за зиму вконец сгнила, и ее заменили свежей белой доской, она еще сочится янтарной смолой, прилипающей к подошвам. Через перила обычно перекинут выставленный на солнышко матрас: у Засухина, кроме экземы, еще и недержание, ему даже на ужин компот не дают, что помогает, но не всегда. Он как-то признался, что во сне ему мерещится, будто он мчится, мчится, чтобы успеть в «белый домик», но каждый раз опаздывает и просыпается от мокрого неудобства. Мы стараемся не замечать его недостатка. Подумаешь, все мы в младенчестве писались. Ну, задержался человек слегка в детстве – бывает, пройдет. И только Аркашка при каждом удобном случае напоминает бедному парню о его «протечках»:
Эй, лысый,
Иди пописай!
Я заглянул в дверь – никого, и мы осторожно, стараясь не скрипеть половицами, вошли вовнутрь корпуса.
В просторном вестибюле к стенам прикручены вешалки с двойными алюминиевыми крючками – короткий нижний для курточек, длинный верхний для панам, пилоток, картузов. Ниже, у самого пола, тянутся узкие стеллажи для ботинок, сандалий, кедов. Они, высыхая, издают дух затхлой прелости. Налево – девчачья палата, из нее всегда приятно пахнет: женщины, они, понятно, всегда благоухают пудрой и «Красной Москвой», но девчонки-печенки с какой стати? Загадка…
Направо – наша, мальчиковая, половина, из нее всегда почему-то несет мокрой собачьей шерстью. Прямо – каморка, где живет Эмма Львовна. Из-за двери всегда тянет растворимым кофе и удивительными духами, название которых Нинка Краснова произносит с благоговеньем – «Рижская сирень». Голуб с другими парнями-вожатыми обитает в «общаге» – двухэтажном новом корпусе, он стоит на краю огороженного котлована, вырытого под бассейн.
Там же, на первом этаже, сидят дирекция и бухгалтерия. Из открытого окна далеко в Поле разносятся беспрерывный стук деревянных счетов и зычный голос снабженца Когана. По телефону люди почему-то говорят громче, чем в жизни, точнее – орут: «Где, я вас спрашиваю, четыре мешка гречки и пять риса? Где восемь ящиков вермишели? Где сорок килограммов сухофруктов и сто брикетов кисельного концентрата? Вы с ума там, что ли, посходили? У меня здесь двести ртов. Чем я их кормить буду, грудью? Это блокада? Нет, вы ответьте! Хотите неприятностей? Они у вас-таки будут в ассортименте! Когда выложите партбилет на стол, тогда поймете, что дети – цветы жизни! Нет, не завтра утром, а сегодня вечером. Так-то лучше. Жду!»
В дирекцию Галякве мы относим письма, которые три раза в неделю отвозит в Москву на своей таратайке Лысый Блондин, назад он доставляет весточки и гостинцы от родителей, так как не у всех из-за работы получается приехать в воскресенье в лагерь. Лида, например, в первую смену выбралась только на родительский день, но каждую неделю передавала мне посылки. Надписанные свертки и пакеты лежат в углу приемной: заходишь, говоришь Галякве фамилию и получаешь передачу с обязательной рекомендацией перед обедом сладкого не есть, а то перебьешь аппетит.
В посылке обычно, кроме клубники или черешни, таятся соевые батончики, конфеты «Коровка», мои любимые вафли «Лесная быль», леденцы и кулек крупных семечек, специально для меня купленных на Пятницком рынке и пожаренных бабушкой Маней. Я всегда делюсь с Лемешевым и Козловским, раньше угощал Шохина, самого рослого и сильного парня в нашем отряде, спокойного и справедливого. Он никого не обижал, не воспитывал, а если кто-то уж очень сильно доставал, Боря подзывал бузотера, тот покорно подходил, и силач делал ему саечку. На первый взгляд, вроде бы, пустяк, баловство: средним пальцем ты, словно крючком, цепляешь провинившегося за подбородок, а потом резко дергаешь вверх, пропахивая ему лицо всей пятерней и особенно больно задевая ноздри. Потом Шохин обычно гладил наказанного по голове и предупреждал:
– Не возникай! А то получишь американский щелбан! Понял?
– Понял-понял, – покорно кивал пострадавший, радуясь своему счастью.
Почему? А потому, что американский щелбан в Борином исполнении валит с ног. Техника простая: упираешься прямыми сомкнутыми пальцами в лоб несчастного, а затем, резко схлопнув ладонь, бьешь со всей силы запястьем между глаз. В голове потом целый день звенит. Думаю, работник Балда вышиб ум у жадного попа не щадящим русским щелчком, а с помощью именно американского щелбана. Странно, что в учебнике литературы по этому поводу ничего не сказано.
При Шохине, в палате у нас была образцовая дисциплина и без Голуба. Эмаль, выходя из своей каморки и куда-то убегая, ворковала:
– Боренька, я на тебя надеюсь!
Жаль, на вторую смену он не остался: спортивные сборы. После него стал верховодить «клейтуковец» Жаринов, который возбухать пытался еще при Шохине, но тот на второй день по приезде предложил ему прогуляться в Поле, откуда Аркашка вернулся с расквашенным носом и затих до конца смены, зато уж в июле распоясался. Нашу троицу тираннозавр особо не трогал, только задирал, а вот бедняга Засухин за каждое недержание получал ломовой американский щелбан, и, кажется, стал из-за этого писаться еще чаще. Доставалось и Жиртресту, ему тиран при каждом удобном случае давал такой мощный пендель, точно бил угловой. Толстяк даже ходить стал как-то боком, постоянно опасаясь за свою выпуклую задницу, ставшую сплошным синяком – сам в душе видел. Если кто-то, испортив в палате воздух, забывал обезопаситься, громко сказав: «МРП» (милиция разрешает пукать), то получал сокрушительный подзатыльник. Иногда Аркашка просто так, под настроение, подходил и без слов бил под дых, а когда жертва, согнувшись от боли, не могла вздохнуть, наставительно советовал:
– Качай пресс, слабак!
После отъезда Козловского Жаринов, как я заметил, ждал только случая, чтобы придраться к нам и поквитаться за нашу независимость, а со мной лично за Ирму, которая ему четко нравится. Во мне он видит почему-то соперника. И мы с Лемешевым договорились: не отступать, даже если придется вернуться домой с подбитыми глазами.
Я вдруг подумал: поразительно! Все эти мысли и картины пронеслись в моей голове, пока мы стояли в прихожей, пахнущей обжитой сыростью, и пытались понять, где находится Голуб – в каморке или в палате. Если на девчачьей половине, это хорошо – проскочим, если же на нашей – плохо: готовься к экзекуции. Коля считает, что инстинкт дисциплины у пионеров можно выработать только с помощью телесных наказаний. А еще я подумал: если советские космические корабли будут летать со скоростью мысли, то за судьбу Вселенной можно не волноваться: «И на Марсе будут яблони цвести…»
А из каморки тем временем доносился очень интересный разговор.
– Не пойду я! Не упрашивай!
– Да что ж такое?!
– Ничего. Одеялкой он ее накрыл!
– Тебе-то что?
– Не пойду я, не хочу, с детьми побуду, мало ли что… – капризничала Эмаль.
– Эм, – уговаривал Голуб. – Ну что ты как девочка! Ничего с ними не случится. Пойдем – хоть расслабимся!
– Вот и расслабляйся… Покрывай всех… одеялками!
– Далось тебе это одеяло! Все решат, что ты отрываешься от коллектива!
– Ну и пусть!
– И от меня отрываешься? – почему-то в нос спросил Голуб.
– Ну не надо! Здесь все слышно. Перестань! Когда будем конфисковывать?
– Зачем откладывать! Сейчас.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.