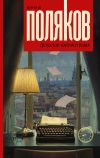Текст книги "Совдетство 2. Пионерская ночь"

Автор книги: Юрий Поляков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 26 страниц)
20. Началось!
Мы с Пашкой переглянулись и нырнули в нашу палату, а там сам воздух уже был пропитан предстоящими прощальными пакостями. Даже Незнакомка смотрела из косо висящей рамы со злорадным высокомерием, мол, ну, готовьтесь, пионеры! Еще недавно на стене висели две картины, но «Мишки в лесу», когда кидались подушками, соскочили с гвоздя и разбились – рама вдребезги. Голуб проводил расследование, делал очные ставки, но так и не добился правды, поэтому каждому вкатил по три горяченьких – для профилактики. Конечно, не подарок, но по сравнению с «пенальти» – сущие пустяки.
Когда мы вошли, народ укладывался, с подозрением поглядывая по сторонам и соображая, откуда грозит опасность. Жаринов лежал, положив обутые ноги на никелированную спинку кровати. Он встретил нас кривой усмешкой. Переднего зуба у него не хватало, вышибли в драке, но именно благодаря этому Аркашка мог прицельно плевать метров на пять и однажды на моих глазах молниеносной слюной припечатал к стене большую синюю муху, и та сразу скончалась, видимо, от никотина, который убивает даже лошадь.
– Где болтались? – спросил тираннозавр.
– Руки мыли… – независимо ответил Лемешев.
– Смотрите у меня! Эмаль еще здесь?
– Здесь. Грозит, что не пойдет на сабантуй, – сообщил я.
– Хреново! А Голубь?
– С ней воркует.
Отрядный мучитель затейливо выругался, давая понять, что вожатого и воспитательницу, как пить дать, связывают те самые загадочные отношения, от которых появляются на свет дети. В прошлую смену к Жаринову приезжала на родительский день мать – красивая, но обрюзгшая и печальная женщина с ранней сединой. Тираннозавра было не узнать, он вертелся вокруг нее, заботливо усаживал, что-то рассказывал, смешил, бегал ей за водой, чтобы запить таблетку. Она смотрела на сына с отрешенной улыбкой, кивала, гладила по голове, но правую руку все время держала в глубоком кармане сарафана, а когда на минуту невзначай вынула, я с ужасом увидел вместо ладони заостренную культю. Заметив свою оплошность, мамаша Жаринова исказилась лицом и торопливо спрятала обрубок. Всезнающая Нинка потом рассказала, что кисть у Аркашкиной матери оторвало на конвейере, муж с инвалидкой жить не стал и сбежал к другой.
– Представляешь, какой гад! – с глубинной ненавистью произнесла Краснова. – И она теперь пьет с горя…
…Мы с Пашкой, поеживаясь от ночной свежести, разделись. Раньше в корпусах вообще не топили, в холодную погоду нам просто выдавали дополнительные байковые одеяла. Но в позапрошлом году достроили новую котельную между клубом и медпунктом, в палатах, под подоконниками появились чугунные батареи, однако горячую воду в них подают, если на улице совсем уж колотун. В начале июня случаются заморозки, трава утром белая, будто посыпанная сахарной пудрой. У дачников мерзнет огуречная рассада, некоторые, чтобы укрыть ростки теплым дымом, разводят костры – и от садовых участков тянет горькой гарью. Зато июль обычно жаркий, и батареи отключают на всю смену, а мокрые после дождя вещи мы сдаем в сушилку, что возле изолятора.
В дверь тихо заглянула Эмма Львовна, осмотрелась, пересчитала нас по головам и перед тем, как скрыться, приказала:
– Аркадий, разуйся!
В нашей палате двадцать четыре койки, они стоят в два ряда, образуя посредине неширокий проход. Между кроватями втиснуты белые фанерные тумбочки, одна на двоих, как у нас с Козловским: на верхней полке мои умывальные принадлежности, на нижней – его… были. Гостинцы и ценные вещи, вроде фантиков и засушенных бронзовиков, в тумбочке лучше не хранить, хотя в этой смене почти не воруют. Зачем? Отполовинить шоколадку или яблоко – святое дело, надо по-честному подойти к жующему и строгим голосом сказать:
– Сорок восемь – половину просим!
Или просто:
– Оставишь!
Даже прожорливый Жиртрест оставит – таков закон джунглей.
Спальные места нашей троицы расположены справа от двери. Первая койка, в самом углу, Вовкина, но теперь она пустует, полосатый матрас свернут рулоном, видна сетка с пружинами, а из серой, без наволочки, подушки торчат белые перышки. В углу, конечно, спокойнее, зато наши с Пашкой кровати сдвинуты вместе и упираются спинками в узкий подоконник: если приподняться на локтях, через стекло видна линейка с трибуной и флагштоком, а также асфальтовая дорожка, ведущая к «белому домику».
– Ну, давай, Шляпа, бухти! – приказал Жаринов, разуваясь.
– Жар, надо подождать. Пусть уйдут! – ответил я.
– Ладно, – благосклонно кивнул тираннозавр. – Говорят, ты на третью смену остаешься?
– Это вряд ли…
Я сложил шорты, рубаху и пилотку на табурет, укрыв сверху красным галстуком, а набухшие от вечерней росы кеды задвинул под кровать, потом лег на влажную простыню, укрывшись одеялом, которое пахнет почему-то псиной, как несчастная Альма. Место тут сырое, низина, а сквозь густые кроны солнце почти не проникает в палату. Но батареи все равно холодные. Экономят на детях. Зря! Допустим, я от сырости заработаю ревматизм, и когда придет время идти в армию, меня признают негодным к службе. Кто будет Родину защищать?
Лемешев вынул из тумбочки вчерашнюю плюшку, принесенную с полдника, разломил и протянул мне половину.
– Главное не заснуть! – шепнул он.
– У тебя пасту не сперли?
– Нет, я в наволочку спрятал. А у тебя?
– А у меня и красть нечего, на один раз осталось! – Я показал туго свернутый, опустошенный тюбик, похожий на улитку, которой на круглый ротик навинтили намордник.
В палате снова появилась хмурая Эмаль, еще раз пересчитала нас по головам, двинулась по проходу, увидела ноги Тиграна и воскликнула:
– Папикян, ты что – глину месил?! Срочно мыть!
Тот хмыкнул, встал, перекинул через плечо вафельное полотенце и вышел. Около Аркашки воспитательница тоже остановилась, я был уверен, что и его она отправит принимать водные процедуры: ступни у тираннозавра были черного цвета. Но Эмаль словно не заметила этого, зато несколько раз шумно втянула ноздрями воздух и погрозила курильщику пальцем, а тот, захлопав честными глазами, скроил простодушно-непонимающую рожу, мол, о чем это вы? На обратном пути она отобрала у Жиртреста обмусоленную картофелину, не обратив никакого внимания на нашу плюшку, зато Засухина строго спросила:
– Пил на ночь?
– Нет.
– Смотри у меня!
В дверном проеме воспитательница задержалась и, положив руку на черный выключатель с рычажком, напоминающим птичий клювик, задала идиотский вопрос:
– Я могу рассчитывать на вашу сознательность?
– Да-а-а… – нестройным хором соврали мы.
– Будете вы спать или нет, дело ваше, но, если я утром найду хоть одно перышко, хоть одну пушинку – пеняйте на себя! Ясно?!
– Я-я-я-ясно-о-о…
Понять ее опасения можно: однажды, после подушечного побоища, пол в палате был усыпан перьями, точно снегом. Раиса Никитична рыдала, мол, не дети, а чистые вредители народного имущества! Она кастелянша и заведует не костями, остающимися от мороженых туш, привезенных на кухню (так я думал в наивном возрасте), а постельными принадлежностями. Нас лишили тогда похода на Рожайку, а у вожатого и воспитательницы вычли из зарплаты.
– Отбой! – Эмма Львовна щелкнула выключателем, и две лампочки в черных патронах, свисающих с потолка на витых проводах, погасли, в палате стало темно, а за окнами, наоборот, посветлело. Еще несколько мгновений в воздухе виднелись меркнущие лилово-зеленые очертания предметов. Глаза быстро привыкали к мраку. Лемешев поднялся на локтях и поглядел на улицу:
– Вроде побежали!
– Хочется выпить-то!
– Оба? – уточнил Жаринов.
– Оба. В обнимку.
– Она же ему в матери годится!
– И на старуху бывает проруха.
– Значит, свобода!
– Свобода – мечта народа!
– Ну, кто самый смелый? – спросил тираннозавр.
– За Русь! – отчаянно картавя, крикнул Пферд и обрушил подушку на голову Жиртреста, который поперхнулся новой картофелиной.
– Бронебойным заряжай! – крикнул я, как в фильме «Четыре танкиста и собака», метнул бесхозную подушку Козловского, сбив этим мягким ядром Борьку на пол.
Тут вернулся Тигран, явно не дошедший до умывалки, выдернул подушку из-под головы Засухина и обрушил ее на башку не ожидавшего нападения Пашки, который все еще смотрел в окно. Лемешев в долгу не остался, он схватил свернутый матрас и направил его, подобно тарану, на Папикяна, тот организованно отступил. Жаринов, наблюдавший за боем из своего угла, не выдержал, выскочил в проход, размахивая сразу двумя подушками, а третью напялил себе на голову, точно наполеоновскую треуголку. Тут вспыхнул ядовито-яркий свет, беспомощно щурясь, мы застыли в самых нелепых позах. А на пороге, жестоко улыбаясь, стоял Голуб с пустой коробкой в руках. Ясно: они сделали вид, будто уходят, а сами по боковой дорожке обогнули корпус и воротились, чтобы застать нас врасплох. Так глупо попасться! Интересно, зачем ему коробка?

Коля внимательно осмотрел всех участников битвы, явно вспоминая, кому давно не влетало, и ткнул пальцем в Папика:
– Ты!
– Почему я?
– Вопрос риторический. Не первый день в лагере, и все знаешь сам. Что гласит закон джунглей?
– Понял…
– Но ты можешь облегчить свою участь, если скажешь, кто начал.
– Не видел… – Тигран безропотно лег на кровать ничком и приспустил сатиновые трусы, оголив белую, незагорелую попу, покрытую черными волосами.
– Десять горяченьких или один пенальти? – предложил вожатый.
– Нет уж!
– Ладно! Мы тоже не звери… – Коля снял с ноги полукедину, медленно приблизился и спросил:
– Готов?
– Всегда готов…
– Правильно!
Голуб примерился и так лупанул резиновой подошвой по голому заду, что дрогнули в рамах стекла.
– Раз… – прохрипел Папик.
Палач нашего детства снова размахнулся.
– Два…
Тигран мужественно, лишь покряхтывая, выдержал всю экзекуцию.
– Молодец, – похвалил Голуб. – А теперь сдавайте химическое оружие!
– Что-о?
– Зубную пасту, олухи небесные!
– Зачем?
– Завтра отдам!
– Это личная собственность! – возмутился подкованный Пферд.
– У нас уже почти коммунизм, – усмехнулся вожатый, медленно двигаясь по проходу.
Он обошел палату, подставляя коробку, которая наполнилась тюбиками, в основном сморщенными, плоскими, полувыжатыми.
– У меня кончилась! – соврал Лемешев.
– А если подумать?
Павлик, поколебавшись, пошарил в наволочке и отдал свою заначку.
– То-то! Я про вас все знаю! И все вижу! Если не понимаете по-хорошему, будем разговаривать по-плохому. Ни звука, ни слова, ни шороха! Иначе – красный террор! Ясно? Не слышу?
Все промолчали. Мы же ученые и знаем: это проверка на вшивость. Тот, кто по глупости ответит вслух, сразу же получит за нарушение приказа в лоб. Голуб удовлетворенно усмехнулся. В палату заглянула Эмаль и забрала у него коробку, видимо, чтобы произвести конфискацию у девчонок. Они, конечно, не такие озорные, как мы, но последняя ночь есть последняя ночь…
Коля достал из заднего кармана круглое зеркальце в кожаной окантовке, осмотрел с огорчением редеющий чуб, вздохнул о неизбежном, заботливо поправил несколько волосинок, обвел нас предупредительным взором, погасил свет и вышел.
Некоторое время мы лежали не шевелясь, и только Папикян тихо ругался, ворочаясь и стараясь найти безболезненную позу. Я вспомнил, как в раннем детстве Лида, выходя из комнаты, строго напоминала мне, что в стене спрятан специальный аппаратик, благодаря которому она знает все, что я вытворяю в отсутствие взрослых. Внимательно осмотрев стены, я убедился: да, в самом деле, в углу под потолком заметна заклеенная обоями выпуклость, где, наверное, и спрятано всевидящее устройство. Боясь наказания, я сдерживал страстное желание выплеснуть остатки ненавистной манной каши в помойное ведро или забраться на стол. Потом, когда в нашей комнате делали ремонт и оголили стены, чтобы наклеить новые обои, выяснилось: бдительная выпуклость – всего лишь накладная вентиляционная решетка…
За окном по радио еще раз сыграли отбой: видимо, и в других отрядах с дисциплиной было не все в порядке, в последнюю ночь никто не хотел спать. Даже луна воспалилась, ожидая и гадая, какими же пакостями обернется конец второй смены. В первую нашей троице удалось-таки перебодрствовать и перемазать пастой почти всю палату, кроме, разумеется, Шохина и Жаринова.
21. Горнист Кудряшин
Когда после окончания первого класса, Лида отправила меня в «Дружбу», здесь все было иначе: территория заканчивалась сразу за «белыми домиками», еще не прирезали и не обнесли бетонным забором Поле, где бродило колхозное стадо. Чумазый подпасок в старом, видно, отцовском пиджаке с подвернутыми рукавами страшно ругался на буренок и отгонял их, щелкая длинным кнутом. Но коровы все равно подходили к деревянному тогда еще забору. Обдавая теплым молочным дыханием, они касались мокрыми колючими ноздрями наших рук, просунутых между штакетинами, и смахивали большими шершавыми языками с ладоней подсоленные горбушки черного хлеба, стыренного в столовой.
Теперь на бывшем лугу – футбольное поле, волейбольная и городошная площадки, турники, яма с песком для прыжков, беговая дорожка, директорский корпус, а рядом экскаватор начал рыть котлован под бассейн. Особняком стоит высокий столб, к нему длинной веревкой привязана кожаная груша размером с мяч, а вокруг земля вытоптана до асфальтовой твердости. Здесь играют в пионербол. Правила такие: ты со всей силы бьешь кулаком по груше, чтобы веревка до конца обмоталась вокруг столба – и тогда ты победил. Но противник делает то же самое, мощными ударами возвращая грушу на твою половину. Верх берет тот, кто сильнее и ловчее. Однажды на спор сошлись два главных лагерных силача Аристов и Федор-амбал, а чтобы понаблюдать за схваткой, сбежалось пол-лагеря, дети и взрослые. Бросили монетку – и первый удар выпал физруку. Он размахнулся – бах – веревка молниеносно обмоталась вокруг деревяшки, а груша взметнулась, прильнув к самой вершине столба. Тая из Китая от избытка чувств бросилась Аристову на шею, а вот Ассоль обиженно заявила, что так нечестно, и надула розовые губы.
Справа от центральных ворот, где прежде рос березняк, отстроили большой клуб со сценой и комнатами для кружковых занятий, есть там теперь настоящий экран в полстены, задергивающийся шторами, а под самым потолком расположена комната киномеханика, но в нее можно попасть только по наружной железной лестнице, вроде пожарной. В стене прорезаны две амбразуры, откуда бьют конические лучи проекторов, их теперь пара, поэтому фильмы идут без перерыва, только когда кончается одна часть и начинается другая, изображение смешно подпрыгивает и передергивается. Звук из новых черных колонок, разнесенных по сторонам сцены, стал гораздо громче и отчетливее, все хорошо слышно – никто никого уже не переспрашивает. Да и фильмы теперь Лысый Блондин привозит чаще всего цветные, а не черно-белые, как прежде…
За пять лет многое изменилось! Когда я впервые приехал сюда, в лагере был настоящий горнист, звали его Толей Кудряшиным. Он выбегал на середину линейки, еще не забетонированной, вставал рядом с прежним невысоким деревянным флагштоком, несколько раз стряхивал горн, как большой градусник, освобождая его трубчатое нутро от ненужной слюны, а потом, вскинув к небу золотой раструб, подобрав лицо и напружив щеки, Толя вминал губы в серебряный мундштук – и над палатами летели сначала хрипловатые, а потом все более чистые и звонкие, до слез знакомые медные звуки:
Бери ложку, бери хлеб
И садись за обед!
Или:
Вставай, вставай, дружок,
С постели на горшок!
Вставай, вставай,
Порточки надевай!
Всякий раз сигнал получался разный, не похожий на вчерашний: чаще всего – бодро-отрывистый, иногда – торопливый, порой – протяжно-скучающий, а когда Толя влюбился в Риту Званцеву, вожатую третьего отряда, – горн зазвучал загадочно и нежно. Кудряшина тогда вызвала Анаконда и строго объяснила, что в его возрасте любовь, да еще к девушке, которая старше на целых пять лет и учится в пединституте, – дикая глупость, бесперспективная трата чувств. А если он будет и дальше бросать по ночам в Ритино окно цветы, которые преступно украдены с клумб дачников, написавших три жалобы, она, как директор, несмотря на Толины музыкальные таланты, выставит его из лагеря с волчьей характеристикой.
Кудряшин исчез из лагеря за неделю до конца смены, и горнить было поручено парню из второго отряда, но у того получалось какое-то позорное металлическое кудахтанье. Мы смеялись и дразнили неумеху. К следующему сезону «Дружбу» радиофицировали, и горн теперь звучал из репродукторов, развешенных на столбах или под коньками спальных корпусов. Звуки изо дня в день получались совершенно одинаковые, какие-то чересчур правильные, скучные и неживые. Услышав механическое «Вставай, вставай дружок!», вскакивать, как раньше, не хотелось, наоборот появлялось желание повернуться на другой бок и дремать дальше. Этим летом, в первую смену, Кудряшин приезжал проведать родной лагерь. Он был в фуражке с зеленым околышем, в парадной военной форме, на погонах – буквы ПВ и широкие золотые лычки. На его груди, кроме выпуклых значков с циферками, красовалась серебряная медаль. Я рассмотрел на ней бойца в длинной шинели, стоящего с автоматом у пограничного столба. Толино лицо рассекал большой шрам, похожий на лиловую сороконожку, и он как-то странно, со скрипом, переставлял правую ногу, обутую в негнущийся, без единой морщины начищенный ботинок.
– Ух, ты! – изумлялся Кудряшин, озирая изменения, случившиеся в лагере.
Прибежала, запыхавшись, Рита, обняла Толю и почему-то заплакала. Она к тому времени окончила институт, стала Маргаритой Игоревной, вышла замуж и заведовала нашим новым клубом, где жила в отдельной комнатке с дочкой, едва начавшей ходить. Муж почему-то никогда ее не навещал.
– Видно, объелся груш… – глумился ехидный Голуб, который поначалу к неудовольствию Эммы набивался к Званцевой на вечерний чай, но безуспешно.
Пришла оповещенная Анаконда, она с удивлением посмотрела на заплаканную Риту, та сразу же отстранилась от Кудряшина, вытирая платком слезы. Потом начальница со строгой благосклонностью окинула взглядом бывшего горниста и громко, так, чтобы слышали все столпившиеся вокруг, произнесла:
– Герой! Горжусь! Сержант?
– Да ладно уж… – замялся Толя. – Старший…
– Что значит «ладно»? Ты это брось, Анатолий! После обеда, вместо тихого часа встретишься с ребятами. Расскажешь о службе! У нас сегодня – рыбный суп и плов. Забыл, небось, как в «Дружбе» кормят?
– Анна Кондратьевна, я же на полчасика заскочил, мимо ехал…
– Мимо? – Она внимательно посмотрела на его начищенные значки. – Слышать ничего не хочу! Маргарита Игоревна, что сомлела? Покажи гостю наш новый клуб! Есть чем похвастаться!
Приковылял пузатый завхоз с пыльным горном в дрожащих руках:
– Нашел, нашел, ну, просто обыскался! – радостно повторял он.
– Попробовал бы не найти! – усмехнулась директриса и протянула инструмент старшему сержанту. – Узнаешь, Анатолий?
– Узнаю-ю… – Он взял инструмент, осторожно отер рукавом медь, сразу засиявшую на солнце, выдернул и посмотрел на просвет мундштук, вставил на место, вскинул золотой раструб к небу и напружил щеки:
Бери ложку, бери хлеб
И садись за обед!
Званцева глядела на него со счастливой грустью, а мы – со щенячьим восторгом. Анаконда взяла пограничника под локоть, разрешающе кивнула, Рита подхватила горниста под другую руку, и они вдвоем повели гостя по территории, гордо показывая все лагерные новшества. Кудряшин старался идти не хромая и хмурился, когда правая нога скрипела слишком громко, но все делали вид, будто ничего не замечают.
– Протез, – шепнул мне Козловский.
– Вижу, не слепой.
– Импортный, наверное? – предположил Лемешев.
– Ежу понятно! – кивнул я, помня, на каких нескладных деревяшках с черными резиновыми присосками ковыляли инвалиды по нашему переулку.
В столовой Толю посадили за отдельный стол, который всегда накрывали, если приезжее начальство хотело отведать из пионерского котла. Первое и второе ему доставили, как в ресторане, на подносе и не в маленьких, детских, а в больших взрослых тарелках. Анаконда с Ритой сидели рядом, любуясь, как он ест. Кто-то вспомнил, что Кудряшин в былые годы уважал набухшие компотной сладостью сухофрукты, и принесли целую, с верхом, тарелку, тщательно отобрав урюк и груши, особо ценимые героем.
– Ну, это вы зря… – застеснялся он.
– Ешь, Толя. – Анаконда положила ему руку на погон. – Тебе теперь надо быть очень сильным! Сможешь?
– А куда деваться?
…Как и обещала Анаконда, тихий час для всех, кроме мелюзги, отменили – невероятное, невозможное нарушение распорядка дня, написанного большими рисованными буквами на железном щите, установленном возле линейки, перед аллеей пионеров-героев. Новый клуб набился под завязку. Свободных мест не было, пришли все взрослые сотрудники, даже повара. Кудряшин поначалу не очень уверенно, озираясь на начальство и смущенно поглядывая на Риту, рассказал, как после школы его призвали в армию, и он сам попросился в пограничники. Шесть месяцев в «учебке», а потом их отправили на горную заставу в Таджикистане. За год службы Толя задержал двух нарушителей, но то были заплутавшие афганские пастухи, а вот третий оказался настоящим шпионом, очень опасным, хорошо подготовленным, знающим тайные козьи тропы. Настигли его уже на подходе к кишлаку. Завязался бой, диверсант бросил гранату, осколками убило лучшего Толиного друга ефрейтора Степу Малышко и Джульбарса, выдающегося служебного пса. Самого Кудряшина тяжело ранило. Но командир наряда лейтенант Кулинич, несмотря на контузию, разрубил нарушителя государственной границы пополам.
– Как пополам? Совсем пополам? – заволновались пионеры. – Чем? Мечом?
– Какой меч, балда, у советских пограничников?! Конечно, саблей! – поправил кто-то.
– Нет, сабля нам не положена, только штык-нож, – улыбнулся бывший горнист, – лейтенант выстрелил из АКМа…
– Из чего?
– Автомата Калашников – модернизированный. Замечательное оружие! Если пули ложатся кучно, то очередью можно буквально рассечь врага. Кулинич так и сделал. Степу посмертно наградили медалью «За отвагу», Кулинича – «Красной звездой», а меня медалью «За отличие в охране границы СССР». – Он ткнул пальцем в серебряный кружок на груди. – Потом, после госпиталя, комиссовали. Вот и вся история… Анна Кондратьевна, мне уже пора, у меня вечером поезд, я к Степиным родителям в Харьков еду… Обещал…
– Ну, если обещал… Спасибо тебе, Толя, большое спасибо! Будь счастлив, несмотря ни на что! – сказала Анаконда, пряча слезы. – А это тебе, на память! – Она протянула ему видавший виды горн.
В Москву Кудряшина отвез Лысый Блондин. Но самое главное, и об этом судачил весь лагерь, всю Ритину комнату, пока шла встреча, кто-то завалил цветами. Сам Толя, понятно, не мог нарвать и принести: он все время был на виду, да и нога… Подозрение пало на двух сорвиголов из первого отряда – Красильщикова и Чебатуру, они еще, будучи мелюзгой, хвостом ходили за Толей и клянчили, мечтая «дунуть в трубу». Иногда он им позволял, объясняя, как правильно «работать» при этом языком. Анаконда наказывать хулиганов не стала, возмущенным дачникам, пришедшим вечером целой толпой, отдала деньги, как и в нашем случае, а Рите погрозила пальцем и предупредила:
– Смотри у меня, Званцева! Парень и так без ноги. Хочешь, чтобы без башки остался? Даже не мечтай!
– Я и не мечтаю, – поникла она.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.