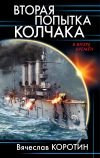Текст книги "Любовь вопреки судьбе. Александр Колчак и Анна Тимирева"

Автор книги: Александр Плеханов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
13 лет тому назад мы проиграли войну. Сказали ли мы эту фразу и сделали ли что-нибудь в ее духе? Кто ответственен за это… правительство? Да, не оно только… Ответственность за это несут прежде всего военные России, главным образом офицерство. После прелюдии 1905, 1906 гг. было ясно, что спасение России лежит в победоносной войне, но кто ее хотел – офицерство? – Нет, войны хотели немногие отдельные лица, которые готовились к ней как к цели и смыслу своей деятельности и жизни. Они точно указали на время начала войны) и десятилетний период мира был достаточен для всесторонней к ней подготовки. Наши враги были откровенны, но что мы сделали для войны? Наше офицерство было демократизировано и не имело подобия и тени военного сословия, воинственности, склонности и любви к войне, что совершенно необходимо. Оно было недисциплинированно и совершенно невоинственно. У нас было 3000 генералов против 800 французских, но что это были за фигуры! Что общего имели с высшим командованием эти типичные мирные буржуа, заседавшие в канцеляриях, гражданских ведомствах и управлениях, носившие военную форму и сабли с тупыми золингеновскими клинками. Или офицерская молодежь последнего времени из нашей «интеллигенции», без тени военного воспитания, без знаний, физически никуда не годная, думавшая только, как бы устроиться поудобней и поспокойней в 20 лет… У нас были офицеры преимущественно в гвардейских полках, в Генеральном штабе, но их было мало и численно не хватило на такую войну; два с 1/2 года они спасали Родину, отдавая ей свою жизнь, а на смену им пришел новый тип офицера «военного времени» – это уже был сплошной ужас. Разве дисциплина могла существовать в такой среде, с такими руководителями, но без дисциплины нет прежде всего смелости участвовать в войне, не говоря уже о храбрости. Без дисциплины человек прежде всего трус и не способен к войне – вот в чем сущность [сначала было: «Недисциплинированный человек прежде всего трус, и последний всегда недисциплинарен и не способен к войне, вот в чем секрет»] нашей проигранной войны. Надо открыто признать, что мы войну проиграли благодаря стихийной трусости чисто животного свойства [сначала было: «малодушия»], охватившей массы, которые с первого дня революции освободились от дисциплины и провозгласили трусость истинно революционной добродетелью. Будем называть вещи своими именами, как это ни тяжело для нашего отечества: ведь в основе гуманности, пацифизма, братства рас лежит простейшая животная трусость, страх боли, страдания и смерти. Почтеннейший Керенский называл братающихся с немцами товарищей идеалистами и энтузиастами интернационального братства, а я, возражая ему, просто называл это явление проявлением самой низкой животной трусости. «Товарищ» – это синоним труса, прежде всего, и армия, обратившись в товарищей, разбежалась или демократически «демобилизировалась», не желая воевать с крестьянами и рабочими, как сказал Троцкий и Крыленко.
И вот наряду с этой гнусной фигурой товарища, «разделяющего положение Кинталя и Циммервальда, но не умеющего даже говорить членораздельно и издающего бессмысленные звуки вроде «интернационала», вырисовывается другая фигура, так знакомая по Дальнему Востоку.
Мне особенно запомнилось скульптурное изображение одного из 47 ронинов. При всей наивности техники художник создал произведение, которое оставляет глубочайшее впечатление. Это фигура самурая XVIII века, вынимающего из ножен саблю. Художник передал с необыкновенной реальностью экспрессию ненависти, презрения и самоуверенного надменного спокойствия в монгольской физиономии и всей фигуре самурая, как бы задумавшегося, стоит ли вынуть саблю и не нарушит ли этот акт правило, запрещающее воину пользоваться саблей против нечистых животных. Такое же выражение имела и фигура Yamono Hisahide, когда он говорил о демократическом начале и социализме… И вот так и теперь этот проникнутый военной идеей до фанатизма монголо-малаец смотрит на нашего «революционного демократа» или товарища… он еще не вынул сабли и думает, можно ли применить к этой гадости клинок, в котором ведь заключена «часть живой души воина»… И если все останется так, как есть, то вынимать сабли ему не придется – он просто поставит на грязную демократическую лужу свой тяжелый окованный солдатский башмак, и лужа брызгами разлетится в стороны и немедленно высохнет под лучами «восходящего солнца» без всякого следа.
Но «война проиграна – еще есть время выиграть новую», и будем верить, что в новой войне Россия возродится. «Революционная демократия» захлебнется в собственной грязи, или ее утопят в ее же крови. Другой будущности у нее нет. Нет возрождения нации помимо войны, и оно мыслимо только через войну. Будем ждать новой войны как единственного светлого будущего, а пока надо окончить настоящую, после чего приняться за подготовку к новой. Если это не случится, тогда придется признать, что смертный приговор этой войной нам подписан.
Я долго не спал в эту ночь; я достал клинок Котейсу и долго смотрел на него, сидя в полутемноте у потухающего камина; постепенно все забылось и успокоилось; слабый свет потухающих углей отразился на блестящей полосе клинка, и в тусклом матовом лезвии с характерной волнистой линией сварки стали и железа клинок точно ожил какой[-то] внутренней, в нем скрытой жизнью, на его поверхности появились какие-то тени, какие-то образы, непрерывно сменяющиеся друг другом, точно струящиеся полосы дыма или тумана… Странные иногда происходят явления.
Утром я спустился прочесть новые газеты. Я развернул «Shanghai Times», и первое, что мне попалось на глаза, – это была короткая заметка, озаглавленная «New War» [ «новая война» (англ.)]. Это был перевод предсказания одного японского священника (или жреца, если хотите) шинтоистского храма Mitone в Musachi по имени Seihachi Kamoshito.
Позвольте привести это предсказание по-английски, не переводя его на русский язык [упоминаемый текст отсутствует].
Как Вам нравится предсказание Kamoshito [далее зачеркнуто: «Он не говорит ни слова про три великие державы, с которыми будет бороться Япония, но представляю Вам догадываться, какие это могут быть державы»]. Но довольно военной политики и милитаризма – я хочу сказать немного и про себя. Kamoshito предсказывает март 1919 г. как окончание войны – я буду надеяться, что не позже мая 1919-го я смогу Вас увидеть. Но если война затянется еще на год, то, вероятно, придется мне ждать 1920 г. Конечно, все это предположительно, что в 1919 и 1920 гг. я вообще буду иметь возможность какой-либо встречи. Наконец, захотите ли Вы ее – это тоже такой же вопрос. В конце концов будет так, как решит война, и ни я, ни даже Вы ничего с ней не поделаете. Для меня это так ясно, что я только могу надеяться, что война, которой я так предан, будет ко мне со временем настолько милостива, что позволит Вас встретить и увидеть, – я постараюсь служить ей как смогу лучше, чтобы получить ее благосклонное отношение и милостивое снисхождение к моему желанию целовать ручки Ваши. Вы знаете, что она совершенно непостижима и понять ее действия совершенно невозможно, и они не всегда согласуются с нашей логикой и намерениями. Иногда за ненужный пустяк она дает все, что только можно желать, иногда за подвиг – вычеркивает из списка… Она как-то сказала по-немецки со сквернейшим прусским акцентом: «nicht resonieren» [не резонерствовать (нем.)], а потом выпустила Клаузевица, написавшего, прости Господи, «Vom Kriege» [ «о войне» (нем.)] с необыкновенно проникновенной главой об Uberhohe [сверхвысота, крайняя высота; в рус. изд. название соответствующей главы – «Кульминационный пункт победы»[19]19
Клаузевиц К. О войне. [Т.] III. М., 1933. С. 52.
[Закрыть]], с помощью которой Hindenburg ликвидировал Россию путем социализма. Но я пишу вздор. Не сердитесь, милая, обожаемая моя Анна Васильевна.
Она (Война как божество) пришла ко мне совершенно неожиданно в один из вечеров, когда я сидел над картами военных театров, рассматривая последнюю «операцию» или, вернее, генерала Макензена в Прибалтийском крае (13–17 августа 1914 г.), это было очень много, больше даже, чем я мог себе представить, и я был близок к потере всякой веры, всякой надежды на какое-либо будущее… И она пришла ко мне».
В первые месяцы 1918 г. на родине А.В. Колчака происходили значительные события. В январе внимание советского руководства было приковано к событиям на Северо-Западе. Еще 3 ноября 1917 г. по указанию Ф.Э. Дзержинского была закрыта граница с Финляндией, а в январе для разоружения Белой гвардии он предложил направить в Финляндию красногвардейцев[20]20
Центральный архив Федеральной службы безопасности России. Ф. 1. Оп. 2. Д. 8. Л. 49.
[Закрыть]. В ночь с 27 на 28 января 1918 г. в независимой Финляндии было свергнуто правительство П.Э. Свинхувуда и властью овладели финские большевики. Конец 1917 – начало 1918 г. ознаменовался тем, что за три с половиной месяца советская власть была установлена почти на всей территории бывшей Российской империи. Иностранные формирования или объявили нейтралитет (Чехословацкий корпус) или были разоружены (Польский корпус). Но в то же время росло число регионов, от Украины через Дон и Кавказ до Оренбурга, не признававших власти советского центра и стремившихся организовать вооруженное сопротивление.
Весной положение Советской России значительно усложнилось, Германия направила в Финляндию сводную дивизию генерала фон дер Гольца, в то время как Маннергейм с Белой гвардией атаковал красных с севера на юг. К 13 апреля они овладели столицей Финляндии Гельсингфорсом. 29 апреля 1918 г. страна была очищена от большевиков. 4 мая 1918 г. советские отряды были также изгнаны немцами с территории Украины. Свергнув советскую власть, оккупанты разогнали Раду и посадили правителем Украины царского генерала Скоропадского. С мая 1918 г. Гражданская война приобрела глобальный и крайне жестокий характер.
Анна Васильевна – Александру Васильевичу. 7 марта 1918 г.: «П[етроград] – Фурштатская, 37.
Милый Александр Васильевич, далекая любовь моя. Сегодня яркий солнечный день, сильная, совсем весенняя оттепель – все имеет какой-то веселый, точно праздничный вид, совсем не соответствующий обстоятельствам. Просыпаемся с мыслью – что немцы. И весь день она составляет фон для всего остального. Эти дни – агония, хоть бы скорее конец, но какой конец, Александр Васильевич, милый, как жить после всего этого? Я думаю о Вас все время, как всегда, друг мой, Александр Васильевич, и в тысячный раз после Вашего отъезда благодарю Бога, что Он не допустил Вас быть ни невольным попустителем, ни благородным и пассивным свидетелем совершающегося гибельного позора.
Я так часто и сильно скучаю без Вас, без Ваших писем, без ласки Ваших слов, без улыбки моей безмерно дорогой химеры. У меня тревога на душе за Вас, Вашу жизнь и судьбу – но видеть Вас сейчас, притом, что делается, я не хочу. Я не хочу Вас видеть в городе, занятом немецкими солдатами, в положении полувоенно-пленного, только не это, слишком больно. Когда-нибудь потом, когда пройдет первая горечь поражения и что-нибудь можно будет начать на развалинах нашей Родины, – как я буду ждать Вашего возвращения, минуты, когда опять буду с Вами, снова увижу Вас, как в последние наши встречи».
Анна Васильевна– Александру Васильевичу. 8 марта 1918 г.: «Мой дорогой, милый Александр Васильевич, мне хочется говорить с Вами, на душе так нехорошо. Сегодня пришло из Кисловодска письмо на имя прислуги Сафоновых. Отец мой очень болен, я боюсь, что хуже, чем болен. Письмо от 9-го, а 5-го февр[аля] (ст. ст.) был у него удар и потом очень плохо. Пишет кухарка – sans menagement [неосторожно, без пощады (фр.)].
С тех пор прошло 2 недели, что там теперь? Почты фактически нет, телеграфа тоже. Мне страшно горько подумать об этой утрате, отец мне очень дорог, даром что не было, кажется, дня без столкновений, когда мы жили вместе. Но ведь это же вздор, у него характер крутой, а я тоже не отличаюсь кротостью. Мы же любили, и жалели, и понимали друг друга лучше и больше, чем привыкли показывать. Уж очень тяжело дался ему этот последний год, да и с тех пор, как брат мой был убит 2 года тому назад, его точно сломило. Если бы Вы знали, как больно было видеть это, как человек огромной воли и характера как ребенок плакал от радости, от волнения, от жалости. И я его так давно не видала – почти год с тех пор, как Вы были здесь в апреле. Милый мой Александр Васильевич, может быть, мне не надо вовсе так писать Вам, но мне очень горько, и, видит Бог, нет никого более близкого и дорогого, чем Вы, к кому я могу обратиться со своим горем. Вы ведь не поставите мне в вину, что я пишу Вам такие невеселые вещи, друг мой. И еще – совсем больна тетя Маша Плеске, ей очень нехорошо. Если с ней что-нибудь случится, для меня это будет большой удар. Во многие дурные и хорошие дни она умела быть больше чем другом мне, и у меня всегда было к ней чувство исключительной нежности и близости душевной. Господи, хоть бы что-нибудь знать. Простите меня, моя любимая химера, мне весь вечер пришлось сидеть с посторонними людьми и делать любезный вид, слава Богу, я одна сейчас и могу говорить с Вами одним не о беде, погоде и политике, а о том, что тяжелым камнем лежит у меня на сердце. В эти горькие минуты чего бы я ни дала, чтоб побыть с Вами, заглянуть в Ваши милые темные глаза – мне было бы все легче с Вами».
Анна Васильевна – Александру Васильевичу. 10 марта 1918 г.: «Дорогой Александр Васильевич!
Сегодня я получила письмо из Кисловодска – отец мой умер 14–27 февр[аля], не приходя в сознание. Как странно терять человека, не видя его, – все точно по-старому, комната, где он жил, его рояли, его вещи, а я никогда его больше не увижу. Мы все, дети, в сущности, не много видели отца – всегда он был в разъездах; дома много работал. Но с его смертью точно душу вынули из нашей семьи. Мы все на него были похожи и лицом, и характером, его семья была для нас несравненно ближе, чем все остальные родные.
Александр Васильевич, милый, у меня неспокойно на душе за Вас эти дни. Где Вы, мой дорогой, что с Вами? Так страшно жить, и самое страшное так просто приходит, и «несчастья храбры – они идут и наступают и никогда не кажут тыла». Только бы Господь Вас хранил, радость моя, Александр Васильевич. Где-то далеко гудят фабричные гудки – какая-то тревога. Но не все ли равно. К этому и ночной стрельбе мы так уже привыкли…»
Одной из причин смерти отца Анны Васильевны была политика большевистской власти по отношению к казачеству. Как только они не издевались над Василием Ильичем Сафоновым – старым человеком, музыкантом с мировым именем. Ему вменяли две вины: как казаку и как отцу дочери, которая была рядом с А.В. Колчком.
Сделаем небольшое отступление об отношении к казачеству в годы Гражданской войны. В первые дни революции в казачьих областях соблюдался полный порядок, жизнь протекала спокойно, права личности были защищены, а имущество не подвергалось революционному отчуждению. Все, кому удавалось вырваться из объятой революционным пожаром России и переехать в казачьи области, спасли свою жизнь и остатки своего имущества. Но казаки в своем большинстве не признали власть большевиков и объявили свои области самостоятельными до образования в России всенародно признанной общегосударственной власти. Но когда новая власть, заняв казачьи районы вооруженными отрядами Красной гвардии, стала насилием и террором устанавливать там свои порядки, они восстали. Кажется, ни один социальный класс и слой населения со времен существования мира не испытал на себе такой несправедливости и не пережил такой трагедии, которая выпала на долю казачества в 1917–1923 гг. Поэтому оно начало вместе с частями Белой армии вооруженную борьбу против советской власти.
24 января 1919 г. состоялось постановление Оргбюро ЦК РКП(б) о «расказачивании». Считаем целесообразным привести выдержки из него, ввиду важного значения для понимания политики советской власти в разгар Гражданской войны и последующих событий и не только на Дону:
«Циркулярно, секретно.
Последние события на различных фронтах в казачьих районах, наше продвижение в глубь казачьих поселений и разложение среди казачьих войск заставляет нас дать указания партийным работникам о характере их работы при воссоздании и укреплении советской власти в указанных районах. Необходимо, учитывая опыт Гражданской войны с казачеством, признать единственно правильной самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путем поголовного их истребления. Никакие компромиссы, никакие половинчатые пути недопустимы. Поэтому необходимо:
1. Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно; провести беспощадный массовый террор по отношению ко всем вообще казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с Советской властью. К среднему казачеству необходимо применять все те меры, которые дают гарантию от каких-либо попыток с его стороны к новым выступлениям против Советской власти.
2. Конфисковать хлеб и заставлять ссыпать все излишки в указанные пункты. Это относится как к хлебу, так и ко всем сельскохозяйственным продуктам…
5. Провести полное разоружение, расстреливать каждого, у кого будет обнаружено оружие после срока сдачи.
6. Выдавать оружие только надежным элементам из иногородних.
7. Вооруженные отряды оставлять в казачьих станицах до установления полного порядка.
8. Всем комиссарам, назначенным в те или иные казачьи поселения, предлагается проявить максимальную твердость и неуклонно проводить настоящие указания…»[21]21
Ильченко А.И. Казачьему роду нет переводу.? М., 1985. С. 75.
[Закрыть]
Нет необходимости анализировать весь документ, обратим лишь внимание на ключевой первый пункт. Ставка на общую ответственность, на круговую поруку. И какие-то оговорки не меняют существа дела. Отметим, что «последние события» в казачьих районах как раз не заставляли политическое руководство страны пойти на эти крайние меры. Уничтожение только «верхов» опровергается установкой «ко всем вообще казакам, принявшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с Советской властью». Допустим, что «прямое участие» ясно, а как быть с «косвенным»? Такие формулировки давали возможность произвола и разгула террора.
Ревкомы, возглавившие всю власть на местах, вели себя как завоеватели. Расстрелы производились днем и ночью, по 40–60 человек в сутки, палачи задыхались от этой работы, требовали присылки, а то, мол, не успеваем расстреливать. Расстреливали мужчин, женщин, стариков, детей, оскорбляли, насиловали женщин, грабили мирное население. Вот свидетельство коммуниста, посланного на Дон для разъяснения идеалов революции и укрепления советской власти, М.В. Нестерова из Замоскворецкого района г. Москвы: «Будучи командирован в Донскую область, находился в станице Урюпинской… ревтрибунал расстреливал казаков-стариков иногда без суда. Расстреливались безграмотные старики и старухи, которые еле волочили ноги, урядники, не говоря уже об офицерах. В день расстреливали по 60–80 человек. Принцип был такой: «Чем больше вырежем, тем скорее утвердится Советская власть на Дону». Никакого разговора, только штык и винтовка. Вели на расстрел очередную партию – здоровые несли больных… Во главе продотдела стоял некто Голдин, его взгляд на казаков был такой: надо всех казаков вырезать! И заселить Донскую область пришлым элементом…»
Подвергались обязательному расстрелу и георгиевские кавалеры – цвет и гордостъ нации. Стоны и крики не смолкали над куренями. Одни трагедии повлекли за собой другие.
Были отменены привилегии, личное оружие, униформа и самоуправление, запрещено носить фуражки и брюки с лампасами, из обращения изъято слово «казак». Сама принадлежность к казачьему сословию стала рассматриваться как некий социальный изъян. Станицы и хутора переименованы в села и деревни, казаков выгнали из куреней, запретили колокольный звон, закрыли церкви и приспособили их под склады, сбросили колокола и золотые кресты, запретили церковные праздники: Пасху, День поминовения усопших, венчание, крещение, исповедь, причастие, что очищало веками совесть человека. Короче, запретили традиции народа, обворовав его до нитки и низведя до нищенского рабского существования, выдрали корни, на которых покоилась духовная культура.
Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики И.И. Вацетис заявил 8 февраля 1919 г.: «Старое казачество должно быть сожжено в пламени социальной революции… Дон необходимо обезлошадить, обезоружить и обезножить…»[22]22
Венков А. Печать сурового исхода. К историй событий 1919 года на Верхнем Дону. Ростов-на-Дону, 1988. С. 67–68.
[Закрыть]
Однако нельзя изображать трагические события так, что будто бы пришли из России красные мужики и расправились с казаками. В Гражданской войне сами казаки убивали друг друга, тем более беспощадно расправлялись со сторонниками советской власти. О том, как они вели себя, свидетельствуют события в Майкопе в 1919 г. Генерал Добровольческой армии В.Л. Покровский приказал казнить пленных и членов местного совета. Для устрашения населения было решено сделать казнь публичной, повесив приговоренных к смерти. Но казаки просили разрешить им рубить головы осужденных. Генерал разрешил. На базаре возле виселицы, на которой уже висели казненные большевики, поставили несколько деревянных плах, и охмелевшие от вина и крови казаки начали топорами и шашками рубить рабочих и красноармейцев. Немногих прикончили сразу, большинство же казнимых вскакивали после первого удара с зияющими ранами на голове, но их снова валили на плахи и добивали.
По белогвардейским штабам долго ходили телеграммы об исчезновении тысячных колонн пленных, которые из одной станицы вышли, а в другую не пришли. Около 5 тыс. пленных было уничтожено в 1919 г. казаками в песчаных бурунах по левому берегу Дона, и жители этих хуторов впоследствии воспринимали меры советской власти по «расказачиванию» как нечто закономерное, как месть власти за «невинно убиенных»[23]23
Плеханов А.А., Плеханов А.М. Казачество на рубежах Отечества. М., 2007. С. 561.
[Закрыть]. Озлобленные воронежские и саратовские мужики платили тем же казакам.
Слова народной песни говорят о тех годах:
Большевики продолжили уничтожать императорскую и республиканскую армию России, отрицая все старое, что вело к забвению героического прошлого. Примером этого является и приказ от 18 мая 1918 г. № 3 члена коллегии Главного Петроградского командования РККА А.Я. Клявс-Клявина: «…всем чинам демобилизованной армии немедленно снять ордена, аксельбанты, кокарды, шпоры, петлицы и пуговицы с государственными гербами. По истечении трехдневного срока неисполнение сего приказа будет беспощадно караться заключением на гауптвахту и преданием суду»[25]25
Плеханов А. М., Плеханов А. А. Отдельный корпус пограничной стражи на границе России (1893–1919). 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Граница, 2018. С. 394.
[Закрыть].
Трагедия не только казачества, но армии и флота не закончилась в годы Гражданской войны, она повторилась и в годы Большого террора, когда были незаконно репрессированы сотни тысяч людей: и казаков, и не казаков.
Анна Васильевна – Александру Васильевичу. 10 марта 1918 г.: «Правительство сегодня выехало в Москву и сейчас же в городе начинается брожение. Рыщут броневые автомобили – как будто белой гвардии, действующей в контакте с немцами; по крайней мере красная гвардия тщится с ними сражаться. Но ее очень мало, и надо полагать, что не сегодня-завтра П[етрогра]д будет в руках белой гвардии, состав кот[орой] для меня несколько загадочен. Откровенно говоря, все это меня мало интересует. Ясно, что революция на излете, а детали мерзки, как всегда. Я и газет не читаю, заставляя С.Н. излагать мне самое существенное.
Володя Р. [предположительно речь идет о Владимире Вадимовиче Романове] все еще в тюрьме, и неизвестно, когда его выпустят, т[ак] к[ак] следствия по его делу еще не было (2 недели). Е.А. Беренс [капитан 1-го ранга] играет довольно жалкую роль большевистск[ого] техника по морским делам, осмысленность которой трудно объяснить, т[ак] к[ак] флота фактически нет уже довольно давно – вся команда разбежалась. Господи, когда же будет хоть какое-нибудь разумное дело у нас – ну пусть немцы, пусть кто угодно, но только не этот отвратительный застой во всем. Я писала Вам, что, может быть, поеду во Владивосток; из этого ничего не выходит, по крайней мере скоро, да, верно, и вовсе не выйдет. Что я буду делать – не знаю. Может быть, поеду к своим в Кисловодск, вернее, что останусь здесь. Это не важно, все равно Ваших писем я не жду – где же их получить, а остальное мне все равно.
До свиданья, пока – спокойной ночи, дорогой мой Александр Васильевич.
Да хранит Вас Бог».
Анна Васильевна – Александру Васильевичу. 13 марта1918 г.: «Вчера П[етроград] «праздновал» годовщину революции с'etait luqubre. Против ожидания – никаких манифестаций, на улицах мало народу, магазины закрыты, с забитыми ставнями окнами, и единственный за последнее время день без солнца. Праздник больше был похож на панихиду, да так оно и есть на самом деле – революцию хоронят по 4-му разряду: покойник сам правит. В городе по-прежнему ерунда, ничего не разберешь. Все так глупо, что нарочно не придумаешь такого. А немцы сделали высадку в Або и, кажется, собираются двигаться на П[етрогра]д с двух сторон – из Финляндии и со стороны Нарвы. Впрочем, говорят, что и Бологое более или менее в их руках при помощи военнопленных».
Анна Васильевна – Александру Васильевичу, не ранее 13 марта 1918 г.: «Милый мой Александр Васильевич, о ком ни начнешь думать, все так плохо: и моя мать со своим огромным горем, которой я ничем не могу помочь из-за этого проклятого сообщения, и несчастное семейство Плеске, и Володя Р[оманов] в одиночке, и Вы, моя любимая химера, неизвестно где, от которой я отрезана на такое неопределенное время. Как ни странно, я мало думаю о смерти отца; мне кажется, я просто ей не верю, часто, когда мне надо говорить о ней, я должна бороться с чувством, что на самом деле это только так, а он жив. Нельзя поверить этому, верно, если не видишь сама. Я все вспоминаю его живого, точно он в отъезде и вернется; странно, не правда ли?
Появилось в газетах несколько некрологов, написанных в том газетно-пошловатом стиле, кот[орый] отец глубоко презирал. Но в одном рецензент, вряд ли очень даже доброжелательно, обмолвился довольно замечательной характеристикой: «это был полководец, ведущий оркестровое войско к победе, в нем был какой-то империализм, что-то автократическое исходило из его управления» и «его деятельность не всегда отличалась вниманием к коллегиальному началу»… Впрочем, таково резюме, можно до некоторой степени «извинить» его необыкновенное упорство, служившее высоким целям и приводившее обычно к блестящим результатам, несмотря на явно контрреволюционный образ действий (это не говорится, а подразумевается, отдавая дань духу времени, конечно).
Да, если был контрреволюционер – до глубины души, то это был мой отец. Если революция разрушение, то вся его жизнь была созиданием, если революция есть торжество демократического принципа и диктатура черни, то он был аристократом духа и привык властвовать [над] людьми и на эстраде, и в жизни. Оттого он так и страдал, видя все, что делалось кругом, презирая демократическую бездарность как высокоодаренный человек, слишком многое предвидя и понимая с первых дней революции.
Простите, Александр Васильевич, милый, что я все возвращаюсь к тому же, невольно выходит так.
Сегодня я была в «Крестах», отнесла пакет с едой Володе Р., но его не видела. Хочу получить свидание, но для этого надо ехать в Военно-революционный трибунал за пропуском; т[ак] к[ак] никаких родственных отношений у меня к нему нет, то я просила его сестру сказать ему, чтобы он не слишком удивлялся, если к нему явится его гражданская жена: теперь ведь это просто, достаточно записи на блокноте или телефонной книжке для заключения брака, а повод, согласитесь, самый основательный для получения пропуска.
Два раза в неделю minimum назначается день для входа в П[етрогра]д, виновата, в вольный торговый город П[етроград] или П[етроград]скую красную-крестьянско-рабочую полосатую коммуну, кажется, полный титул. Но т[ак] к[ак] никто не знает дня и часа, то всего вернее, что просто в один очень скверный день мы увидим на каждом углу по доброму шуцману, и все пройдет незаметно. Как далеки Вы ото всего этого, Александр Васильевич, милый, и слава Богу, как далеки Вы от меня сейчас – вот это уже гораздо хуже, даже вовсе плохо, милая, дорогая химера.
А Развозов выбран опять командующим «флотом», если можно так назвать эту коллекцию плавающих предметов; вот Вам торжество коллегиального принципа в последнюю минуту. Господи, до чего это все бездарно. Во главе обороны П[етрогра]да стоит ген[ерал] Шварц. Вы его знаете, артурский, про кот[орого] говорят, что он собирается наводить порядки и едва ли не член имеющего родиться правительства.
Но все это теперь так неинтересно. Нельзя же повесить человека за ребро на год и потом ожидать от него сколько-нибудь живого отношения к событиям. Поневоле придешь к философско-исторической точке зрения, которую я, несмотря на это, все-таки презираю всей душой, – грош цена тому, что является результатом усталости душевной».
Александр Васильевич – Анне Васильевне. 16 марта 1918 г.: «Singapore. Милая, бесконечно дорогая, обожаемая моя Анна Васильевна.
Пишу Вам из Singapore, где я оказался неисповедимой судьбой в совершенно новом и неожиданном положении. Прибыв на «Dunera», которую я ждал в Shanghai около месяца, я был встречен весьма торжественно командующим местными войсками генералом Ridaud, передавшим мне служебный пакет «On His Majesty's Servis» [ «на службе Его Величества» (англ.)] с распоряжением английского правительства вернуться немедленно в Китай для работы в Маньчжурии и Сибири. Английское правительство после последних событий, выразившихся в полном разгроме России Германией, нашло, что меня необходимо использовать в Сибири в видах Союзников и России предпочтительно перед Месопотамией, где обстановка изменилась, по-видимому, в довольно безнадежном направлении. И вот я со своими офицерами оставил «Dunera», перебрался в «Hotel de l'Europe» и жду первого парохода, чтобы ехать обратно в Shanghai и оттуда в Пекин, где я имею получить инструкции и информации от союзных посольств. Моя миссия является секретной, и хотя я догадываюсь о ее задачах и целях, но пока не буду говорить о ней до прибытия в Пекин.
Милая моя Анна Васильевна, Вы знаете и понимаете, как это все тяжело, какие нервы надо иметь, чтобы переживать это время, это восьмимесячное передвижение по всему земному шару…
Не знаю, я сам удивляюсь своему спокойствию, с каким встречаю сюрпризы судьбы, меняющие внезапно все намерения, решения и цели… Я почти успокоился, отправляясь на Месопотамский фронт, на который смотрел почти как на место отдыха… кажется, странное представление об отдыхе, но и этого мне не суждено, но только бы кончилось это ужасное скитание, ожидание, ожидание, которое способно привести в состояние невменяемости любого Бога… Это время было для меня временем величайшего страдания, которое я когда-либо испытывал, кончится ли оно когда-нибудь…
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?