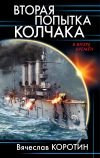Текст книги "Любовь вопреки судьбе. Александр Колчак и Анна Тимирева"

Автор книги: Александр Плеханов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Противник кричал на все море, посылая открыто радио гнуснейшего содержания, явно составленные каким-то братушкой, и я ждал появления неприятеля, как ожидал равновозможного взрыва у себя. Прескверные ожидания, надо отдать справедливость. Сообразно этому я думал о Вас, рисуя себе картины совершенно отрицательного свойства. Кроме неопределенной боязни и тревоги за Вас лично, мысль, что Вы забудете меня и уйдете от меня совсем, несмотря на отсутствие каких-либо оснований, меня не оставляла, и под конец я от всего этого пришел в состояние какого-то спокойного ожесточения, решив, что, чем будет хуже, тем лучше. Только теперь, в море, я, как говорится, отошел и смотрю на Вашу фотографию, как всегда. Сейчас доносят, что в тумане виден какой-то силуэт. Лег на него.
Конечно, не то. Оказался довольно большой парусник. Приказал «Гневному» утопить его. Экипаж уже заблаговременно сел на шлюпку и отошел в сторону. После 5–6 снарядов барк исчез под водой. Гидрокрейсера не выполнили задание – приказал продолжить завтра, пока не выполнят. Ужасно хочется спать. Надо кончать свое писание. Нет никаких мыслей, только спать».
Александр Васильевич – Анне Васильевне. 13 марта 1917 г.: «Я спал, как, кажется, никогда, – 9 часов подряд, и меня за ночь два раза только разбудили. День ясный, солнечный, штиль, мгла по горизонту. Гидрокрейсера продолжают операции у Босфора – я прикрываю их на случай выхода турецкого флота. Конечно, вылетели неприятельские гидро и появились подлодки. Пришлось носиться полными ходами и переменными курсами. Подлодки с точки зрения с линейного корабля – большая гадость – на миноносце дело другое – ничего не имею против, иногда даже люблю (хотя не очень).
Неприятельские аэропланы атаковали несколько раз гидрокрейсера, но близко к ним не подлетали. К вечеру только закончили операцию; результата пока не знаю, но погиб у нас один аппарат с двумя летчиками. Возвращаюсь в Севастополь. Ночь очень темная, без звезд, но тихая, без волны. За два дня работы все устали, и чувствуется какое-то разочарование. Нет, Сушон (германский контр-адмирал) меня решительно не любит, и если он два дня не выходил, когда мы держались в виду Босфора, то уж не знаю, что ему надобно. Я, положим, не очень показывался, желая сделать ему сюрприз – неожиданная радость всегда приятней – не правда ли, но аэропланы испортили все дело, донеся по радио обо мне в сильно преувеличенном виде. Подлодки и аэропланы портят всю поэзию войны; я читал сегодня историю англо-голландских войн, какое очарование была тогда война на море. Неприятельские флоты держались сутками в виду один [у] другого, прежде чем вступали в бои, продолжавшиеся 2–3 суток с перерывами для отдыха и исправления повреждений. Хорошо было тогда. А теперь: стрелять приходится во что-то невидимое, такая же невидимая подлодка при первой оплошности взорвет корабль, сама зачастую не видя и не зная результатов, летает какая-то гадость, в которую почти невозможно попасть. Ничего для души нет. Покойный Адриан Иванович [Непенин] говорил про авиацию: «Одно беспокойство, а толку никакого». И это верно: современная морская война сводится к какому-то сплошному беспокойству и предусмотрительности, т[ак] к[ак] противники ловят друг друга на внезапности, неожиданности и т. п. Я лично стараюсь принять все меры предупреждения случайностей и дальше отношусь уже по возможности с равнодушием. Чего не можешь сделать, все равно не сделаешь. Вы не сердитесь на меня, Анна Васильевна, за эту болтовню? Мне хочется говорить с Вами – так давно не было от Вас писем, – кажется, точно несколько месяцев. Я как-то плохо начал представлять Вас – мне кажется, что Вы стали другой, чем были год тому назад. Но я начинаю говорить вздор и кончу письмо».
Отдельные фрагменты писем Александра Васильевича – Анне Васильевне. 11–14 марта 1917 г.: «За эти дни я думал о Вас соответственно обстановке – это мое свойство, очень неприятное прежде всего для самого себя, – какова была эта обстановка, Вы, вероятно, представляете из вышенаписанного [далее зачеркнуто: Иногда по ночам, думая о Вас, я сомневался в реальности Вашего существования]. И вот так же, как в страшные октябрьские дни [имеется в виду гибель «Императрицы Марии»], я почувствовал, что между мной и Вами создается что-то, что я не умею определить словами. Так же, как тогда, Вы точно отодвинулись от меня, и наконец создалось представление, что все кончено и Анны Васильевны нет; нет ничего, кроме стремительно распадающейся вооруженной силы.
Неумолимое сознание указывало, что близится катастрофа, что все удерживается от стремительного развала только условным моим авторитетом и влиянием, который может исчезнуть каждую минуту, и тогда мне придется уже иметь дело с историческим позором бессмысленного бунта на флоте в военное время в 10 часах перехода от сосредоточившегося для выхода в море неприятеля. Допустимо ли в таком случае какое-либо отношение Анны Васильевны к командующему флотом? Конечно, нет. Я призывал на помощь логику, говорил себе, что [далее перечеркнуто: «не может же флот никак не реагировать на происшедший грандиозный переворот, что моя власть еще не поколеблена и сохраняет силу, что по моим приказам и сигналам суда выходят в море и никто не осмелится»].
Логически я сознавал, что это все вздор, что нет оснований, но такое положение в связи со всем происходившим в конце концов привело меня в состояние какого-то не то спокойствия, не то странной уравновешенности. Это состояние мне знакомо, но объяснить его я не могу. Делаешься какой-то машиной, отлично все соображаешь, распоряжаешься, но личного чувства нет совсем – ничто не волнует, не удивляет, создается какая-то объективность с ясной логикой и какая-то уверенность в себе… то только для того, чтобы найти уверенность в Вас, поддержку и помощь в тяжелое время. Думаю, что Вы не поставите мне в вину это и с обычной добротой отнесетесь к моей слабости и, зная, как бесконечно дороги Вы для меня, простите меня.
С думами о Вас со всем обожанием, беспокойством и тревогой за Вас, на какие только может быть способен командующий флотом в эти невеселые дни».
На флоте адмирал старался поддерживать репутацию человека, преданного революции и учитывающего настроения матросских масс. 19 марта он утвердил проект, вводивший в законное русло и подчинявший командующему новые флотские организации – комитеты.
Александр Васильевич – Анне Васильевне. 14 марта 1917 г.: «Сегодня надо проделать практическую стрельбу. Утром отпустил крейсера, переменил миноносцы у «Екатерины» и отделился. Погода совсем осенняя, довольно свежо, холодно, пасмурно, серое небо, серое море. Я отдохнул эти дни и без всякого удовольствия думаю о Севастополе и политике. За три дня, наверное, были «происшествия», хотя меня не вызывали в Севастополь, что непременно сделал бы Погуляев».
Александр Васильевич – Анне Васильевне. 26 марта 1917 г.: «Г[лубокоуважаемая] А[нна] В[асильевна], вчера я отправил через Генмор [Морской Генеральный штаб (МГШ)] письмо Вам, написанное почти с отчаянием в прескверные минуты дикой усталости от политического сумбура и бедлама, которым я управляю и кое-как привожу пока в порядок. Великодушно простите меня, Анна Васильевна, а вечером первый раз после переворота приехал курьер из Генмора, и я получил сразу два ваших письма от 7 и 17 марта. Мне трудно изложить на бумаге, что я пережил, когда вынул из пакета со всякой секретной корреспонденцией Ваши письма. Ведь мне казалось, что я не получал от Вас писем какой-то невероятно длинный период (8 дней). Ведь теперь время проходит, с одной стороны, совершенно незаметно и с невероятной быстротой, а вчерашний день кажется бывшим недели тому назад. Ведь в Вас, в Ваших письмах, в словах Ваших заключается для меня все лучшее, светлое и дорогое; когда я читаю слова Ваши и вижу, что Вы не забыли меня и по-прежнему думаете и относитесь ко мне, я переживаю действительно минуты счастья, связанные с каким-то спокойствием, уверенностью в себе; точно проясняется все кругом, и то, что казалось сплошным безобразием или почти неодолимым препятствием, представляется в очень простой и легко устранимой форме; я чувствую тогда способность влиять на людей и подчинять их, а точнее, обстановку, и все это создает какое-то ощущение уравновешенности, твердости и устойчивости. Я не умею другими словами это объяснить – я называю это чувством командования. Пренеприятно, когда это чувство отсутствует или ослабевает и когда возникает сомнение, переходящее временами в какую-нибудь бессонную ночь, в нелепый бред о полной несостоятельности своей, ошибках, неудачах, когда встают кошмарные образы пережитых несчастий, при неизменном представлении, относящемся до Анны Васильевны как о чем-то утраченном безвозвратно, несуществующем и безнадежном. Иногда достаточно бывает хорошо выспаться, чтобы это прошло, но иногда и это не помогает.
Косинский писал Софье Федоровне, что наши переживания за две войны и две революции сделают нас инвалидами ко времени возможного порядка и нормальной жизни. Возможно, что он прав, ибо хотя и создается известная привычка и приспособляемость, но есть пределы упругости и прочного сопротивления не только для нервной системы, не, как общее правило, для всякого материала. Вот почему я так дорожу письмами Вашими, и так отчетливо представляю я, что было бы, если бы [далее зачеркнуто: «Вас для меня не было бы. Я верю, что не случай же создал»] я лишился их.
Как странно, и это не первый уже раз, что Вы думаете и говорите совершенно независимо от меня то же, что и я. События, свидетельницей которых Вы были, создали у Вас представление, что я под влиянием их могу забыть Вас, что они могли, как Вы говорите, «совсем стереть Вас из моей памяти». А между тем я глубоко страдал в это время, думая также о Вас, Анна Васильевна. Да, по существу, это и понятно – на моих глазах многие в такие дни совершенно меняются независимо от себя самих, изменяется вся психология, все моральное содержание человека – я мог бы привести за время войн и текущих событий сколько угодно примеров. Редко, впрочем, эти метаморфозы бывают в лучшую сторону. Но я никогда не думаю о Вас так много и с такой силой воспоминаний, как в трудное и тяжелое время, находя в этом себе облегчение и помощь. И только с одним повелительным желанием являетесь Вы в моих представлениях и воспоминаниях – поступить или сделать так, чтобы быть достойным Вас и всего того, что для меня связано с Вами, и сомнение в этом меня беспокоит и заботит».
Александр Васильевич – Анне Васильевне. 27 марта 1917 г., на следующий день: «[ниже зачеркнуто: «Прошло уже 4 недели, а политика не только не прекращается, но растет явно в ущерб стратегии»].
Я перечитал несколько раз Ваши письма. Как близки и понятны мне Ваши мысли и переживания, как бесконечно дороги Ваши слова, где Вы говорите обо мне. Что сказать мне о той опасности, которой Вы подвергались, – с какою радостью я принял бы все, что могло бы угрожать или быть опасным для Вас, на себя, на свою долю, но что говорить об этом «благом пожелании», которое годится только для ремонта путей сообщения в преисподней».
Александр Васильевич – Анне Васильевне. 1 апреля 1917 г.: «Сегодня неделя, как я получил два Ваших письма, и у меня является опасение, все ли письма Ваши доходят до меня. Почта действует крайне неправильно, и к тому же имеются основания думать, что в Петрограде существует цензура совершенно не военного характера, а политическая, установленная негласно теми элементами, которые образуют С[овет] Р[абочих] и С[олдатских] Д[епутатов]. При таком положении моя корреспонденция получает, несомненно, интерес, а потому я отношусь к почте крайне недоверчиво. Передача писем через Генмор – единственно надежный прием, но сношения наши с ним до сих пор не наладились и носят случайный характер. Я послал Вам таким путем письма 25 и 27 марта – не знаю, получили ли Вы их. Вчера я в силу таких соображений вышел из искусственного равновесия, которое страшно трудно удерживать, и, будучи уже подготовлен, наделал вещей, которых делать не следовало. Давно я так не злился и не был в таком ожесточенном настроении, тем более что непроглядный туман задержал мой выход в море, а ночью получились телеграммы, удержавшие меня здесь на несколько дней. Поэтому я с утра решил говорить с Вами и привести себя в нормальное состояние.
Положение мое здесь очень сложное и трудное. Ведение войны [вместе] с внутренней политикой и согласование этих двух взаимно исключающих друг друга задач является каким-то чудовищным компромиссом. Последнее противно моей природе и психологии, и, ко всему прочему, приходится бороться с самим собой. Это до крайности осложняет все дело. А внутренняя политика растет, как снежный ком, и явно поглощает войну. Это общее печальное явление лежит в глубоко невоенном характере масс, пропитанных отвлеченными, безжизненными идеями социальных учений (но в каком виде и каких!) [далее зачеркнуто: «Отцы социализма, я думаю, давно уже перевернулись в гробах при виде практического применения их учений в нашей» <жизни>].[…]
На почве дикости и полуграмотности плоды получились поистине изумительные. Очевидность все-таки сильнее, и лозунги «война до победы» и даже «проливы и Константинополь» (провозглашенные точно у нас, впрочем), но ужас в том, что это неискренно. Все говорят о войне, а думают все бросить, уйти к себе и заняться использованием создавшегося положения в своих целях и выгодах – вот настроение масс. Наряду с лозунгом о проливах – Ваше превосходительство (против правила даже), сократите (?!) срок службы, отпустите домой в отпуск, 8 часов работы (из коих четыре на политические разговоры, выборы и т. п.). Впрочем, это ведь повсеместно, и Вы сами знаете это не хуже меня, да и по письмам мои представления о положении вещей совпадают с Вашими. Лучшие офицеры недавно обратились ко мне с просьбой разрешить основать политический клуб на платформе «демократической республики».
Александр Васильевич – Анне Васильевне. Севастополь. 8 апреля 1917 г.: «Глубокоуважаемая Анна Васильевна, в Вас, в Ваших письмах, в словах Ваших заключается для меня все лучшее, светлое и дорогое; когда я читаю слова Ваши и вижу, что Вы не забыли меня и по-прежнему думаете и относитесь ко мне, я переживаю действительно минуты счастья, связанные с каким-то спокойствием, уверенностью в себе; точно проясняется все кругом, и то, что казалось сплошным безобразием или почти неодолимым препятствием, представляется в очень простой и легко устранимой форме; я чувствую тогда способность влиять на людей и подчинять их, а точнее, обстановку, и все это создает какое-то ощущение уравновешенности, твердости и устойчивости».
Александр Васильевич – Анне Васильевне. 9 апреля 1917 г.: «Что я могу сказать. Я повторяюсь, я неоднократно говорил этими словами, но ничего другого и не выдумаешь. И может быть, никогда я не сознавал бесконечную ценность всего того, что связано с Вами, Анна Васильевна, как теперь, когда другая ценность, определяемая военной службой и делом, близка к полному уничтожению».
Александр Васильевич – Анне Васильевне. Севастополь. 14 апреля 1917 г.: «Имеются основания думать, что в Петрограде существует цензура совершенно невоенного характера, а политическая, установленная негласно теми элементами, которые образуют Совет рабочих и солдатских депутатов. При таком положении моя корреспонденция получает, несомненно, интерес, а потому я отношусь к почте крайне недоверчиво».
Следует иметь в виду, что Ставка вела наблюдение за решительным и самостоятельным адмиралом и относилась к нему настороженно. 15 апреля он прибыл в Петроград по вызову военного министра Гучкова, чтобы использовать его в роли главы военного переворота для ликвидации двоевластия, установления военной диктатуры и наведения в столице порядка. Адмирал принял участие в заседании правительства, где выступал с докладом о стратегической ситуации на Черном море. Его доклад произвел благоприятное впечатление. Он познакомился с генералом Л.Г. Корниловым. Участвовал и в совещании командующих фронтами и армиями в штабе Северного фронта в Пскове, откуда вынес тяжелое впечатление о деморализации войск на фронте. А в Петрограде стал очевидцем вооружённых солдатских манифестаций, считая, что их необходимо подавить при помощи силы. Отказ Временного правительства Корнилову, командующему столичным военным округом, в подавлении вооруженной демонстрации Колчак считал ошибкой.
Он выехал из Петрограда 21 апреля и в письме Анне Васильевне указал, что вернулся 23 апреля в Севастополь «с убеждением, что российская армия уже тогда совершенно потеряла боеспособность, а Временное правительство фактически не имеет никакой власти. Члены его бессильны и не способны для управления государством. Одного этого достаточно [зачеркнуто: «чтобы прийти в состояние, близкое к отчаянию»], но если прибавить к этому совершенно отрицательное положение тех немногих личных вопросов, выходивших за пределы моей служебной деятельности командующего флотом, то предоставляю судить, в каком состоянии я уехал из Петрограда, имея 21/2 суток почти обязательного безделья в своем вагоне-салоне.
Объективная оценка моего петроградского пребывания не дает, по существу, чего-либо нового или неожиданного для меня, но все же, как говорят в фельетонах, «действительность превзошла ожидания». Если бы я мог впасть в отчаяние, плакать или жаловаться, то я имел бы для этого все основания – но эти положения просто мне несвойственны. Я действовал и работал под влиянием некоторых положений, которые теперь отпали, и т[ак] к[ак] я находил в них помощь и поддержку, то я прежде всего почувствовал, что я устал, устал физически и морально. Усталость – это болезнь, и я до сих пор не могу от нее отделаться. Конечно, я могу ее преодолеть и не считаться с нею, но избавиться от нее пока не могу. Нехорошо [зачеркнуто: «Совсем нехорошо»]. Время и обстановка все поправят, но сейчас изменения этих элементов слишком еще малы для этого.
Не знаю почему, но когда я в первый раз вышел в море на «Свободной России» и сошел в свою походную каюту, то я почувствовал, что все изменилось, и я не мог остаться в ней и до рассвета ходил по мостикам и палубе корабля [далее перечеркнуто: «Я хотел стать в свое нормальное положение, но современный корабль так велик, что быстро оказаться на мостике, находясь в другом конце корабля, нельзя – и волей-неволей надо быть там, где я теперь нахожусь»].
Я снова в море, и уже вторые сутки, и, как прежде, сел писать Вам, но то, что я написал, мне кажется ненужным и неверным, но я ничего другого придумать не могу. Да, в общем, это все равно. Я устал, и мне трудно писать, у меня нет ни мыслей, которые я бы хотел сообщить Вам, ни способности сказать Вам что-либо. Спать я не могу, не хочется читать немецкий вздор о том, что территориальное верховенство – не dominium [обладание (лат.)], а imperium [господство (лат.)], что так же для меня безразлично, как вопрос о том, делается ли в Севастополе глупость или идиотство; пойду лучше походить по палубе и постараюсь ни о чем не думать. Простите за это письмо, если пожелаете».
Александр Васильевич – Анне Васильевне. 24 апреля 1917 г.: «В конце прошлой недели я получил письмо Ваше от [дата в тексте не проставлена. Судя по одному из вариантов письма, речь идет о письме от 24 апреля]. Я виноват в несколько замедленном ответе, но извинением для меня является [далее зачеркнуто: «мое болезненное состояние, от которого я не мог освободиться [с] выходом в море»] моя болезнь. Теперь я в море и после 2-х недель невольного молчания попробую ответить Вам. Мне трудно писать, насколько трудно это бывает, когда нет мыслей, нет темы и приходится придумывать слова, чтобы составить какую-нибудь фразу.
Говорить о войне и политике – я не хочу, да я и высказал недавно свое мнение по этому вопросу в печати. Не знаю, прочтете ли Вы его или нет, но Вы ничего не выиграете и не потеряете в том и другом случае. [далее зачеркнуто полторы страницы следующего текста: «Писать о себе было бы, пожалуй, несколько самоуверенно, да и по существу эта тема является для меня просто случайной. Приехал я в Севастополь прекрасно, с полным комфортом и даже без опоздания. Обстановка мало изменилась за мое отсутствие, и «все обстояло благополучно». Дальше обычная работа командующего флотом и во время войны и революции в разлагающемся морально и материально государстве.

Колчак в новой морской форме Временного правительства. Лето 1917 г.
Из Петрограда я вывез две сомнительные ценности: твердое убеждение в неизбежности государственной катастрофы со слабой верой в какое-то чудо, которое могло бы ее предотвратить, и нравственную пустоту. Я, кажется, никогда так не уставал, как за свое пребывание в Петрограде. Так как я имел в распоряжении 21/2 суток почти обязательного безделья в вагоне, то использовал это время наиболее целесообразно: придя в состояние, близкое к отчаянию (эту роскошь командующий не часто сам себе позволит), я просидел безвыходно в своем салоне положенное время, сделав слабую попытку в чтении Еллинека [Г. Еллинек – немецкий юрист, государствовед] пополнить пробел в своих знаниях по части некоторых государственных вопросов. Зато я мог себе позволить роскошь отдаться личным воспоминаниям и оценкам «обстановок» и «положений». Я имел возможность без помех прийти в состояние, близкое к отчаянию. Писать о себе, о своих личных делах было бы несколько самоуверенно, да и крайне скучно. Но все-таки попробую, с Вашего любезного позволения. Из Петрограда я уехал с твердой уверенностью в неизбежности государственной катастрофы и признанием несостоятельности военно-политической задачи, определившей весь смысл и содержание моей работы»].
Позже А.В. Колчак вспоминал в автобиографии, что по вызову Гучкова он побывал в Петрограде «в те памятные дни, когда первое временное Российское правительство фактически потеряло свою власть, перешедшую в руки интернационального сброда Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов с Лениным и Троцким и прочими тайными и явными агентами и деятелями большого германского Генерального штаба. В эти несчастные дни гибели русской государственности на политической арене появились две крупные фигуры – своего рода символы: один – государственной гибели, а другой – попытки спасти государство: я говорю о Керенском и о генерале Корнилове».
В апреле 1917 г. А.В. Колчак получил благодарственную телеграмму от команды линкора «Свободная Россия», переименованного Колчаком в апреле 1917 г. из «Императрицы Екатерины Великой»: «Весь личный состав дредноута «Свободная Россия» просит дорогого адмирала принять глубокую благодарность за столь быстрое исполнение нашей просьбы о переименовании. Клянемся честью свободных граждан оправдать высокое название». Верный проводник идеалов Февральской революции идет на поводу у матросов. А рядом – бережно сохраненное адмиралом и, видимо, дорогое ему письмо солдата Петра Кузьмина, возмущенного арестом начальника севастопольского порта: солдат предлагает навести порядок, расстреляв Ленина «и ему подобных».
25 апреля 1917 г. адмирал выступил на собрании офицеров с докладом «Положение нашей вооруженной силы и взаимоотношения с союзниками». Он отметил: «Мы стоим перед распадом и уничтожением нашей вооружённой силы, [ибо] старые формы дисциплины рухнули, а новые создать не удалось». Поэтому потребовал прекратить реформы, основанные на «самомнении невежества», и принять формы дисциплины и организации внутренней жизни, уже принятые у союзников. Его доклад произвел на слушателей огромное впечатление и воодушевил их. Так, Московская городская дума напечатала речь Колчака тиражом в несколько миллионов экземпляров. Ему удалось поднять дух матросов и офицеров в Черноморском флоте.
Командующему флотом, боровшемуся за сохранение дисциплины и против развала вверенных ему частей, противостояли большевики с их пораженческой пропагандой. Но уровень теоретической подготовки был крайне низким. Следствием пораженческая агитация большевиков вызывала не только неприятие, но и приводила к серьезным конфликтам. Черноморский флот продолжал решать свои задачи.
4 мая 1917 г. с линейного корабля «Свободная Россия» (бывший «Императрица Екатерина Великая») Александр Васильевич пишет Анне Васильевне: «Г[лубокоуважаемая] А[нна] В[асильевна]. Третья ночь в море. Тихо, густой мокрый туман. Иду с кормовыми прожекторами. Ничего не видно. День окончен. Гидрокрейсера выполнили операцию, судя по обрывкам радио. Погиб один или два гидроплана. Донесений пока нет. Миноносец был атакован подлодкой, но увернулся от мин. Крейсера у Босфора молчат – ни одного радио – по правилу: значит, идет все хорошо. Если все [идет] как следует – молчат; говорят – только когда неудача. Я только что вернулся в походную каюту с палубы, где ходил часа два, пользуясь слабым светом туманного луча прожектора. Кажется, все сделано и все делается, что надо. Я не сделал ни одного замечания, но мое настроение передается и воспринимается людьми, я это чувствую. Люди распускаются в спокойной и безопасной обстановке, но в серьезных делах они делаются очень дисциплинированными и послушными. Но я менее всего теперь интересуюсь ими».
Александр Васильевич – Анне Васильевне. 9 мая 1917 г.: «В минуту усталости или слабости моральной, когда сомнение переходит в безнадежность, когда решимость сменяется колебанием, когда уверенность в себе теряется и создается тревожное ощущение несостоятельности, когда все прошлое кажется не имеющим никакого значения, а будущее представляется совершенно бессмысленным и бесцельным, в такие минуты я прежде всегда обращался к мыслям о Вас, находя в них и во всем, что связывалось с Вами, с воспоминаниями о Вас, средство преодолеть это состояние.
Это состояние переживали и переживают все люди, которым судьба поставила в жизни трудные и сложные задачи, принимаемые как цель и смысл жизни, как обязательство жить и работать для них. Как явление известной реакции, как болезнь оно мне понятно и, пожалуй, естественно, и я всегда находил и, вероятно, найду возможность преодолеть его. Но Вы были для меня тем, что облегчало мне это делать, в самые тяжелые минуты я находил в Вас помощь, и мне становилось лучше, когда я вспоминал или думал о Вас.
Я писал Вам, что никому и никогда я не был так обязан, как Вам, за это, и я готов подтвердить свои слова. Судьбе угодно было лишить меня этой радости в самый трудный и тяжелый период, когда одновременно я потерял все, что для меня являлось целью большой работы и, скажу, даже большей частью содержания и смысла жизни. Это хуже, чем проигранное сражение, это хуже даже проигранной кампании, ибо там все-таки остается хоть радость сопротивления и борьбы, а здесь только сознание бессилия перед стихийной глупостью, невежеством и моральным разложением. То, что я пережил в Петрограде, особенно в дни 20 апреля и 21 апреля, когда я уехал, было достаточно, чтобы прийти в отчаяние, но мне несвойственно такое состояние, хотя во время 21/2-дневного пребывания в своем вагоне-салоне я мог предаться отчаянию без какого-либо влияния на дело службы и командование флотом. Кажется, никогда я не совершал такого отвратительного перехода, как эти 2 1/2 суток. Как странно, что, когда я уезжал 10 месяцев тому назад, чувствуя, что мои никому не известные мысли реализуются и создаются возможности решить или участвовать в решении великих задач, судьбе угодно было послать мне счастье в виде Вас; когда эта возможность пала, это счастье одновременно от меня ушло. Воистину [фраза и строка не дописаны]. Я могу совершенно объективно разбирать и говорить о своем состоянии, но субъективно я, конечно, страдаю, быть может, больше, чем я мог бы это изложить в письме. Но я далек от мысли жаловаться Вам и даже вообще обращаться к Вам с чем-либо, и Вы, я думаю, поверите мне. Мне было бы неприятно, если Вы хоть на минуту усомнитесь в этом».
На митинге 5 июня 1917 г. матросы арестовали помощника командира Черноморского флотского экипажа полковника К.К. Грубера и вынесли постановление о сдаче офицерами холодного и огнестрельного оружия. Чтобы предотвратить кровопролитие, Колчак отдал офицерам приказ сдать оружие. Когда пришла пора Колчаку самому сдавать оружие, он собрал на палубе «Георгия Победоносца» его команду и заявил, что офицеры всегда хранили верность правительству и поэтому разоружение для них является тяжелым и незаслуженным оскорблением, которое он сам не может не принять на свой счет. «С этого момента я командовать вами не желаю и сейчас же об этом телеграфирую правительству».
Судовой комитет решил, что он сдавать оружие не собирается. В этой критической ситуации Смирнов, опасавшийся за жизнь адмирала, связался со Ставкой и попросил А.Д. Бубнова устроить срочный вызов Колчака в Могилев или Петроград. Рассказывалось, что Колчак, находясь в состоянии крайнего возбуждения, взял пожалованную ему за Порт-Артур золотую саблю – Почетное Георгиевское оружие, крикнул матросам: «Японцы, наши враги, и те оставили мне оружие. Не достанется оно и вам!» – швырнув саблю за борт. Этот жест адмирала обошел страницы всех газет и произвел сильное впечатление как в России, так и за границей. Имя Колчака приобрело дополнительную популярность. Но он по-прежнему подвергался нападкам.
Александр Васильевич – Анне Васильевне. 6 июня 1917 г.: «Глубокоуважаемая Анна Васильевна. Вчера я по обыкновению сел писать Вам письмо, как это делаю последнее время каждый день в свободные минуты, а вечером мне принесли Ваше письмо от 30 мая. Анна Васильевна, у меня нет слов ответить Вам так, как я бы хотел. Я до такой степени измучился за время после своего возвращения из Петрограда, что совершенно утратил способность говорить и писать Вам. Я не могу передать Вам душевную боль, которую я испытываю, читая последние письма Ваши. Может ли быть оправданием моим, что мое отчаяние, мои страдания за это время были связаны с представлением, что Вы, Анна Васильевна, ушли от меня. Я писал Вам, что это для меня было великим несчастьем и горем, с которым я решительно не мог справиться. В Петрограде, в день отъезда моего, на последнем заседании Совета министров в присутствии Главнокомандующего ген[ерала] Алексеева окончательно рухнули все мои планы, вся подготовка, вся огромная работа, закончить которую я хотел с мыслью о Вас, результаты которой я мечтал положить к ногам Вашим. У меня нет части, которую я мог бы Вам дать для выполнения операции, которая является самой трудной в Вашем деле» – вот было последнее решение Главнокомандующего. Только Милюков, совершенно измученный бессонной неделей и невероятной работой, понял, по-видимому, что для меня этот вопрос имел некое значение, большее, чем очередная государственная задача, и он подошел ко мне, когда я стоял, переживая сознание внутренней катастрофы, и молча пожал мне руку.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?