Текст книги "Сон о Кабуле"
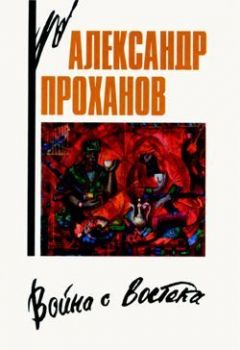
Автор книги: Александр Проханов
Жанр: Книги о войне, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 34 страниц)
Глава тридцать четвертая
Он полагал, что она все еще находится в посольстве. Проезжая мимо отеля, решил заехать на минуту, сделать несколько телефонных звонков. Поставил машину во дворе, недалеко от танка. Миновал подъезд, у которого все еще находился пост десантников, стоял пулемет. Поднялся в номер, скинул комом пальто. Раскрыл саквояж, который так и лежал у порога со вчерашнего дня. Стал извлекать из него электробритву. Громко в просторном номере зазвонил телефон. Белосельцев удивленно снял трубку.
– Ты?… Приехал?… Господи, как я волновалась!.. – прозвучал ее близкий, радостно-испуганный голос.
– Ты где?… В посольстве?… Собираюсь ехать к тебе!
– Да нет же, я здесь!.. Нас всех привезли обратно!..
– Иду к тебе!..
Он так и не стал включать, кинул на кровать электробритву. Выхватил из саквояжа целлофановый пакет, в котором, мокрый, на колючем черенке, краснел бутон джелалабадской розы. Вынул его и, держа перед собой, волнуясь, ликуя, заторопился к ней. «Как архангел Гавриил с пламенной розой!» – улыбался он, перескакивая через ступени.
Он увидел ее в раскрытых дверях, и она показалась ему такой яркой, сияющей, что он закрыл на мгновение глаза. Слепо обнял ее, слепо ее целовал, и только потом, привыкая к сиянию, гладил ее чуть влажные душистые волосы, острое плечо под цветастой шелковой тканью, ароматную, дрожащую от дыхания шею.
– Я так тебя ждала!.. – говорила она несвязно, быстро, просовывая свою длинную горячую ладонь на его грудь под рубаху. – Я так боялась… Молилась за тебя… Хотела тебя увидеть…
Он был счастлив, чувствуя у себя на груди ее быструю руку, осматривал комнату – стол с полуналитым стаканом воды, зеркало, отражавшее темно-синее окно, флаконы, шкатулки на туалетном столике, ваза с сухими красноватыми ветками.
– Вот тебе роза, – протягивал он ей цветок. – Поставлю ее в стакан…
Она расстегнула ему на груди рубаху, прижалась губами. Он почувствовал, как в сердце проникло тугое тепло, и от этого тепла оно стало больше, горячей. Она протянула руку и выключила свет. И стоящий на столе стакан наполнился голубым из-за шторы мерцанием, как слабый ночной светильник. Он держал в руках розу, чувствуя ее губы и пальцы, скользящие под рубахой, ниже, к поясу, к металлической пряжке ремня. Застыл на тончайшем сладостном ожидании, переживая неповторимость стеклянно-голубого, готового исчезнуть мгновения. Она целовала его, что-то чуть слышно говорила, наполняя его горячей туманящей силой. И он вдруг увидел, как стеклянный стакан стал медленно озаряться, раздуваясь невесомым синим огнем, словно в нем загорелся спирт. Оделся летучим пламенем, снялся с места, поплыл, как малая голубая комета, шаровая молния, взрываясь беззвучной ослепительной вспышкой, высвечивая все углы нестерпимым для глаз серебром, осыпаясь, угасая, тускнея. За окном пролетела танкетка, унося во тьму свой прожектор, разрубая надвое время – до и после комендантского часа, и их жизнь – до и после случившегося.
Она обнимала его ноги, сидя на ковре, слабо, чуть слышно говорила:
– Я так ждала, так мечтала о тебе… – У него не было сил наклониться, поднять ее. Так и стоял в темноте, держа в руках бутон розы.
Они лежали на кровати, и он чувствовал, как после огромного, грохочущего, стенающего дня в нем исчезли, погасли дневные глаза, приспособленные к прицелу, бойнице броневика, к зрелищам боев и допросов, и открылось ночное зрение, звериное, птичье, древнее, и этим зрением, не нуждавшимся в дневном свете, он видел ее волосы, словно излившиеся из кувшина, ее шею с биением жилки, ее губы с нежным разноцветным рисунком, похожим на крыло бабочки.
– Почему бабочки? – спросила она. И он не удивился, зная, что и она обрела ночное зрение и слух, способность видеть сквозь закрытые веки, угадывать непроизнесенные мысли. – Мне кажется, что мы встретились с тобой не случайно именно здесь, в Кабуле. Быть может, в Москве видели друг друга в какой-нибудь мимолетной компании, или в вагоне метро, или сталкивались у прилавка магазина. Но не замечали друг друга. Влюблялись, женились, но все не по-настоящему, на время, для того чтобы встретиться здесь, среди этих несчастий. А здесь вдруг заметили, увидали друг друга. Словно узнали. Когда ты меня узнал и увидел?
– Должно быть, тогда, в нижнем холле, когда ты проходила и твой чопорный патрон выговаривал про букву «би». Я вдруг заглянул тебе в лицо и почти потерял сознание. После этого в скверике за отелем увидел дерево, сияющее, запорошенное снегом, в солнечной лазури, и думал о тебе. Это и была наша первая встреча.
– Нет, я тебя раньше увидела. Мне тебя показали, сказали, что ты журналист. Я попросила газету, хотела прочитать твои материалы, но их там не было. У Карнауховых, куда ты внезапно пришел, ты был весь измученный, изведенный. К тебе подошел тот тип, Долголаптев, говорил тебе что-то злое, обидное. Мне вдруг захотелось подойти, положить тебе руку на лоб.
– А мне в темноте, под звездами, хотелось обнять тебя. Я чувствовал, как от твоих волос исходит тепло, как тонко пахнут твои духи. Но я не решился тебя коснуться.
– Когда ты улетел в Джелалабад, я подходила к тому дереву, к той чинаре, спрашивала у нее, что с тобою, где ты. Просила ее тебе помочь, сохранить и сберечь. Ты приехал, и этот путч. Как будто взрывом выбросило нас из машины, и эти дни мы в дыму и осколках. Вчера ты уснул на диване, и я склонилась над тобой, рассматривала твое лицо. Ты не слышал? Не слышал, что я говорила?
– «Многоуважаемый диван, позвольте в вашем лице…»
– Ну вот видишь, тебе смешно!
Он коснулся рукой ее головы, медленно повел вдоль щеки, плеча, груди, по дышащему животу, вдоль бедра, к колену. И от его прикосновений оставался чуть видный светящийся след, словно лодка шла по морской воде, и ночное море светилось. Бутон джелалабадской розы стоял в стакане, и в его черной заостренной капле чудилась краснота, наливалась внутренней упругой силой, готовая раскрыться в цветок.
– Ты говоришь о неслучайности нашей встречи, – он перебирал ее пальцы, подносил к губам, клал на глаза ее легкую теплую ладонь, и она светилась насквозь, как лист дерева. Он целовал ее, и от поцелуев на руке выступали легкие капли света, и он держал над собой ее светящуюся легкую руку. – Мне кажется, что вся моя прежняя жизнь была приближением к тебе. Все события, встречи, поступки, все увлечения и любови были маленькими тупиками, когда идешь по темному коридору, ищешь на ощупь путь, попадаешь в закоулки, утыкаться в закрытые двери, и вдруг одна из них открывается, полная света, и в ней стоишь ты, прекрасная и драгоценная, единственная и неповторимая.
– Ты меня спас. Я была как безумная. Это был не просто страх, не боязнь, что тебя растерзает вонючая жестокая толпа, а чувство абсурда. Весь мир сбесился. Ненавидит, стреляет, бьет. Кругом безумные, жесткие лица. Потеря за потерей, смерть за смертью. Я действительно хотела выброситься из окна, разбиться на мелкие черепочки. Ты меня поймал налету, склеил заново.
– Я многое испытал за эти дни. И там, в Джелалабаде, и здесь, в Кабуле. Видел много ужасного. И когда становилось невмоготу, вспоминал твое лицо. Оно появлялось, как светило, как золотое солнце. Спасало меня. Мне кажется, это солнце могло взойти надо мной только здесь, в Кабуле. Теперь на всю жизнь я полюбил этот коричневый глиняный город, его снежные вершины, красные ковры в дуканах. Забуду стрельбу, танки на улицах, тюремные стены, а стану вспоминать только этот гостиничный номер, голубой стакан на столе, бутон темной розы. Снаружи, за стеклами раздался нарастающий рокот двигателя. Останавливающий рыкающий крик патруля. Скрип тормозов. Храп рванувшегося автомобиля. Близкая, в упор, автоматная очередь. Визг и скрип заворачивающей за угол, стремительно уходящей машины. И там, куда она удалялась, ей сопутствовала разрозненная стрельба, от патруля к патрулю. Охватила все прилегавшие к отелю районы. И вдали гулко лязгнула пушка.
– Что это? – она прижалась к нему. В темноте было видно, как в глазах ее мерцает огненный ужас. – Опять началось?
Он встал, выглянул в окно. В черноте из-за крыш летели красные пунктирные трассы. Внизу мигали фонари патруля. Освещали серо-стальной асфальт, гусеницы недвижного танка. Выстрелы звучали все реже, прозрачней. Послышался смех солдат, зычная афганская речь.
– Шальная тревога. Какая-нибудь запоздалая машина, и водитель не знал пароля. Дали очередь, и все всполошились.
Он вернулся, обнял, чувствуя, как дрожат ее плечи. Дышал ей в затылок, слышал, как она затихает, как медленно поворачивается в его объятиях, обращает к нему лицо. И стакан с цветком, таящий в себе синюю икру, стал разгораться, вспыхивать гранями, охваченный прозрачным свечением. Оторвался и поплыл в темноте, как малая голубая комета.
Они лежали, взявшись за руки, и ему было легко и весело.
– Целый день ничего не ел, – сказал он. – Только те бутерброды, которыми угостила нас утром сердобольная посольская женщина.
– Завтра мой день рождения. Я думала, мы пойдем в ресторан и там поужинаем. А сегодня обойдемся лепешкой и глинтвейном. У меня есть бутылка вина, апельсины, корица. Сварю тебе чудесный глинтвейн.
– Вари свой колдовской отвар.
Она поднялась, зажгла свет. Ослепила его своей белизной. Небрежно накинула на голые плечи длинную, до колен, вязаную кофту. Заходила по комнате, по ковру, доставая и двигая одновременно множество металлических и стеклянных предметов. А он, откинувшись на подушку, смотрел на нее, щурил глаза, превращая ее в золотистое пятно света, похожее на солнечное отражение. Слушал стеклянные звяки, вкусные, доносившиеся до него ароматы. Чувствуя на себе его взгляд, она бессознательно превращала в танец свои движения и жесты. Легким взмахом открыла черно-красную бутылку, уронив на ковер розовую пробку с клеймом. Налила вино в блестящий, с длинной ручкой кофейник. Насыпала шуршащий сахар. Кинула щепотку корицы. Очистила апельсин, опустила в вино янтарные прозрачные дольки. Поставила на стол два стакана. Окунула в вино кипятильник, и оттуда, где стояла она, через комнату потекли тонкие, дурманящие ароматы, напоминавшие чем-то детскую елку, маму, молодую, среди елочного стекла, – из фарфоровой супницы маленьким блестящим половником разливает глинтвейн, и у деда, пригубившего стакан, порозовели усы.
– Чему улыбаешься? – спросила она.
– Так, налетело…
– Удивительно смотреть на тебя, на твое лицо. В нем то дитя, то старец. То темнота, то свет. То жестокость, то робость. Иногда и то, и другое вместе. Две разных половины лица.
– Просто луна какая-то…
– Сейчас опять дитя проглянуло.
– Смотри, убежит твое зелье!
– Зелье мое красное и прекрасное, вот ты и готово! – она выключила кипятильник. Держа за ручку кофейник, налила в стаканы охваченный розовым паром напиток с плавающими апельсиновыми дольками. Обняла полотенцем стакан. Поднесла ему в кровать, и он, обжигаясь, поставил красный рубиновый, окутанный душистым паром стакан, на белую простыню. – За что мы выпьем? – сказала она, подсаживаясь, натягивая вязаную кофту на свои голые колени.
Он взял за краешек раскаленный стакан, приподнял его, чувствуя горячее дыхание напитка.
– Сначала мы помянем тех, кого унесли эти жестокие дни, – сказал он. – Нила Тимофеевича, русская земля ему будет пухом. Англичанку Маргарет, чья смерть помутила разум полковника. И одного француза, который писал репортажи из горячих точек, и последний репортаж был из его собственного сердца. Мы их помянем, не чекаясь, отпустим их души из этого города. Пусть летят через хребты и моря, в разные стороны света, каждый к своему порогу.
Он отпил пряный, сладостно-горький напиток, задохнувшись винным дурманом, и пока стекал в него горячий терпкий глоток, увидел их всех, с кем больше никогда не увидится.
– Хочу, чтобы и мы уехали поскорее отсюда, – сказала она, вдыхая жаркие испарения спирта, апельсинового сока и пряностей. – Куда-нибудь в русскую зиму, в маленький городок, заваленный снегом, в дешевую гостиницу с тусклым фонарем перед входом. Днем мы будем гулять по ярким солнечным улицам, заглядывать в замороженные окна домишек, любоваться сосульками, наличниками, заиндевелыми колокольнями. А вечером я буду варить тебе глинтвейн, смотреть, как с каждым глотком меняется выражение твоего лица.
– А как же работа? Моя, твоя? – он почувствовал мягкий удар хмеля, слегка затуманивший зеркало, словно на серебристое стекло дунуло легким морозом. – Моя газета? Мои репортажи?
– Зачем тебе твои репортажи? Наверное, ты столько всего перевидел. Напишешь книгу, прославишься, станешь известным писателем. Тебя наградят какой-нибудь почетной премией. Получая ее, ты произнесешь свою тронную речь. Я буду слушать ее, любоваться тобой. И думать, неужели это тот самый, кто пролил глинтвейн на мою белую простыню в кабульском отеле?
Он увидел, что под его стаканом растекается винное пятно.
– Прости, я такой неловкий!
– Выпьем теперь за тебя, мой милый. Я верю, ты напишешь прекрасную книгу, в которой поведаешь людям огромную истину. Не знаю, какую. Ту, что отражается на твоем лице то светом, то тьмою, то печалью, то счастьем. За тебя, дорогой!
Хмель его был чудесный. Бутон в стакане воды наполнился соком и цветом. Его лепестки напряглись, были готовы раскрыться.
– Какой ты сварила отвар, просто приворотное зелье. Так сладко кружится голова, будто тихая музыка.
– Сейчас будет тихая музыка.
Она поднялась, прошла по ковру, вдавливая в ворс свои длинные белые стопы. Открыла тумбочку и извлекла маленький темный транзистор. Наполнила комнату шелестом, птичьим свистом, разорванными лоскутьями пронзительных восточных мелодий, бессмыслицей и неразберихой разноязыких слов. И вдруг чисто, сочно зазвучал саксофон, как будто звук изливался из перламутровой морской ракушки.
– Потанцуем, – сказала она, приближаясь к нему, протягивая свои тонкие руки.
Он поднялся, чувствуя, как охватили его тело холодные сквознячки. Обнял ее, пропустив под вязаную кофту ладонь. Она прижалась к нему, и они медленно закружили по ковру под тягучие, вязкие, сладостные, как мед, переливы блюза, и он видел, как проплывает мимо цветок в стакане, и хрустальная ваза, и винная оброненная пробка, и сережки на ее туалетном столике.
– Обними меня крепче, – попросила она.
Они танцевали в кабульском номере среди ночи и камендантского часа, окруженные караулами и постами. Город разворачивал вокруг них свои глиняные гончарные свитки, мерцал вершинами гор, куполами гробниц и мечетей. Танкисты смотрели в ночные прицелы. Крались в горах моджахеды. Спутник разведки пролетал над Кабулом, делал снимки мятежного города. А они танцевали на мягком ковре, и он видел, как погружаются в ворс ее длинные гибкие пальцы.
– Я устала, – сказала она. – Хочу отдохнуть.
Ночью он много раз просыпался. Видел, как в окне открылось звездное небо. Множество мерцающих шевелящихся звезд двигалось мимо окна. Стекла, пронзенные блеском неба, чуть слышно звенели. Он счастливо смотрел на ее спящее лицо, на закрытые, обведенные тенью веки. Утром, когда проснулся, увидел стеклянный, полный солнца стакан и в нем распустившуюся красную розу.
Глава тридцать пятая
Облепленный тающим снегом танк на постаменте перед Дворцом Республики блестел, как огромный леденец. Машины подкатывали к воротам, разворачивались, пятились под мокрые снежные деревья. Солдаты просматривали мандаты, охлопывали делегатам карманы, и те, оставляя следы на мокром снегу, шли во Дворец. Белосельцеву было важно присутствовать на съезде аграрников. Город, прошедший сквозь путч, возвращался к нормальной жизни. Съезд самим фактом своего проведения подтверждал – правительство справилось с путчем. Не о терроре, войне, а о предстоящей посевной были заботы правительства.
Перед Дворцом опять проверили пропуск. Кто имел, отдавал оружие. Делегаты входили, подымали к сводам свои обветренные крестьянские лица, озирались, топорща бороды. Зал «Гюльхана» был отделан мореным деревом и шелком. Из стен выступали головы диких оленей и коз. Блестела их шерсть, стекленели глаза. Полный зал негромко гудел. Белосельцев встал у горящего вялым огнем камина. Поклонился издали корреспондентам «Бахтара» и телевидения. Все ждали выступления Бабрака Кармаля.
Белосельцев оглядывал зал. Горбоносые молодые и старые лица. Надели самое дорогое: шитые серебром тюбетейки, шелковые тюрбаны. Приехали кто из плодородных долин Кандагара, кто из жарких пустынь Гильменда, кто из хлебных житниц Балха, из безводных холмов и ущелий, из тучных равнин, где земля ждет сохи и зерна. Крестьянский народ, от которого зависит судьба начинаний. Примут декрет о земле, сядут на трактор, отбросят с межи разделительные камни, поведут борозду по общей, сложенной из лоскутных наделов ниве. Или порвут все декреты, вернутся к деревянной сохе, на крохотное феодальное поле и будут, как встарь, добывать свою горстку риса. Нил Тимофеевич не дождался аграрного съезда. Без него ушли на юг трактора. Без него поведут борозду.
Вспыхнули софиты, застрекотали кинокамеры. Навстречу хлопкам и вспышкам в президиум поднялся Бабрак Кармаль, окруженный министрами и военными. Стоял, хлопал вместе с залом, в черном костюме, сверкая белизной воротничка, усталый, с темнотой под глазами.
На трибуну вышел мулла. Воздел ладони, дохнул в микрофон, и, усиленная динамиками, вознеслась над людьми молитва. Все замерли напряженно. Мулла возвышал молитву до плача, до страстного вопля, будто молил о смягчении сердец. Зазвучал государственный гимн. Встали, колыхнув одеянием. И опять Белосельцев всматривался в крестьянские лица, казавшиеся черными и морщинистыми от долгого глядения в землю, под копыта идущим волам, под лемех сохи, в борозду с упавшими зернами.
Поднялся Бабрак Кармаль. Его слушали напряженно и чутко. Белосельцев видел, как непросто им среди нищеты, каменных старых кладбищ, винтовок, глядящих из бойниц феодального замка, как трудно им верить в неизбежность победы. Тому смуглому, в белой чалме старику. Тому молодому, в красной, расшитой серебром тюбетейке.
Выступал южанин, бронзовый, только что из горячих земель, где шумела весна, раскрывались виноградные почки.
– Мы, – говорил он, – несмотря на пули врагов, продолжаем раздачу земли. Мы пришли в пустыню, принесли с собой воду, и земля стала родить виноград и хлеб. Так революция принесла свои воды в людские души, и они зацвели.
Белосельцев слушал, надеясь на скорую встречу там, на будущей ниве, где соберутся и Нил Тимофеевич, и убитый солдат Шатров, и два замученных джелалабадских механика.
В перерыве, когда Бабрак Кармаль шел к выходу, делегаты надвинулись, окружили его. Белоголовые старцы обнимали его, целовали, закрывали его черный костюм серебром бород и одежд. Было видно, как нервничает оттесненный охранник. Вскакивает на стул, заглядывает через тюрбаны и головы.
В Министерстве обороны Белосельцева принял начальник политуправления афганской армии. Седой, чернобровый, усыпанный красными нашивками генерал подошел к карте, указал на район Кандагара с зеленым языком виноградной долины, где были особенно активны засевшие по кишлакам террористы. Ткнул пальцем в треугольник пустыни Регистан, через которую шла инфильтрация из Пакистана вооруженных банд и оружия. Для борьбы с ними был сформирован ударно-десантный полк, состоящий из добровольцев. Командир полка полковник Азис переведен из Кабула, офицер старой армии. Командиры батальонов – молодые офицеры нового революционного склада. На примере полка можно отчетливо видеть процессы, охватившие афганскую армию. Туда же, из штаба советской группировки, отправляется подполковник Мартынов. Командир авиаотряда, завершил генерал, знает, что полетит советский журналист.
– Счастливого пути, – по-русски прощался с ним генерал, награждая белозубой улыбкой.
В гулком ледяном коридоре министерства Белосельцев не сразу узнал Сайда Исмаила, в суконной военной форме, в бутсах, в ремнях. Только лицо его, горбоносое, с мягкими губами оленя, было все то же, родное.
– Значит, вместе летим! – Сайд Исмаил не удержался и легонько обнял Белосельцева. – Я должен брать в политуправлении плакаты, листовки. Послезавтра самолет, опять с тобой вместе! Может, оттуда Герат доберусь. Хочу домой, семья. Помнишь, старик хазареец? Самый большой старик! Сегодня пришел райком, показал, где склад бомбы. Дал план, наши пошли, забрали. Победа!
Белосельцев простился с ним, удивляясь таинственной связи между ним и собой, Мартыновым и полковником Азисом. И еще американским агентом Дженсоном Ли, который после провала кабульского путча ускользнул в Кандагар, куда через день самолет унесет Белосельцева. Но это будет через день, а сегодня рождение Марины, и они все вместе приглашены в кабульский музей.
Они ехали с Карнауховыми по мокрому, в блеске, Кабулу, и у Белосельцева среди этого блеска, тающего липкого снега возникло на миг совпадение – мартовская Москва, желтый фасад церкви, в мокром тополе, среди синевы и розовых веток суета воробьев и галок.
– Мы хотим вас завтра позвать к себе, – говорила Ксения Карнаухова, оживленная, красивая, радуясь мельканиям улицы. – Нужно только дом привести в порядок, вставить разбитые окна.
Марина весело отвечала, поглядывая на Белосельцева:
– Хочу полюбоваться вашими замечательными колючими розами, отбрасывающими такие замечательные колючие тени.
– Если хотите любоваться на ночные колючие тени, – сказал Карнаухов, – узнайте в комендатуре пароль. Иначе придется любоваться до утра, до отмены комендантского часа.
Он объяснял, почему решил продлить контракт и остаться в Кабуле:
– Я начисто лишен сентиментальности, в том числе и социальной, в которую некоторые склонны впадать. У меня был достаточно горький и разрушительный опыт, чтобы научиться выделять из мучительных социальных проблем свои собственные, личные и им посвящать остаток сил. Вы можете назвать это цинизмом. Но именно по этим соображениям я решил остаться. Я чувствую себя здесь не клерком, не кабинетным политиком, не министерским воителем, а человеком, которого во время его будничной работы могут обстрелять террористы, и это чувство снимает ощущение рутинности многих наших дел, утверждений. К тому же, генплан Кабула удивительно интересен. Осуществлять его будут на рубеже двадцать первого века в феодальной стране, охваченной социальной революцией. Мои футурологические изыскания в прошлом, изучение афганской архитектурной традиции и личное участие в социальной динамике в духе той, которую мы сейчас пережили, все это дает возможность для синтеза, концентрации моих профессиональных представлений. Может быть заложено в генплан. Мне кажется, я могу внести в него мою лепту. Единственно, что меня останавливает, это жена.
– Ну мы же говорили с тобой! – Белосельцев в зеркальце видел, как нежно и властно она остановила мужа, прижалась к нему. – Если тебе хорошо, то и мне. Не будем об этом. Ты решил, значит, я решила.
Они подъехали к маленькому желтому зданию. Встали рядом с грязно-зеленым бронетранспортером, тем самым железным корытом, в котором день назад Белосельцев колесил по Кабулу, – знакомый солдат, пропитанный сыростью, стоял в рост, ухватившись за ручной пулемет, нацелив его в сторону Дарульамман. Двое других тянули катушку с проводом.
– Вот и приехали, – сказал Карнаухов, пропуская женщин вперед. Входили в сумеречные холодные недра музея, и знакомый красавец-узбек из Ташкента, Зафар, пожимал всем руки, любезно и ярко заглядывал в лица, а широкий, могучий в плечах москвич-реставратор, сероглазый, в клеенчатом фартуке, с тесьмой, удерживающей на лбу русую копну волос, протягивал холодную, испачканную мастикой и краской ладонь, похожий то ли на каменщика, то ли на кузнеца.
– Сегодня еще один золотой стенд закончили, – сказал Зафар. – Теперь бактрийский зал уже можно показывать.
– Пока Зафар поведет вас по своей епархии, я вернусь в мастерскую. А то как бы раствор не застыл. Потом пожалуйте ко мне.
– Он реставратор редчайший, – напутствовал его вслед Зафар. – Срок наш в Кабуле истекает, и он боится не завершить работу. Ночует здесь. Я ему обед доставляю.
Они двинулись по музею, зажигая попутно лампы, озаряя камень, резную кость, алебастр, глядящие отовсюду нарисованные и выточенные глаза. Белосельцев видел, как оживилась, восхитилась Марина, отражая в себе каждый лик, каждый орнамент. Внимала Зафару, кивала, узнавала то, что было прежде ей известно по книгам и к чему теперь вдруг можно было прикоснуться.
Белосельцев то слушал, то отставал, отвлекался. Вглядывался в античные танцующие статуэтки, в блаженные головы Будд, в лазурь мусульманской керамики. Здесь, в этих сумерках, открывалась глубина истории, которая, всплывая на поверхность, являла себя броней транспортеров, пулеметными вспышками, ревущей толпой. Но под этими явными зрелищами, как тающее в глубине отражение, таилось и уходило на дно каменное изваяние Будды, обломок сабли, драгоценный изразцовый орнамент. Он, Белосельцев, действовал и жил в самом верхнем, расплавленном, выгорающем слое, из которого многое, и должно быть он сам, исчезнет бесследно. Но что-то отвердев, как осадок, опустится на тихое дно, займет свое место среди Будд и античных голов.
Зафар их вел мимо кушанских, из серого камня, скульптур, где бог Канишка в одеянии восточного царя расставил упруго ноги, перетянутые ремнями и пряжками, а голова его, отбитая чьим-то древним ударом, лежала в неизвестной долине, занесенная прахом, пропуская над своими глазницами войска и нашествия, караваны слонов и верблюдов, бессчетно бредущие толпы в рубищах, шелках и доспехах. И, быть может, он, Белосельцев, не ведая, в азарте, в погоне, коснулся его стопой, или пронесся над ней на ревущих винтах вертолета, или скользнул мимолетно зрачками сквозь стекло военного транспорта, не зная, что пролетает над головой умершего бога.
Шли вдоль витрин, где искрился лак из Китая, медальоны с луной и солнцем, богиня Ника на львах, эпизоды индийских ведд, царицы на пирах и на танцах, – раскопки из древнего храма, где сливались потоки великих культур, омывали, питали друг друга, создавая в монгольском лице выражение римской матроны, одевали в туники изваяния каменных Будд. Эта коллекция была добыта в Баграме, где над мокрым бетоном крутился стальной радар и взлетали машины с грузом ракет и бомб, урчали заправщики, косо, от гор, снижались два вертолета, неся в лопастях пробоины, оставляя коптящий след.
Зафар подводил их к стене, где висели винтовки и ружья, усыпанные бирюзой, с лебединым изгибом прикладов, гасивших удары в плечо. Показывал ханскую шашку, золотую в самоцветах дугу, испещренную стихами Корана. Драгоценный кинжал, которым был убит английский генерал, – струящееся змеевидное лезвие, словно пламя, колеблемое ветром. Белосельцев рассеянно думал: сколько оружия протекло сквозь эти хребты, от тяжелых стенобитных махин, долбивших рязанские стены, до легкого в смазке винчестера, игравшего в руках басмача.
Белые головы Будд из храма под Джелалабадом, до которых он не добрался среди погонь и вертолетных ударов. Будда в нирване. Под древом познания. В блаженном просветлении. Лунные веки. Мерцающие улыбкой уста. Наконец-то он их увидел, может смотреть бесконечно, погружаться лицом в лицо, как в долину, наполненную лунным светом. Вот он, дивный истинный лик.
– А теперь наше золото! Погребение Тюля-Тепе! – услышал он голос Зафара, торжествующий и как бы сияющий. Пошел на это сияние, на стеклянные саркофаги витрин, где на черном бархате желтели россыпи амулетов, застежек, колец.
– Этот клад относится к первому тысячелетию нашей эры, – вещал Зафар, и Белосельцеву чудились в его музейной негромкой речи мегафонные интонации Сайда Исмаила. – Сюда, из алтайских степей, где сегодня кулундинская наша пшеница, двигались пять великих кушанских родов, волна за волной, вторгаясь в иранский мир, в эллинизм, – великие волны мира! Один род вошел в Индию, другой в Иран, третий в Среднюю Азию, четвертый и пятый осели здесь. И потом, через век, образовалась великая империя Кушан в центре Азии, котел культур и народов, где было живо дыхание Египта и монгольских кочевий!
Белосельцев смотрел на золотые самородки, падающие на черный бархат. Афродита, обнимающая двух крокодилов. Сивилла, вскармливающая льва. Козел с крутыми рогами. Рукоять ножа со звериным гоном, стаей пожирающих друг друга волков. Височное, с тонким плетением кольцо. Каждое изделие, если чуть отстраниться, казалось малым метеоритом, излетевшим из бархатно-черных пространств, золотой брызгой, упавшей с неба, где на страшном удалении кипит золотой котел, роняет редкие капли.
Марина наклонилась над зеркальной поверхностью, рассматривала эти малые золотые планеты, прилетевшие из мироздания, из мастерской таинственного ювелира. Ее губы чуть приоткрылись, туманили холодную поверхность стекла. И у Белосельцева внезапно остро и сладко сжалось сердце, как перед расставанием, и он хотел ее навсегда вот такой запомнить, молодой и красивой, чтобы через много лет, в своей сумеречной немощи, в какой-нибудь тусклой холодной избе, среди старости, немоты, вспомнить ее свежие губы, чудные глаза, легкий туман дыхания на прозрачном стекле.
Они спустились вниз, в мастерскую, где в холодной нетопленой комнате на полу, на подстилках, лежал опрокинутый Будда, в переломах и трещинах. Над ним, приблизив русую, перетянутую лентой копну, склонился реставратор. Брал скальпель – наносил невидимый бесшумный надрез. Или шприц – вводил прозрачную жидкость. Касался ладонью забинтованных, залитых в гипс переломов, марлевых, наложенных на лоб и глаза повязок. Будда казался раненым во время путча, положенным на операционный стол. Реставратор напоминал хирурга-целителя. Руки мастера, испачканные мастикой, протягивались на мгновение к раскаленной красной спирали, согревались и снова оглаживали Будду, массировали ему грудь, оживляли омертвевшее сердце.
За окном зеленела железная броня транспортера. Все также скрюченно стоял афганец-солдат, ухватив ручной пулемет. А здесь человек оживлял умершего Будду, по которому прокатился мятеж, пробежали ревущие толпы, пролязгала, продымила броня. Касался его бережной рукой, дышал, воскрешал любовью, таинственным знанием о добре, добытом в иной земле среди сод, берез, снегопадов. Будда отвечал ему слабой улыбкой.
На обратном пути из музея они отвозили домой Карнаухова, уговариваясь о завтрашней встрече. У одного из ковровых дуканов хозяин выволок на улицу большой черно-красный ковер, разворачивал его на проезжей части, приглашая водителей наезжать на ковер, разминать колесами шерстяные узлы и складки.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































